Рассмотрено отношение большевиков к панисламизму. Большевики иногда называли панисламизм «выдумкой царских времен». Однако контексты, в которых они использовали это понятие, и ряд их политических шагов свидетельствуют о том, что новая власть выступала в начале своей деятельности не только в качестве новатора и ниспровергателя, но и иногда в качестве преемника практик Российской империи в отношении ислама и мусульман.
Pan-islamism in the interpretation of the Bolsheviks: liberation movement, threat or invention? (1917-1924).pdf Одно из фундаментальных новшеств, на которое претендовала партия большевиков, - решение «национального» вопроса на основе признания права наций на самоопределение. Ее политика в отношении религии несла в себе одновременно и светский, и атеистический заряд. После 1917 г. большевики делают ряд шагов, направленных на завоевание симпатий как российских мусульман, так и их зарубежных единоверцев, надеясь найти в них союзников в борьбе против западного империализма. Яркими точками на пунктирной карте «восточной» политики большевиков являлось знаменитое «Обращение к трудящимся мусульманам России и Востока», принятое СНК 20 ноября 1917 г, а также ряд общероссийских и международных съездов по проблемам угнетенной Азии, организованных в Советской России. Проведение последних, по мнению М.А. Пер-сица, фактически означало переход большевиков (в условиях утраты Западом революционной перспективы) к пропаганде идеи открытия восточного фронта мировой революции [1. C. 12-14]. Продуманные действия в политике большевиков сочетались с экспериментами. Противоречия в «исламской» политике объяснялись среди прочего тем, что она вырабатывалась между Сциллой идеологии и Харибдой политического прагматизма. Поскольку большевики пробовали играть на «исламском поле», им следовало сформулировать какую-то позицию в отношении панисламизма - феномена, который и после Первой мировой войны одним казался фантомом, а другим - реальной силой (угрожающей или вселяющей надежду). Исследования и российских, и зарубежных авторов, посвященные «советскому» исламу, политике советского государства в отношении ислама и мусульман, стали важной и заметной частью работ о советском прошлом, вышедших в свет в последние десятилетия. Их авторы фокусируют внимание, в частности, на изучении восприятия мусульманскими элитами событий русской революции и их реакции на революционный кризис и на приход к власти в России большевиков. В них изучаются как причины, подталкивавшие различных мусульманских деятелей к сотрудничеству с большевиками, и перипетии этого сотрудничества, так и попытки большевиков инструментализировать ислам, мобилизовать и возглавить антиколониальное движение мусульман [2-8]. Оценка, в соответствии с которой большевики негативно относились к панисламизму (на что указывали многие авторы), будучи в целом справедливой, неполна и статична. Она не учитывает изменения подходов большевиков к панисламистскому движению и к понятию «панисламизм», которое использовалось в разных контекстах, наполнялось разными, зачастую противоречивыми смыслами и становилось не только предметом отрицания и критики со стороны большевиков, но и - на первом этапе - предметом дискуссий. Цель данной статьи - рассмотреть восприятие представителями большевистской власти панисламизма в 1917-1924 гг., в период, отмеченный максимальным стремлением большевиков использовать в свою пользу «мусульманский фактор» [9. С. 60]. Обращаясь к высказываниям советских руководителей, а также к документам, в которых отражалась политика большевиков в Туркестане, автор исследует, как функционировал и какое место занимал концепт «панисламизм» в политическом языке большевиков, каким содержанием он наполнялся и какую роль играл во внутриполитической борьбе. Панисламизм и национализм: тождество или различие? Американская исследовательница Никки Р. Кедди высказала в своей статье интересное предположение, согласно которому панисламизм, переживший свой расцвет в конце XIX и начале XX в., был важным шагом в переходе от исламской к национальной лояльности [10. P. 18]. По ее мнению, панисламизм, как и азиатский и африканский национализм, стал прежде всего реакцией на западный империализм. Сходной точки зрения придерживается и исследователь Адиб Халид, С.А. Шерстюков 102 полагающий, что панисламизм представляет собой сложное явление, порожденное современностью и более близкое к национализму, чем к религии. По мнению Адиба Халида, при изучении панисламизма необходимо различать три разных аспекта проблемы: панисламизм в понимании современных европейцев; панисламизм как османская государственная политика («государственный панисламизм»); панисламизм как новая форма эмоциональной солидарности, которая объединяла мусульманскую элиту вокруг османского государства («общественный панисламизм») [4. P. 201]. Большевики также стремились соотнести национализм с панисламизмом и иногда признавали, что последний имеет отношение к освободительному движению. Исследователи Д.Ю. Арапов и Г.Г. Косач, характеризуя начальный период «исламской» политики РКП(б), писали, что множество обстоятельств внутреннего и внешнего характера определило гибкость и осторожность политики правящей партии и созданных ею органов по отношению к мусульманским духовным кругам и рядовым мусульманам [11. C. 11]. Однако подобный подход не распространялся, как правило, на панисламизм. В.И. Ленин в своих тезисах по национальному и колониальному вопросам, подготовленных в июне-июле 1920 г. ко II Конгрессу Коммунистического Интернационала, допускал временный союз (на особых условиях) с «буржуазно-демократическими национальными движениями в колониях и отсталых странах» [12. С. 167]. В то же время он призывал к борьбе с «духовенством и прочими реакционными и средневековыми элементами...», а также с «.панисламизмом и подобными течениями, пытающимися соединить освободительное движение против европейского и американского империализма с укреплением позиции ханов, помещиков, мулл.» [Там же. С. 166]. Признавая, что панисламизм имеет некоторое отношение к освободительному движению, Ленин, очевидно, разводил понятия «национализм» и «панисламизм», считая последний инструментом в руках сил, которые он называл реакционными. Понимание панисламизма, предложенное И.В. Сталиным, отличалось от ленинского. В своем докладе на X съезде РКП(б), посвященном национальному вопросу, он говорил об «.уклоне в сторону местного национализма, который наблюдается иногда в рядах нерусских коммунистов и который выражается на Востоке, например, в панисламизме, пантюркизме» [14. C. 77]. Таким образом, Сталин ставил знак равенства между панисламизмом и национализмом (имея в виду буржуазно-демократический национализм). Эти понятия часто рассматривались разными авторами и до и после революции как близкие (идентичные) и писались через запятую. Впрочем, в этом была определенная логика. Как заметил исследователь А. Беннигсен, одной из специфических тенденций, изначально присущих панисламистскому и пантюркистскому движениям в России, являлось то, что они выступали в ней в качестве взаимодополняющих, а не противостоящих друг другу, как это было в Османской империи [13. P. 40]. Однако в отличие от национализма, который в политическом языке большевиков мог иметь амбивалентные толкования («великодержавный национализм» и «национализм угнетенной нации»), панисламизм наполнялся только негативным содержанием. Даже у национализма могло быть неполитическое измерение, у панисламизма - нет. «Плохой» национализм мог быть равен панисламизму или связан с ним, «хорошего» панисламизма не могло быть по определению. Сталин и другие представители большевистской элиты иногда прибегали к казуистическим формулировкам, отражавшим их попытки найти «правильный» национализм. Можно увидеть много подтверждений настороженного отношения большевиков к национализму как таковому, но национализм, в отличие от панисламизма, нельзя было просто подвергнуть осуждению и запретить, с ним нужно было работать. Причины враждебного отношения большевиков к панисламизму легко объяснимы: во-первых, это идеология, выросшая из религии и черпавшая в ней жизненную силу; во-вторых, большевики, выступившие с глобальным проектом переустройства мира, не могли не относиться отрицательно к панисламистской идеологии и риторике, несущим явный универсалистский посыл, обращенный в том числе к советским мусульманам (несмотря на поражение Османской империи и появление вильсоновского и социалистического интернационализма в качестве важных альтернатив в межвоенный период, панисламистское движение продолжало играть значимую роль после Первой мировой войны [15. P. 682]); в-третьих, большевики знали и непрестанно подчеркивали, что панисламизм нередко выступал в качестве инструмента в политике как восточных (Османской империи, Афганистана), так и западных стран. Панисламизм и «красное знамя социализма» на Востоке В свете задачи революционизации Востока возникла потребность не только в расширении пропаганды идей социализма, но и в поиске сил, в союзе с которыми можно было бы повести борьбу против западного империализма. Съезд народов Востока в Баку в 1920 г., странные, запутанные отношения большевистского руководства с Энвер-пашой и Джемаль-пашой - свидетельства того, что в тот период большевиками рассматривалась возможность вовлечения в борьбу с Великобританией сил, максимально далеких от идеологии социализма. О стремлении большевиков «зажечь костер восточной освободительной революции» и их неразборчивости в поисках союзников писал в январе 1920 г. Мустафа Чокаев: «Союзников коммунисты ищут и, надо сказать правду, находят всюду. Их совершенно не интересует классовая или социальная принадлежность адептов: национал-шовинист, пантюркист, панисламист или, наконец, клерикал, - все равно, лишь бы против Англии» [16]. Большевики полагались на солидарность мусульман (рассчитывая в том числе с помощью российских Панисламизм в трактовке большевиков 103 мусульман «достучаться» до их единоверцев на мусульманском Востоке), готовы были привлечь к сотрудничеству деятелей, известных как приверженцы панисламизма, но негативно и враждебно относились к панисламизму как политическому течению и идеологии. Впрочем, в рядах большевиков и их идейных сторонников находились люди, пытавшиеся «реабилитировать» панисламизм. Одним из них был лидер национал-коммунистов Мирсаид Султан-Галиев, человек, стремившийся творчески соединить ислам и социализм. Отнеся в своем «докладе по восточному вопросу» панисламизм и панмонголизм к течениям, которые возникают на Востоке под давлением западноевропейского империализма, Султан-Галиев приходил к простому и, как казалось ему, очевидному выводу: «Нам нужно в первую голову покончить с международным империализмом, следовательно, мы должны поддерживать всякое движение, которое направлено к этой цели» [17. C. 219]. Султан-Галиев полагал, что панисламистские течения следует поддерживать из прагматических соображений, даже принимая во внимание риск возникновения впоследствии в восточных странах (после победы над «западным империализмом») «восточного империализма». Таким образом, Султан-Галиев делал акцент прежде всего на антиимпериалистической природе и направленности панисламизма и, видимо, сознательно не наделял его другими характеристиками. В сходных выражениях лидер индонезийских коммунистов Тан Малака, выступая в конце 1922 г. на IV Конгрессе Коминтерна в Москве, пытался оспорить принятый Коминтерном тезис Ленина о панисламизме. Он утверждал, что между панисламизмом и борьбой угнетенных мусульманских народов не только нет противоречий, но что она возможна (и идет) только в этой форме: «Сегодня панисламизм означает национально-освободительную борьбу, потому что для мусульман ислам - это все: не только религия, но и государство, экономика, еда и все остальное» [18]. Прагматическим подходом к панисламизму руководствовались и составители документа «Наши ближайшие и основные задачи на Мусульманском Востоке», исходившие из положения о том, что «...восстания в странах Востока имеют ценность даже как явления часто негативного характера. и ввиду этого социально-политическое содержание их имеет для интересов социалистической революции второстепенное значение» [19. Л. 191]. В этом же документе отмечалось, что революционные движения в мусульманских странах будут «.развиваться под лозунгами молодой прогрессивной буржуазии. с легким налетом «собственных» империалистических поползновений, идеологически выражающихся в идеях панисламизма, пантюркизма и т.п., однако по отношению странам не мусульманским имеющим характер империализма чисто оборонительного, а не наступательного» [Там же]. Следовательно, несмотря на публичное осуждение панисламизма, по крайней мере, часть большевиков и ориентированных на них зарубежных коммунистов считали допустимым использование его потенциала в борьбе с западным империализмом. Туркестан как «цитадель революции на Востоке»: панисламизм и политическая борьба В РКП(б) шли постоянные дискуссии относительно способов решения «национального вопроса» и того, как выстраивать политику в Туркестане, однако, насколько можно судить по документам, в тот период, когда идея экспорта революции на Восток еще не была отброшена, большевики и в центре, и на местах сходились во мнении, что наиболее подходящим местом для выполнения этой задачи является Туркестан. Туркестан рассматривался как своеобразный полигон, на котором должны были быть выработаны новые формы политики и жизни, которые бы контрастировали с колониализмом и империализмом и могли привлечь мусульман стран Востока на сторону Советской России. Местные коммунисты-мусульмане, используя это обстоятельство, пытались влиять на политику Центра в нужном для них направлении и получить дополнительные очки в политической борьбе. Тезисы Ленина ко II Конгрессу Коминтерна были подвергнуты критике местными коммунистами в Туркестане. В письме, адресованном Ленину и подписанном Т. Рыскуловым, А. Байтурсуновым, Н. Ходжаевым и другими коммунистами, формулировалась узловая проблема, состоявшая в сохранении колониального положения Туркестана, отношении к нему Центра как к колонии. В том, что Ленин уделяет такое внимание панисламизму (по их определению - «.Абдулгами-довский бред, широко популяризированный в колониальной миссионерской литературе европейскими империалистами», «.не имеющий никакой реальной почвы не только среди народной массы, но даже среди буржуазно-демократической интеллигенции» [20. Л. 14]), они видели подтверждение того, что со сменой власти в регионе не изменился политический репертуар: панисламизм, являющийся, по их мнению, «выдумкой империалистической Европы», рассматривается советской властью по примеру исчезнувшей царской власти как серьезная угроза. В другом докладе Ленину Рыскулов сетовал на то, что «.многие работники Центра под науськиванием старых миссионеров, вроде Лыкошиных, Андреевых и т.д., .видят «панисламистов» в коммунистах-мусуль-манах» [21. Л. 36], и сам обращался к языку, более подходящему, по его мнению, для описания политической ситуации в регионе, говоря о конфликте между прогрессивной интеллигенцией и духовенством, о расколе как духовенства («на старый, застывший и реформаторский слой»), так и интеллигенции на две части. Рыскулов и многие коммунисты-мусульмане полагали, что в новом мире, который начала строить советская власть, надо отказаться (не только на словах, но и на практике) от страхов, стереотипов и разделений, характерных для колониального прошлого. После революции и в период Гражданской войны Туркестан захлестнула волна насилия, жертвами которого становились как мусульмане-коммунисты, так и простые обыватели, и которое нередко принимало характер межэтнических столкновений. На заседании секции по национальным делам 7-го Чрезвычайного С.А. Шерстюков 104 съезда Советов Туркестанской Советской Республики, состоявшемся 16 марта 1919 г. (председателем секции был П. Кобозев, ставший в марте 1919 г. членом Особой комиссии Совнаркомa РСФСР по делам Туркестана, товарищами председателя - Т. Рыскулов и Н.И. Ходжаев) ее участники приводили многочисленные примеры насилия и произвола в отношении местного населения и мусульман-коммунистов в Фергане не только со стороны вооруженных отрядов Иргаша и Мадамин-бека, но и со стороны комиссаров и Красной гвардии, особенно подчеркивая действия армян, представлявших партию «Дашнакцутюн» [22. Л. 75]. В резолюции данной секции содержался призыв к правительству автономного Туркестана вооружить (наравне с русскими коммунистами) мусульманский пролетариат. Резолюция заканчивалась риторическими вопросами, обращенными к правительству автономного Туркменистана: «Понимает ли правительство, что подобной тактикой недоверия к целым народам мусульманства, населяющим Туркестан, оно выбивает всякую почву из-под ног защитников советской власти и коммуны и готовит новый взрыв панисламистских идей наподобие старого царского правительства? Что сделали представители мусульманства, находящиеся в рядах правительства, против такого разжигания чувств национальной вражды?» [Там же. Л. 80]. Таким образом, в одних ситуациях рассуждения в терминах «панисламистской угрозы» рассматривались местными коммунистами как следование колониальной практике царской власти и подвергались критике, однако в другом контексте местные коммунисты и представители Центра сами сознательно использовали в своем дискурсе тезис о нарастающей угрозе распространения панисламистский идей в Туркестане. И в первом и во втором случае апелляция к панисламизму являлась одним из способов усиления собственных позиций и дискредитации оппонентов в ходе внутрипартийных споров и политической борьбы, которая состояла в том числе в стремлении каждой из сторон утвердить собственное описание проблем региона (и их источников) в качестве более правильного и точного. Бухара, Энвер-паша и панисламизм Советскому руководству в начале 1920-х гг. приходилось решать в Туркестане две во многом взаимоисключающие задачи, одна из которых состояла в том, чтобы сделать Туркестан «окном» в мусульманский мир, другая - в том, чтобы «замирить» Туркестан, не допустив по возможности инфильтрацию в Туркестан «опасных» идей и людей. И если первая задача выглядела все более эфемерной (Сталин в 1923 г. дал весьма скептическую оценку революционного потенциала азиатских мусульманских «низов» как «тяжелого резерва Востока» [23. С. 135]), то вторая - в условиях продолжающегося противоборства с басмачами - становилась все более актуальной. Переход Энвер-паши на сторону антибольшевистских сил еще больше повысил ставки для Москвы. Туркестан все больше начинает рассматриваться не как плацдарм для экспорта социальной революции на Восток, а как «ахилессова пята» Советской России, как место, куда могут нанести удар ее противники. После свержения большевиками в сентябре 1920 г. эмира Бухары и создания «Бухарской народной республики» волнения охватили и Восточную Бухару [15]. Кризис ускорил лишение (к началу 1922 г.) правительства БНСР во главе с Ф. Ходжаевым какой-либо самостоятельности. Панисламистская угроза, исходившая не только от Энвера, соседнего Афганистана, но и, как считали некоторые вовлеченные наблюдатели, от самого младобухарского правительства (или его части), являлась, возможно, не единственным, но веским основанием для подобного курса. Однако и в это время, судя по документам, существовало два полюса восприятия панисламизма (и его роли в описываемых событиях) - как «выдумки царского периода» и как серьезного вызова. Первой точки зрения придерживался, в частности, председатель комиссии по борьбе с басмачеством, имя которого в документе не указано, призывавший не переоценивать роль Энвера и панисламизма в происходившем восстании и считавший главной причиной басмаческого движения ошибки, допущенные большевиками, которые в «...революционном энтузиазме довольно легко разрешали весь “восточный вопрос”» [25. Л. 50]. Другая точка зрения была выражена в докладе бухарских коммунистов в Коминтерн, подписанном председателем ЦК Бухарской коммунистической партии Н. Хусаиновым. В нем приводились аргументы в пользу того, что Восточная Бухара «.является той благодарной почвой, на которой пропаганда панисламизма может дать обильные плоды», среди них - географическое положение Восточной Бухары («...прилегает к 3 областям с особенно фанатичным мусульманским населением: к Фергане, Афганистану, и к Читралу»), враждебность бухарского правительства к коммунизму и советской политике («.поставило себе задачу организовать конституционную монархию и слиться с панисламистским движением») и, конечно, присутствие (и активная деятельность) там Энвер-паши, который характеризовался как талантливый полководец и выдающийся организатор, герой ислама и популярнейшее лицо в мусульманском мире [26. Л. 75-78]. Адиб Халид считал, что восстание басмачей носило региональный характер, а его руководители не действовали ради таких абстрактных понятий, как «нация» или «исламское сообщество», и именно в силу этого, полагал он, попытки многих джадидов, младобухарцев и Энвер-паши использовать сопротивление басмачей в политических целях ни к чему не привели [27. С. 208]. Как ни странно, эта оценка встречалась и в официальных документах, басмачество - главная антисоветская сила в Туркестане - нередко рассматривалось в них вне национального или панисламистского контекста. В дискурсе имперских властей в конце XIX - начале XX в. панисламизм выступал в качестве важного, иногда центрального сюжета, структурирующего представления чиновников разного уровня о «мусуль- Панисламизм в трактовке большевиков 105 манском вопросе». В дискурсе большевистской власти топос панисламизма встречался не так часто и занимал менее значимое место. Однако хотя большевики, стремившиеся в своем языке и политике максимально дистанцироваться от практик Российской империи, нередко называли угрозу панисламизма «выдумкой царских времен», в некоторых советских документах есть признаки того, что А. Моррисон, анализировавший отражение событий Андижанского восстания в документах российских властей, назвал информационной паникой [28]. В политическом языке большевиков понятие «панисламизм» имело разное содержательное наполнение и, в зависимости от контекста, могло выполнять разные функции. Иногда оно выступало в качестве одной из описательных характеристик (конечно, отрицательной) местного политического пейзажа. «Панисламистская угроза» порой становилась символическим ресурсом, который стремились использовать разные силы в политической борьбе, частью которой являлась и борьба за «верное» описание мира, возникавшего на обломках Российской империи. Если в период, когда большевики еще не отказались от планов революционизации «угнетенного Востока», в советских документах еще можно встретить оценки панисламизма как движения хотя и негативного, но обладающего антиколониальным потенциалом, который можно использовать, то позднее, по мере изменения подходов советского руководства к «восточной политике» и роста басмаческого движения в Туркестане, панисламизм начинает трактоваться все более однозначно - как антисоветское движение и опасный инструмент в руках враждебных большевикам сил (внутренних и внешних).
Моррисон А. Суфизм, панисламизм и информационная паника: Нил Сергеевич Лыкошин и последствия андижанского восстания // Tartaria Magna. 2013. № 2. С. 44-87.
РГАСПИ. Ф. 544. Оп. 4. Д 19. Л. 75-79.
Халид А. Ислам после коммунизма: религия и политика в Центральной Азии / пер. с англ. А.Б. Богдановой. М. : Новое литературное обозрение, 2010. 304 с.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 33. Д. 135. Л. 50-64.
Арапов Д.Ю. Мусульманский Восток в деятельности М.В. Фрунзе // Ислам в современном мире. 2016. № 12 (3). С. 127-138.
Халид А. Туркестан в 1917-1922 годах: борьба за власть на окраине России // Трагедия великой державы: национальный вопрос и распад Советского союза. М. : Соц.-полит. мысль, 2005. С. 189-226.
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 3. Л. 14-15 об.
РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 1. Д. 2920. Л. 29-38.
РГАСПИ. Ф. 122. Оп. 1. Д. 311. Л. 75-80.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 122. Оп. 1. Д. 30. Л. 191-192.
Султан-Галиев М. Доклад по восточному вопросу // Избранные труды. Казань : Гасыр, 1998. C. 215-222.
Tan Malaka Communism and Pan-Islamism (1922) // Tan Malaka Archive. URL: https://www.marxists.org/archive/malaka/1922-Panislamism.htm (дата обращения: 01.02.2018)
Чокаев М. «Большевизм в чалме» (Страничка восточной политики туркестанских большевиков) // Борьба (Тифлис). 1920. 21 янв. URL: http://islamperspectives.org/rpi/items/show/10675 (дата обращения: 01.02.2018).
Aydin C. Pan-Nationalism of Pan-Islamic, Pan-Asian, and Pan-African Thought // The Oxford Handbook of the History of Nationalism / ed. J. Breuilly. Oxford : Oxford University Press, 2013. P. 672-694.
Сталин И. Очередные задачи партии в национальном вопросе // Марксизм и национально-колониальный вопрос : сб. избр. ст. и речей. М. : Партиздат ЦК ВКП(б), 1937. C. 73-81.
Ленин В.И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М. : Политиздат, 1981. Т. 41: Май-ноябрь 1920. 696 с.
Bennigsen A. Panturkism and Panislamism in History and Today // Central Asian Survey. 1984. Vol. 3, № 3. P. 39-49.
Keddie N.R. Pan-Islam as Proto-Nationalism // The Journal of Modern History. 1969. Vol. 41, № 1. P. 17-28.
Ислам и советское государство : (по материалам Восточного отдела ОГПУ. 1926 г.) / вступ. ст., сост. и коммент. Д.Ю. Арапова и Г.Г. Косача. М. : Марджани, 2010. Вып. 1. 152 с.
Fowkes B., Gokay B. Unholy Alliance: Muslims and Communists: An Introduction // Journal of Communist Studies and Transition Politics. 2009. Vol. 25, № 1. P. 1-31.
Арапов Д.Ю. Этническое и конфессиональное в российском «мусульманстве»: исламская политика государства в XX-XXI веках // Вестник Евразии. 2007. № 3. C. 58-67.
Yenen Alp. The Other Jihad: Enver Pasha, Bolsheviks, and Politics of Anticolonial Muslim Nationalism during the Baku Congress 1920 // The First World War and its Aftermath: The Shaping of the Middle East. London, 2015. Р. 273-293.
Yamauchi M. The Green Crescent under the Red Star: Enver Pasha in Soviet Russia, 1919-1922. Tokyo : Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa, 1991. 395 p.
White S. Soviet Russia and the Asian Revolution, 1917-1924 // Review of International Studies. 1984. Vol. 10, № 3. Р. 219-232.
Исхаков С.М. Российские мусульмане и революция (весна 1917 г. - лето 1918 г.). 2-е изд., испр. и доп. М.: Соц.-полит. мысль, 2004. 592 с.
Khalid A. Pan-Islamism in practice. The rhetoric of Muslim unity and its uses // Elisabeth Ozdalgaed. Late Ottoman Society: The Intellectual Legacy, SOAS / RoutledgeCurzon Studies on the Middle East. London ; New York : Routledge Curzon. 2005. Р. 201-224.
Персиц М.А. Застенчивая интервенция: о советском вторжении в Иран и Бухару в 1920-1921 гг. М. : Муравей-Гайд, 1999. 200 с.
Россия - Средняя Азия / гл. ред. А.А. Кокошин; МГУ им. М.В. Ломоносова, Фак. мировой политики. М. : Ленанд, 2011. Т. 2: Политика и ислам в ХХ - начале XXI вв. 368 с.
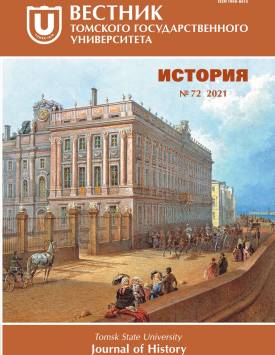

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью