Организация труда осужденных: история идеи в английской общественной мысли XVI-XVIII вв.
Рассматривается содержание идеи использования принудительного труда осужденных в контексте английской общественной мысли XVI-ХVIII вв. Пользуясь методологическим инструментарием школы «истории идей», выделена идея-единица (по А. Лавджою) - использование труда заключенных - и рассмотрено конструирование системы организации такого труда в учениях или мнениях сторонников различных интеллектуальных традиций.
The unit-idea of «the forced labor of prisoners» in English public thought of XVI-XVIII centuries.pdf Идея использования труда осужденных, пожалуй, одна из самых спорных и противоречивых по своему содержанию. Постоянно оставаясь в фокусе внимания реформаторов и исследователей, принцип принудительного труда имеет под собой несколько научно обоснованных концепций: экономическая выгода, форма социального контроля, воспитательная мера и источник исправления осужденного. В зависимости от эпохи, которая выносила на повестку идею труда заключенных, менялись как научное видение и практические основы организации, так и «ярлычки», которыми помечали эту форму уголовного наказания: «каторжный труд», «исправительно-трудовое воспитание», «принудительный труд» и пр. Классическая пенология1 рассматривает переход от карательных наказаний Средневековья к тюремному содержанию и организации труда осужденных как результат пенитенциарных реформ - общеевропейской тенденции XIX столетия, выразившейся в изменении базовых принципов уголовного правосудия на основе идей гуманизма и Просвещения. Рациональная система мер борьбы с преступностью, изложенная в трудах английских реформаторов и практиков XVIII в. -Дж. Говарда, С. Ромилли, И. Бентама, - предполагала установление религиозно-нравственных основ тюремного заключения и переход к практике исправительного труда. Лейтмотивом пенитенциарных реформ стало знаменитое выражение Джона Г оварда: «Сделайте людей трудолюбивыми, и вы сделаете их честными». Научным апогеем зарубежных исторических исследований в русле классического гуманистического подхода к проблеме можно считать совместный труд супругов Уэбб «Местное самоуправление: английские тюрьмы» [1] и первую часть фундаментального пятитомного произведения «История английских уголовных законов» Л. Радзиновича [2]. Авторы едины в оценке пенитенциарных реформ XIX столетия как кульминации прогрессивного движения за модернизацию средневековой тюрьмы. Гуманистические принципы содержания заключенных, предусматривавшие систему исправительно-трудового и религиозного воспитания, стали основой национальных пенитенциарных систем в странах Европы и Америки. Российские тюрьмоведы2 XIX - начала ХХ в. в целом придерживались сходных идейно-теоретических позиций и оценок пенитенциарных реформ [3]. В ХХ в. гуманистические взгляды классической пенологии на исправительные возможности принудительного труда были подвергнуты ревизии, что привело к формированию нескольких теорий и научных школ. Последователи криминологической теории К. Маркса увидели причину возникновения преступности в классовом расслоении общества, а причину перехода от смертной казни и телесных наказаний к принудительному труду в форме каторги, ссылки, галер и труда в условиях длительного тюремного заключения - в экономических условиях капитализма. Система становления принудительного труда рассматривается в этой связи как один из источников трудовых ресурсов -закономерный итог развития капитализма в странах Европы [4. Р. 13-16]. Продолжением марксизма в пенологии стали теории, связывающие появление тюрьмы с меркантильным желанием использовать труд заключенных на благо государства вместо «неэффективного» средневекового устранения провинившихся. На основе данной теоретико-методологической концепции все виды национальной каторги, английские работные дома, французские галеры, голландские ремесленные дома трактуются как общеевропейская тенденция в уголовно-исполнительной практике [5]. Квинтэссенцией «рыночного подхода» к уголовному наказанию является работа Г. Руше и О. Кирчхеймера, которые предлагали «сорвать с институтов наказания их идеологический покров... и описывать их в реальных производственных отношениях» [6. Р. 20]. Проанализировав соотношение наказания с существующими производственными отношениями и ситуацией на рынке труда, авторы приходят к выводу: в обществах, где труд избыточен (например, «маргиналы» позднего Средневековья - бродяги, попрошайки, нищие, итальянские лаццарони и пр.) широко распространена смертная казнь и калечащие наказания. Когда относительная ценность труда возрастает, меняются пенальные практики: галеры, каторга, переход к труду в условиях тюремных стен. Советская пенология испытала значительное влияние марксистской школы. Советские ученые-пенитен- С.А. Васильева 116 циаристы и практики (Л. Коган, М. Берман, Я. Рапопорт, И. Авербах) дополнили марксистскую пенитенциарную теорию идеологически окрашенным тезисом о «безграничных возможностях трудового воздействия на формирование личности» [7], чем заложили основы еще одной сугубо практической науки - советского исправительно-трудового права. В западноевропейской историографии ХХ в. сторонники неклассического взгляда на рассматриваемую проблему объединены в условную исследовательскую группу приверженцев ревизионизма. В русле неклассической пенологии ревизии были подвергнуты мотивы реформаторов XVIII-XIX вв. как исключительно гуманистические, а также оспорен основной результат реформ - переход к исправительной уголовноисполнительной системе. Ревизионисты рассматривают процесс перехода к пенитенциарным учреждениям как результат изменения социальной природы наказания. Всемирно известный специалист в области юридической антропологии Норбер Рулан пишет: «Большой спектакль физического наказания исчезает, - люди избегают смотреть на терзаемое тело. Стали искать иные решения, по-прежнему направленные на исправление виновного» [8. С. 34]. Популярной вариацией ревизионизма стала распространенная в европейской и американской историографии теория социального контроля. Американский исследователь Д. Ротман рассматривает тюрьму как один из элементов всеобъемлющей социальной программы по контролю над девиациями в обществе наряду с психиатрическими больницами, школами, приютами и богадельнями [9]. В таком контексте принуждение к труду является частью сложного механизма общественного контроля за быстро увеличивающимся рабочим классом. Интересный синтез классического и ревизионистского подходов в пенологии представил канадский историк М. Игнатьефф в работе «Справедливая мера страданий: тюремная система в индустриальной революции 1750-1850». Предположив, что так называемые «гуманистические мотивы реформы» были всего лишь маскировкой глубокого социального кризиса, выразившегося в стремлении среднего класса доминировать над стремительно выходящим из-под контроля рабочим классом, он представил «поверхностный гуманитарный импульс» реформ как «доминирование прагматизма» в попытке удержать господство правящих классов [10. Р. 207-209]. В последующих работах М. Игнатьефф призвал к новой социальной истории и пересмотру устоявшихся взглядов на становление системы наказания [11]. Одновременно были последовательно подвергнуты критике те положения теорий марксистской направленности, которые обусловливали переход к использованию труда заключенных исключительно развитием капитализма и колебаниями рыночного спроса на этот ресурс [12]. Следствием «культурного поворота», который пережила мировая историография во второй половине XX века, стало смещение исторических исследований в интердисциплинарное пространство. Сближение истории с психологией, разработка методологии исторической психологии, истории ментальностей, интеллектуальной истории привели к возникновению новых способов реконструкции исторического мира. От истории норм, через историю идей исследователи осторожно приступили к воссозданию психологического склада отдельных исторических эпох. Современная историческая пенология связывает появление представлений о возможностях использования труда заключенных с исканиями пенитенциарных реформаторов второй половины XVIII - XIX в. В данной статье, следуя методологии истории идей, мы предпримем попытку, углубившись в предшествующие эпохи, обнаружить составляющие элементы искомой идеи -организации труда осужденных - в оригинальной аранжировке. К таким удивительным открытиям можно отнести знаменитую «Утопию» Томаса Мора. Уже в начале XVI в. (1516) Т. Мор высказал суждение о нецелесообразности «рубить голову» тем, у кого «нет никакого другого способа снискать пропитание» [13. С. 23], т.е. о недопустимости высшей меры в отношении так называемых экономических, или имущественных, преступлений. Утопист ставит важнейший вопрос о социальной обусловленности преступлений типа краж и грабежей, вменяя обществу и государству ответственность за совершение гражданами имущественных преступлений, за непредставление таких условий, «чтобы никому не предстояло столь жестокой необходимости сперва воровать, а потом погибать» [Там же. С. 23]. Автор приводит в пример выдуманный народ, «не маленький и вполне разумно организованный», - поли-леритов, которые практикуют общественные работы за кражи, не осложненные преступлением против личности. Работающие на государство питаются и содержатся за казенный счет, одеты в один определенный цвет, а по ночам «после поименного счета, их запирают по камерам». За попытку бросить работу полагается казнь, равно как за соучастие другого раба (так именуют приговоренных к общественным работам) в предполагаемом бегстве. Таким образом, осужденные за кражу полилериты не только отрабатывают совершенную кражу, свое содержание во время принудительных работ, но и вносят часть заработка в государственную казну [Там же. С. 33-34]. Подводя итог обычаям выдуманного народа, Т. Мор оценивает порядки как «человечные и удобные», при которых «люди остаются в целости и встречают такое обхождение, что им необходимо стать хорошими и в остальную часть жизни искупить все то количество вреда, которое они причинили ранее». И если преступник, осужденный за кражу, «будет послушен, скромен и подаст доказательства своего стремления исправиться в будущем, то он может под этими условиями рассчитывать на обратное получение свободы» [Там же. С. 3536]. Таким образом, на два столетия раньше пенитенциарных реформаторов Т. Мор не только предложил эффективное для государства использование принудительного труда, но и выделил основное назначение воображаемой системы - исправление преступных нравов и потенциальная ресоциализация (возвращение в общество) преступника. Поднимая вопрос о социальной и нравственной природе проблемы преступно- Организация труда осужденных: история идеи в английской общественной мысли 117 сти, Т. Мор словно предупреждает: «Если вы не уврачуете этих бедствий, то напрасно станете хвастаться своим испытанным в наказаниях воровства правосудием, скорее с виду внушительным, чем справедливым и полезным» [13. С. 30]. И в этом контексте труд выступает как раз таким средством «уврачевания» социальных пороков и девиаций. Сходные мысли высказывал современник Т. Мора, политический деятель и гуманист, королевский капеллан Генриха VIII Томас Старки. В своем главном произведении «Диалог Томаса Лапсета и Реджинальда Пола» Т. Старки рассматривает социальные и экономические «недостатки» в жизни общества и советует «для начала вскрыть их причины, а не ополчаться на результаты, как это обыкновенно заведено» [14. Р. 31]. Истоки социальных девиаций - нищеты и бродяжничества, преступности и проституции - Старки склонен видеть не столько в экономических причинах пауперизации деревни, сколько в нравственной составляющей «общественного организма». Не обозначая явных различий между грехом и социальным пороком, королевский капеллан обрушивается на лень, обжорство, пьянство, азартные игры [Ibid. Р. 71, 124, 171]. Противостоять этому, по мнению гуманиста, может строгая система воспитания и «очищения нравов», и возглавить этот процесс должно благородное дворянство. Среди предложений Т. Старки по очищению нравов встречаются «изгнание бездельников и лентяев из страны, ответственность родителей (под угрозой наказания!) за обучение своих детей честным ремеслами и пр. [Ibid. Р. 142]. В перевоспитании мошенников и воров посредством принудительного труда Т. Старки видел несколько ключевых преимуществ: во-первых, возможность возвращения ущерба, нанесенного обществу, во-вторых, физические страдания, вызванные тяжким трудом, как воплощение идеи наказания, и, наконец, укоренение трудолюбия как привычки, которая будет в дальнейшем «направлять их сердца» [Ibid. Р. 131]. Таким образом, общественная мысль XVI столетия вынесла на повестку вопрос о причинах социальных девиаций - преступлений против нравственности, проституции, пьянства, тунеядства, воровства - и предложения по «уврачеванию» этих бедствий. Положение бедняков и нищенствующих стало предметом жарких политических и социальных споров: одни настаивали на социально-благотворительных методах, другие, напротив, обвиняли маргиналов в паразитирующем и безнравственном образе жизни. В стремлениях принять действенные меры по устранению социальных проблем гуманисты и политические деятели не делали четких различий между социальными девиациями, возникшими ввиду «нравственной порчи» или в силу особенностей экономического размежевания населения. В середине XVI в. общественно-политические инициативы по поиску эффективного решения проблемы привели к созданию уникального социального института - домов коррекции3, или исправительных домов. В 1553 г. в Лондоне, в помещении бывшего королевского дворца «Брайдуэлл», был открыт первый «Дом коррекции», что впоследствии привело к нарицательному называнию всех последующих исправи тельных домов в Англии «брайдуэллами». Аналогами английских «брайдуэллов» можно считать голландский «Цухтхауз», созданный в 1596 г., монастырскую тюрьму Сен-Мишель, возникшую в Риме в 1703 г. по приказу папы Климента IX, российские смирительные и работные дома, созданные по приказу Екатерины II. Поскольку целевым назначением исправительных домов было не столько наказание, сколько «коррекция», возникал вопрос о методах и средствах предполагаемого исправления, коими признавались обязательный физический труд и религия. Леность и праздность, склонность к преступному поведению и мошенничеству предполагалось «корректировать» посредством тяжелого труда4 на пользу обществу и государству. Принудительный труд следовало использовать для работы на городских улицах и на сооружениях Темзы. Такая установка не противоречила складывающемуся меркантильному мышлению и стремлениям английских властей и общественности наладить эффективную борьбу с пауперизмом и безработицей. В то же время гуманисты и просветители рассматривали институт исправительного дома как площадку для социальных преобразований. Деятели Реформации с энтузиазмом полагались на коррекционные возможности религиозного перевоспитания и духовного перерождения в условиях исправительных домов, а меркантильных прагматиков привлекала возможность использовать труд «реформируемых» для расчистки улиц. Таким образом, принудительный труд, казалось, решал двуединую задачу - наказания и исправления осужденных. В 1618 г. был опубликован обширный справочник мирового судьи из Кембриджа Майкла Далтона «Правосудие в стране», который до 1746 г. выдержал 20 переизданий, где оригинальным новаторством стал алфавитный порядок судебных прецедентов по разнообразным вопросам: дороги, штрафы, налоги, оружие, мятежи и разбой и пр. Справочное издание десятилетиями служило практическим руководством для мировых судей по юридическим вопросам. В отношении принудительного труда в исправительном доме было рекомендовано назначать его с целью наказания, тем не менее Далтон подчеркивал, что работа должна быть хорошо организована, а осужденные наставляемы в религии, так как трудом и религиозным покаянием «любая натура может быть обуздана, а разум просветлен, другим же это будет в назидание» [15. Р. 113-114]. В XVII столетии идея принудительного труда как альтернативы карательным наказаниям за имущественные преступления получает новый импульс и обретает новый контекст. Век религиозных и политических дискуссий и разногласий открыл общественную полемику по вопросу отмены смертной казни, которая продлится не одно столетие. Источником первых аргументов против смертной казни как наказания за преступления против собственности (воровство, мошенничество, грабеж) стало Писание, авторитет которого в этот пуританский век был неоспоримым. Еще Томас Мор в «Утопии» высказывался против казни воров, апеллируя к закону Моисея: «Бог запретил убивать кого бы то ни было, а мы так легко убиваем С.А. Васильева 118 за отнятие ничтожной суммы денег... Бог отнял право лишать жизни не только другого, но и себя самого; так неужели соглашение людей об убийстве друг друга, принятое при определенных судебных условиях, должно иметь такую силу, чтобы освобождать от применения этой заповеди сто исполнителей, которые без всякого указания Божия уничтожают тех, кого велел им убить людской приговор? Не будет ли в силу этого данная заповедь Божия правомочной только постольку, поскольку допустит ее право человеческое?.. Наконец, и закон Моисеев, несмотря на все его немилосердие и суровость, все же карал за кражу денежным штрафом, а не смертью. Не будем же думать, что в новом законе милосердия, где Бог повелевает как отец детям, Он предоставил нам больший произвол свирепствовать друг против друга» [13. С. 31-32]. Доводы Т. Мора воспроизвел век спустя основатель «Религиозного общества друзей» Джордж Фокс. В петиции к Парламенту «Пятьдесят девять наставлений для исправления положения» (1659) духовный лидер квакеров выразил открытый общественный протест против сметной казни за имущественные преступления. В декларативной форме Фокс заявлял: «Ни один человек не должен предаваться смерти за покушение на движимое имущество, деньги или любой другой проступок» [16]. Формулируя этот постулат, Фокс обращается одновременно к Книге Исхода (Ветхий Завет) и Евангелию. Даже суровая вера Моисея, обращает внимание Фокс, обязывала сохранить преступнику жизнь, для того чтобы он мог исправить причиненный им вред: «И пусть никто не будет предан смерти за кражу крупного рогатого скота, или денег, или любых других вещей, ибо по закону Божию необходимо было восстановить их стоимость в четыре раза, и если не сможет, то пусть продадут его для уплаты за украденное им5. Новый Завет и вера Святых апостолов, продолжает Фокс, вовсе не допускают повешения, ведь в Писании сказано: «Кто крал, впредь не кради, а лучше трудись, делая своими руками полезное, чтобы было из чего уделять нуждающемуся»6. Писание, убеждал Дж. Фокс, предписывает наказание, соразмерное преступлению. Сохраняя преступнику, осужденному за воровство, жизнь, правосудию долженствует предоставить ему и возможность искупить причиненный ущерб, а как еще это можно сделать, если не трудом в пользу того, кому нанесена обида, или в пользу государства, которое вершит правосудие [Ibid]. Еще один квакер, видный английский экономист и реформатор Джон Беллерс, рассматривая доводы в пользу отмены смертной казни, был убежден, что «общество несет экономические убытки, убивая преступников вместо использования их труда» [17. P. 245]. Беллерс предполагал, что при соответствующем гуманном обращении «даже самый злостный негодяй может исправиться», а законодатель, выносящий смертный приговор, ставит «несмываемое пятно на религии», карая за убийство, но совершая такое же непоправимое зло [18. P. 275]. Библейское правосудие в отношении преступлений против собственности предлагал лидер левеллеров, сторонник пуританских взглядов Самюэль Чидли. В петиции «Протест против вопиющего греха» (1652) подробнейше разобрана заповедь о воровстве, которая предписывает отработать свой долг. С. Чидли обрушивается на судебную систему: «Люди могут быть полезны, пока живы, но когда они мертвы, они бесполезны: живая собака лучше мертвого льва. Мы же готовы скорее похоронить, чем нанять на работу, хотя так несправедливо предавать их смерти, когда Апостол говорит: пусть трудится, но нет, говорит судья, он должен быть повешен.» [19. Р. 282]. Далее следует целый комплекс предложений по использованию принудительного труда как альтернативы высшей мере: он [вор, мошенник] может быть отдан в наем той стороне, которая понесла ущерб, пока не отработает украденное в двойном размере. А если никто не пожелает его нанять, государство должно использовать его труд: на земле, на воде, в угольных шахтах, на галерах, в работных домах. Убегут от назначенной работы -сумма долга, которую надлежит отработать, удваивается, выразят отказ трудиться - не получат пищи [Ibid. Р. 283]. Проще всего, рассуждает Чидли, приговорить вора к смерти, нарушая при этом заветы Господа, но пусть же он попробует жить в соответствии с ними. На протяжении всей петиции пуританин апеллирует к Создателю, требует привести в гармонию законы Бога и земное правосудие, а судьям руководствоваться мужеством и страхом перед Богом и не брать грех за нарушение заповедей Его [Ibid. Р. 284]. Богословский дискурс проблемы применения тяжелого труда в качестве альтернативного наказания в XVII в. весьма противоречив. В зависимости от религиозных взглядов авторы видели в принудительном труде средство к исправлению либо источник страданий, посланных в наказание. Если тяжелый труд рассматривался как альтернативное смертной казни наказание, то для осужденных он назначался «в довесок» к принудительному лишению свободы. Пролонгированное наказание в земной жизни постепенно обнаруживает большую устрашающую силу примера, нежели мимолетная смерть. В анонимной публикации под авторством «Искреннего патриота» (1695) «Солон Се-кундус, или Некоторые недостатки английского права с надлежащими советами правовых преобразований» отмечалось: «...английский человек так любит свободу, что [лишение свободы] для него ужаснее, чем бесславная смерть, которая просто неприятна» [20. P. 14]. Даже в сравнении с телесными наказаниями лишение свободы, по мнению автора, воспринимается значительно тяжелее: «Телесные наказания, я имею в виду розги, редко имеют эффективное воздействие в качестве наказания, так как забываются сразу, как только уходит боль. Но потеря свободы произведет куда более сильное впечатление, сделает дыру в сердце и наполнит его глубокой скорбью» [Ibid. P. 15]. Правовые, социальные и психологические последствия назидательного эффекта долгосрочного наказания, сопряженного с принудительным трудом, обстоятельно объяснил Ч. Беккариа: «Наш дух более способен противиться насилию и самым страшным, но непродолжительным болям, чем времени и постоянной тос- Организация труда осужденных: история идеи в английской общественной мысли 119 ке, ибо он может сконцентрироваться, так сказать, на мгновение, чтобы выдержать сиюминутную боль, но не обладает достаточной силой натяжения, чтобы сопротивляться продолжительному и повторяющемуся воздействию страданий второго рода. Смертная казнь как назидательный пример для народа каждый раз требует нового преступления. При замене ее пожизненной каторгой одно и то же преступление дает многочисленные и длящиеся продолжительное время примеры... Тому, кто скажет мне, что пожизненная каторга столь же ужасна, как и смертная казнь, а потому и столь же жестока, я отвечу, что если суммировать все самые несчастные моменты рабской жизни на каторге, то это, может быть, превзойдет по своей жестокости смертную казнь, ибо эти моменты сопровождают человека всю его оставшуюся жизнь, в то время как смертная казнь реализует свою силу в один миг. И в этом преимущество наказания пожизненной каторгой. Оно устрашает больше того, кто наблюдает, чем того, кто от нее страдает.» [21]. Здесь мы наблюдаем еще одну грань принудительного труда -явно выраженные карательный и назидательный эффекты - каторга как наказание. Архиепископ Йоркский Уильям Доуз проповедовал: как Бог может наказывать вечными муками на протяженность вечной жизни «там», так и государство может наказывать человека на весь период жизни «здесь»: «Если того требуют обстоятельства... за отдельные особо тяжкие преступления надлежит приговаривать и к вечному изгнанию или тюремному заключению, в отдельных случаях даже к телесным наказаниям или работе в шахтах и на галерах» [22. P. 8]. По этой «канве» пуританские богословы начинают «вышивать» новый рисунок: если Бог имеет возможность вечного наказания в жизни вечной, то земное правосудие может также, не лишая жизни, растянуть наказание на всю протяженность этой жизни. Пожизненное тюремное заключение, каторжные работы, работы на галерах несут наказание, соизмеримое с длительностью земного пути преступника / грешника, посягнувшего на земные и небесные законы. При этом представители правосудия не отнимают у преступника жизнь, не посягают этим на нарушение заповедей Божьих, а поучительный пример для окружающих имеет долгосрочный эффект: «.если бы эти негодяи после справедливого и законного осуждения были обречены на двадцать один год заключения и каторжных работ, один пример такого рода ужасает больше, чем одновременная казнь ста человек, о которой забывают, как только рассказ окончен» [20. P. 22-23]. В некоторых произведениях, преимущественно проповеднического характера, авторам удавалось совместить трактовку каторжного труда как кары за содеянное с его «реформирующим» воздействием на преступника и назидательным воздействием на окружающих. По мнению С. Чидли, идеальное наказание предполагает физические страдания, но они же несут духовное перерождение: «И тогда, если кто-либо (а я надеюсь, многие) будет обращен в этом своем пленном состоянии, о, как они благословят время, когда они подверглись заключению с принуждением к труду, когда они познали себя и вспомнили о Всевышнем!» [19. P. 284]. Автор уверен: физический труд облегчит духовное перерождение грешника, тяжесть каторжного труда интерпретируется как средство очищения от грехов и способ обретения прощения. В XVIII в. тенденция рассматривать потенциальную выгоду для государства от принудительного труда осужденных явно усилилась, причем со страниц публицистики религиозного характера к середине столетия перекочевало в парламентскую риторику и социальное реформаторство. В 1737 г. знаменитый ирландский философ, епископ Клойский Джордж Беркли опубликовал оригинальное издание «Вопрошатель», где в риторической форме 595 вопросов, преимущественно на тему труда, торговли, общественного благосостояния, обобщил экономические воззрения, далеко опередившие эпоху. Проблемы «эффективности» современной автору борьбы с преступностью и системы уголовных наказаний рассматриваются исключительно в контексте идеи организации принудительного труда: «Есть какой-то способ сделать преступников полезными на общественных работах, вместо того чтобы отправлять их в Америку или любое другое место?»; «Можем ли мы создавать для них рабочие места, по опыту других наций? И не станет ли подневольное состояние, цепи и многолетний тяжелый труд более серьезным, а также более адекватным наказанием для преступников, чем даже сама смерть?» [23. P. 6-7]. Целая серия поставленных в риторической форме вопросов позволяет выделить позицию автора в отношении системы наказания и предложения по ее реформированию: «Разве принудительное заключение, при котором он накормлен, одет и должен работать, не будет предпочтительнее для него? Могут ли преступники, не лишаясь свободы, возместить ущерб, нанесенный обществу, путем тяжелого труда? Разве взгляд на преступников, скованных парами и удерживаемых на каторжных работах, не будет назидательным для толпы? Неужели в Англии, где грабители так ожесточены, что не боятся страха смерти, где неуклонно растет число грабежей и взломов, не ощущается ежедневная необходимость в организации такой системы? Не правда ли, что легче предотвратить, чем исправить, почему бы не учиться на примерах других? Не слишком ли часто преступники избегают наказания, ведь тем самым их поощряют к преступлениям те, кто должен вершить правосудие? Разве большинство из нас, дабы не отнимать у преступника жизнь, не желают наказания, соразмерного его преступлению?» [23. P. 40-41]. Удивительно точно поставленные вопросы не требуют ответа, так как сами по себе являются рациональными предложениями. Издание 1750 г. дополнено очерком «Слово жене, или Назидание Римско-католическому духовенству Ирландии», где Беркли переходит на менторский тон, обличая леность и праздность как источник обозначенных в «Вопрошателе» проблем: «Если Вам не безразлично (а это несомненно) моральное и физическое состояние Нашего народа или ваше собственное положение, Вы не можете не обратиться против этого вопиющего греха, поразившего нашу страну... Мы должны неутомимо проповедовать С.А. Васильева 120 о том, что праздность - родитель множественных несчастий и грехов; леность - мать голода и сестра воровства; праздность порождает многие злодеяния, как говорил Иисус, сын Сираха»7 [23. Р. 79]. Таким образом, в «Вопрошателе» постановка проблемы организации принудительного труда приближаются к классическому меркантилизму, а резюмирующая проповедь возвращает внимание читателя к «исправительному» эффекту тяжкого труда в искоренении грехов и пороков. В «Вопрошателе» система труда осужденных противопоставлена всем существующим в середине XVIII в. практикам уголовного наказания, являющимся, по мнению Беркли, экономически и социально не выгодными и нравственно вредными. Проблема высылки криминальных элементов в американские колонии беспокоила общественность и правительство. Анализ судебной практики и документации магистратов середины XVIII в. выявляет многочисленные свидетельства досрочного возвращения преступников-рецидивистов в Англию [24. Р. 540]. Беркли, негативно оценивая практику высылки, ставит вопрос о создании рабочих мест внутри страны «по опыту других народов». В 1726 г. в парламент была направлена анонимная петиция, где обращалось внимание на практику «...Голландии и некоторых других мест, где должникам дозволено отрабатывать свой долг, а по истечении наказания получить свободу и даже средства к существованию» [25]. В 1758 г. Джозеф Мэсси в очередной раз привлек внимание англичан к опыту Нидерландов, использовавших исправительные работы как «лекарство» от таких «болезней», как воровство и проституция. Используя примеры голландских работных домов плавучего типа, Мэсси рассуждал: «Помещая аморальных типов в такое место, где они должны либо работать, либо утонуть, они [голландцы] вылечивают болезнь во всех случаях, когда она излечима» [26. P. 119]. В середине XVIII в. в дискурс рассматриваемой проблемы возвращается понятие «врачевания» социальных пороков. В памфлете Джошуа Фиджимондса (1751) получила дальнейшее развитие идея применения исправительного труда как «лекарства» от социальных «заболеваний» - бедности, бродяжничества, долговых преступлений [27. Р. 45].Таким образом, в общественной мысли второй половины XVIII столетия закрепляется устойчивая тенденция считать принудительный труд средством коррекции социальных девиаций. В знаменитом трактате Генри Филдинга, обобщившем предложения по созданию эффективной системы борьбы с бедностью, искомая идея «приговорить к принудительным работам», но таким образом «побудить к исправлению» [28] красной нитью проходит по тексту трактата. В 1770-е гг. общественная дискуссия о назначении и возможностях принудительного труда окончательно переходит в плоскость парламентской полемики и законодательных инициатив. Именно с этого момента пенология и рассматривает искомую идею, подчас не совсем корректно приписывая ее новаторство знаменитым пенитенциарным реформаторам И. Бентаму и Дж. Говарду. В данной работе мы постарались представить содержание пенитенциарной реформы конца XVIII в. как результат более чем двухсотлетней эволюции в английской общественной мысли идеи принудительного труда и как меры наказания, и как средства нравственного совершенствования. Возможные преимущества такого труда обращали к этой концепции представителей разных социальных групп, стремящихся к различным социальным целям. Христианская (подчас утопичная) вера в возможность «уврачевать» пороки и безнравственность трудом и религиозным образованием, меркантильные намерения обратить практику уголовного наказания на пользу стране, строгие (подчас фанатичные) пуританские убеждения «искупительной силы» физических лишений. Свободное курсирование этих идей сложилось к началу 1770-х гг. в устойчивую комбинацию предстоящей пенитенциарной реформы. Реформаторам предстояло найти консенсус, при котором «временное тюремное заключение в сочетании с принуждением к труду в качестве наказания, формируя, таким образом, полезную привычку, было бы в равной степени выгодно и для преступника, и для общества» [29. Р. 264]. ПРИМЕЧАНИЯ 1 Пенология - учение об исполнении наказания, практически ориентированная отрасль социальной науки, которая возникла в начале XIX в., развивалась параллельно с эволюцией тюремной системы и прочих недавно возникших институтов современного уголовного судопроизводства. Цель пенологии - на эмпирической основе разрабатывать оптимальные санкции наказания с целью исправления и ресоциализации преступника. 2 В дореволюционной России пенология именовалась более конкретно - тюрьмоведение. 3 Англ. House of correction. 4 В англоязычном варианте hardlabor - тяжкий труд. В русскоязычном переводе преимущественно трактуется как «каторга». 5 Ветхий Завет. Книга Исход 22:1 «Если кто украдет вола или овцу и заколет или продаст, то пять волов заплатит за вола и четыре овцы за овцу». 6 Новый Завет. Послание к Ефесянам 4:28. 7 Книга премудрости Иисуса, сына Сирахова 33:28: «Употребляй его на работу, чтобы он не оставался в праздности, ибо праздность научила многому худому».
Ключевые слова
принудительный труд,
пенитенциарные реформы,
английская общественная мысльАвторы
| Васильева Светлана Анатольевна | Академия права и управления Федеральной службы исполнения наказаний | кандидат исторических наук, доцент, заместитель начальника кафедры философии и истории | vasi-svetlana@yandex.ru |
Всего: 1
Ссылки
Eden W. Principles of Penal Law. London : print. for B. White and T. Cadell, 1771. 300 p.
Fielding H. A proposal for making an effectual provision for the poor for amending their morals, and for rendering them useful members of the society : to which is added, a plan of the buildings proposed, with proper elevations, drawn by an eminent hand. London : print. for A. Millar, 1753. 91 р.
Fitzsimmonds J. Free and candid disquisitions on the Nature and Execution of the laws of England, Both in Civil and Criminal affairs. .... With a postscript relating to Spirituous Liquors, and the Execution of the present Excise Laws. London : print. for M. Sheepey, Bookseller and Publisher under the Royal-Exchange, Cornhill, 1751. 56 р.
Massie J. A plan for the establishment of charity-houses for exposed or deserted women and girls, and for penitent prostitutes. Observations concerning the Foundling-Hospital, shewing the ill consequences of giving public support thereto. Considerations relating to the poor and the poor's-laws of England. London : print. for T. Payne, sold by W. Shropshire, W. Owen, and C. Henderson, 1758. 146 р.
Reasons against confining persons in prison for debt humbly offered to the consideration of the Parliament: to which is added The case of insolvent debtors now in prison. Westminster : print. by A. Campbell, 1729. 24 р.
Beattle J.M. Crime and the Courts in England 1660-1800. Oxford : Clarendon Press, 1986. 663 p.
Berkley G. The Querist, containing Several Queries, proposed to the consideration of the public. To which is added, by the same author, a Word to the Wife or, an exhortation to the Roman Catholic Clergy of Ireland. London : print. for W. Innys, C. Davis, C. Hitch, W. Brower, and sold by M. Cooper, in Pater-noster-Row, 1750.
Dawes W. The objections against the eternity of Hell-torments, answer’d. In a Sermon Preach'd Before King William, at Kensington, January, 1701. The 2ND ed. London : print. and sold by H. Hills, 1707. Pt. VI. 16 p.
Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях / пер. с ит. Ю.М. Юмашева. М. : Междунар. отношения, 2000. URL: http://libcolm.com/book/62e6cfbe-2c4f-4bf6-87e9-0a98196f88ae
Chidley S. A Cry against a Crying Sin. A just complaint to the Magistrates // The Harleian Miscellany or, A collection of scarce, curious, and entertaining pamphlets and tracts, as well in manuscript as in print, found in the late earl of Oxford's library, interspersed with historical, political, and critical notes. London : print. for R. Dutton, Gracechurch-street, 1810. Vol. VI.
Solon Secundus: or some defects in the English Laws; with their proper remedies. By a hearty Lover of his Country. London : print. for the Author, and are to be sold by John Whitlock, near Stationers-Hall, 1695. 28 p.
Fitzroy H.W.K. The Punishment of Crime in Provincial Pennsylvania // Pennsylvania Magazine of History and Biography. 1936. Vol. 60, is. 3. P. 242-269.
Bernstein Ed. Cromwell and Communism, Socialism And Democracy in the Great English Revolution. London : George Allen&Unwin, 1930. 288 p.
Fox G. To the Parliament of the Common-Wealth of England. Fifty nine Particulars laid down for the Regulating things, and the taking away of Oppressing Laws, and Oppressors, and to ease the Oppressed. London : print. for Thomas Simmons, at the Bull and Mouth near Aldersgate, 1659. URL: http://universalistfriends.org/quf2002.html
Dalton M. The Country Justice: Containing The Practice, Duty and Power of The Justices of the Peace, as have not been mush conversant in the Study of the Laws of this Realm. London : print. by William Rawlings and Samuel Roycroft, 1690. 535 p.
Starkey T. A dialogue between Reginald Pole and Thomas Lupset / ed. by K.M. Burton; with a preface by E.M.W. Tillyard. London : Chatto & Windus, 1948. 213 p.
Weiss R.P. Humanitarianism, Labour Exploitation, or Social Control? A Critical Survey of Theory and Research on the Origin and Development of Prisons // Social History. 1987. Vol. 12, is. 3. Р. 331-350.
Мор Т. Утопия. Кампанелла Т. Город Солнца. Бекон Ф. Новая Атлантида / пер. с лат. А. Малеина, Ф. Петровского; пер. с англ. З. Александровой. СПб. : Азбука, 2017. 320 с.
Ignatieff M. State, Civil Society, and Total Institutions: A Critique of Recent Social Histories of Punishment // Crime and Justice: An Annual Review of Research. 1981. Vol. 3. Р. 153-192.
Rothman D.J. The Discovery of the Asylum: Social Order and Disorder in the New Republic. Boston : Little, Brown and Company, 1971. 380 p.
Ignatieff M. A Just Measure of Pain: The Penitentiary in the Industrial Revolution 1750-1850. New York : Pantheon, 1978. 257 р.
Наташев А.Е., Стручков Н.А. Основы теории исправительно-трудового права. М. : Юрид. лит., 1967. 190 с.
Рулан Н. Историческое введение в право : учеб. пособие для вузов. М. : Nota Bene, 2005. 672 с.
Langbein J.H. The historical origins of the sanction of imprisonment for serious crime // The Journal of Legal Studies. 1976. № 1-1. Р. 35-60.
Rusche G., Kirchheimer O. Punishment and Social Structure. New York : Columbia University Press, 1939. 268 р.
Melossy D., Pavarini M. The Prison and the Factory: Origins of the Penitentiary System. London : Macmillan Press, 1981. XII, 243 р.
Webb S., Webb B. English Prisons under Local Government. London ; New York : Longmans, Green & Company, 1922. 261 р.
Radzinowicz L. A history of English criminal law and its administration from 1750. New York : Macmillan & Co, 1948. Vol. 1. 853 p.
Гогель С.К. Вопросы уголовного права, процесса и тюрьмоведения : собрание исследований. СПб. : Тип. т-ва «Общественная польза», 1906. 646 с.
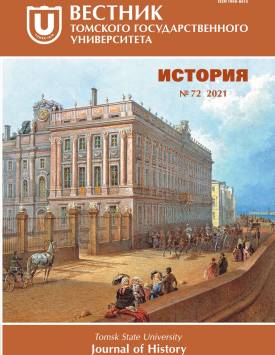

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью