Рассматривается проблема славянского мессианизма в трактовке Н.А. Бердяева и польского диктатора Ю. Пилсудского. В отличие от православного духовного подхода Бердяева, оперировавшего понятием «народных душ» и призывавшего к их взаимопониманию, Пилсудский предпочел прагматический подход воссоздания Великой Польши за счет территориального раздела России. Наперекор решениям Локарнской конференции и проекту «пакта четырех» он заставил Гитлера, шантажируя того своим временным преимуществом в военной силе, учитывать Польшу в его предполагаемом походе на Восток.
Nikolai Berdyaev, messianism a-la Pologne and four powers pact.pdf Польша неизменно занимает видное место в международной политике, и это неудивительно, так как она является ближайшим европейским соседом России. Ей, как правило, отводилась и отводится важная роль во внешнеполитических комбинациях западных держав. Ушедшая во временное небытие в 1795 и воссозданная осенью 1918 г., она после окончания Первой мировой войны в соответствии с Версальским мирным договором была причислена к так называемым малым странам. Однако правящие круги возродившейся Польши были уверены в особом предназначении своей «Ойчизны», мечтали о возрождении ее «былого величия», дабы вновь превратить ее в великую державу. Для достижения этой цели в межвоенный период ими, прежде всего ее неофициальным диктатором маршалом Ю. Пилсудским, прилагались немалые усилия. Об особой роли Польши задумывались и в России, но ее трактовка в значительной степени отличалась от польской. Например, известный русский философ Николай Александрович Бердяев в 1915 г., в самый разгар Первой мировой войны, среди прочего уделял ей внимание. В частности, ему не было чуждо чувство вины в отношении Польши: «Многое должно после войны измениться во внешней, государственной судьбе Польши, и невозможен уже возврат к старому ее угнетению». Он был также озабочен тем, как будут выстраиваться с ней отношения в будущем: «Внешние отношения России и Польши коренным образом меняются. Россия сознает, что должна искупить свою историческую вину перед Польшей». За три года до ее возрождения он утверждал: «Освобождение Польши сделает возможным настоящее общение между Польшей и Россией, настоящее сближение между поляками и русскими, которому доныне препятствовало угнетение Польши» [1. С. 161]. Поскольку Бердяев был православным человеком, он оперировал близкими ему философскими категориями, в частности души, причем эту категорию он распространял на русский и польский народы: «В каждой народной душе есть свои сильные и свои слабые стороны, свои качества и свои недостатки». Опять же, как человек русский и православный, что, как правило, означает - сугубо миролюбивый, он призывал к единению: «Нужно взаимно полюбить качества народных душ и простить их недостатки. Тогда лишь возможно истинное общение» [Там же. С. 165]. С его точки зрения, грехи «старой шляхетской Польши» были искуплены «жертвенной судьбой польского народа и пережитой им Голгофой». Неким общим началом, в русле которого, на его взгляд, было возможно построение российско-польского диалога, был мессианизм, польская разновидность которого хотя и отличалась от русского, но все-таки позволяла продвигаться сообща к общей цели. «Польский мессианизм - цвет польской духовной культуры - преодолевает польские недостатки и пороки, сжигает их на жертвенном огне. Старая легкомысленная Польша с магнатскими пирами, с мазуркой и угнетением простого народа перевоплотилась в Польшу страдальческую» [Там же]. Другими словами, ему представлялось, что мессианизм русского и польского народов, в основе которого лежали в том числе страдания, пережитые в прошлом, станет тем крепким фундаментом, который поведет их рука об руку к светлому, желательно бесконфликтному будущему. События реальной жизни показали несоответствие представлений гениального русского мыслителя о путях развития как отношений между западнославянским и восточнославянским народами, так и польского мессианизма. Мирные отношения между Польшей и Советской Россией наступили лишь после польскосоветской войны и подписания в 1921 г. не вполне справедливого для последней Рижского договора. Да и трактовка польским обществом и польскими правящими кругами мессианизма весьма отличалась от той, которая виделась Николаю Александровичу. Выполнение особой роли своей Отчизны представлялось ему в построении так называемой Великой Польши, которое должно было состоять из двух этапов: первый -восстановление польских границ в пределах 1772 г., т.е. включение в ее состав, среди прочего, Литвы, значительной части территории Советской Украины и Белоруссии, а второй - реализация так называемой федеративной концепции польского «начальника государства» Юзефа Пилсудского. В соответствии с ней на новых восточных польских границах должна была Н.А. Бердяев, мессианизм по-польски и «пакт четырех» 147 появиться федерация в составе Финляндии, Эстонии, Латвии, Венгрии, Румынии, Армении и Грузии, составивших бы военно-политический союз, который в исторической литературе зачастую называли «интермари-умом», или «междуморьем». Одновременно в результате проведения особой политики, носившей название «прометеизм», предполагалось отделение от Советской России Украины, Белоруссии, Грузии, Армении и Азербайджана, а России предстояло откатиться за Урал [2. S. 139-158]. Данная политика предполагала финансовую и административную поддержку российских эмигрантов - выходцев из Грузии, Азербайджана, Северного Кавказа, которые через агентуру в СССР должны были поднять мятеж с целью отсоединения от Москвы. Как можно видеть, трактовка мессианизма польским маршалом Ю. Пилсудским мало что имела общего с возвышенными духовными построениями русского православного философа Н.А. Бердяева. Мессианизм Пилсудского предполагал раздел России и построение на ее территории Великой Польши, в связи с чем ему не были чужды мысли о собственном особом предназначении в польской истории. В одном из своих писем периода Первой мировой войны «Пилсудский поведал о посетившей его мысли о том, что он послан Польше в наказание за какие-то страшные провинности в прошлых реинкарнациях» [3. С. 205] До 1925 г. международная обстановка не слишком благоприятствовала исполнению этих планов, тем паче что Раппальские соглашения 1922 г. вывели Москву из изоляции и способствовали ее политическому и экономическому сближению с Берлином. Однако уже через пару лет Берлину помогли посредством «плана Дауэса» международные «денежные тузы», которые добились от него (в качестве платы за это) подписания в 1925 г. Локарнских договоров и соглашений. В результате Берлин стал участником так называемого Рейнского пакта и была создана Версальско-Локарнская система, включавшая в себя правовой механизм, позволявший Германии, при наличии политической воли, начать движение на Восток, т.е. на Советский Союз [4]. Одновременно Польше, не включенной в Рейнский пакт, предложили подписать арбитражный договор с Берлином, по которому, в соответствии со ст. 19 Устава Лиги наций, она была обязана участвовать в правовых мероприятиях по изменению своей территории. Другими словами, ей предстояло готовиться к началу ревизии границ с Германией. 3 марта 1926 г. этот арбитражный договор был ратифицирован сеймом, через три дня подписан президентом Станиславом Войцеховским, после чего вступил в силу [5]. Чтобы он стал частью международно-правовой системы, его предстояло передать на регистрацию в секретариат Лиги наций. Однако до того, как это было сделано, маршал Пилсудский произвел 10-15 мая государственный переворот, что позволило ему со временем расставить на ключевые посты в государстве, в том числе МИД, верных ему людей. Формально он по-прежнему не занимал ответственных государственных постов, однако важнейшие вопросы в жизни государства, прежде всего связанные с внешней политикой, он стал решать единолично. Впоследствии период польской истории с мая 1926 по сентябрь 1939 г. получил название «режим санации». Когда в сентябре 1926 г. польско-германский арбитражный договор был передан на регистрацию в секретариат Лиги наций, новое положение маршала Пилсудского позволяло ему, используя своих людей и свое влияние, вести собственную игру на международной арене, противодействуя тем или иным усилиям ревизовать польские границы в пользу Германии. Локарно, ставшее серьезным препятствием на пути реализации мессианских устремлений, вынудило маршала внимательней присматриваться к действиям западных партнеров, в частности своего союзника Франции, с которой в 1921 г. был заключен союзный договор. Добровольно уступать часть своей территории, тем более Берлину, пусть и по воле западных держав, было несовместимо с польскими традициями и идеей создания Великой Польши. Поскольку «кадры решают все», то в преддверии изменений на международной арене, в ноябре 1932 г., на должность министра иностранных дел был назначен Юзеф Бек, доверенное лицо Пилсудского. И когда через месяц пришло известие о том, что Франция подписала так называемую «декларацию пяти держав», признававшую, среди прочего, право Германии на равенство в вооружениях, а после этого стало известно, что Париж отказался возвращать военные долги Америке, маршал немедленно собрал закрытое совещание Совета министров и приближенных генералов, на котором было принято решение о переориентации польской внешней политики с Франции на Германию [6. C. 173]. Причин для подобного шага было несколько: во-первых, всем было известно, что маршал был германофилом; во-вторых, документы Локарно указывали на то, что Германии предстояло начать движение на восток; наконец, в-третьих, у Пилсудского было трехкратное превосходство в силе. По условиям Версальского договора военные силы Веймарской республики были ограничены цифрой 100 тысяч, а в рядах Войска Польского их насчитывалось более 300 тыс. человек [7. S. 128]. В случае несогласия Берлина рассматривать Варшаву в качестве союзника, это обстоятельство можно было в тот момент задействовать в качестве дополнительного аргумента. В Веймарской республике к подобному варианту развития событий относились весьма серьезно - единственный мобилизационный план был заготовлен именно на польском направлении [8. S. 13]. Берлину на тот момент было не с руки обзаводиться подобным союзником, так как он, будучи включенным в Рейнский пакт, находился на более высокой ступеньке в иерархии международных отношений. Однако маршал был тверд в своем намерении вести польский народ к грядущему величию и решил задействовать имевшееся на тот момент преимущество в силе, избрав хитроумную тактику угрозы «превентивной войны» в отношении Германии [9]. Одновременно он демонстративно предлагал Парижу присоединиться к этому предполагаемому мероприятию. В течение января-апреля 1933 г. он обращался через сенатора Е. Потоцкого, а затем неоднократно посред- С.В. Морозов 148 ством дипломатов к французским властям, но неизменно получал отказ [10. 11.01; 11. P. 451-453; 12. C. 471-472]. По мнению журналистки Ж. Табуи, эти предложения имели целью вызвать отказ Франции, который можно было бы использовать для политического сближения Польши с Германией [6. C. 176]. Следует иметь в виду, что в конце января 1933 г. к власти в Германии пришли национал-социалисты во главе с А. Г итлером, стратегическая программа которого предполагала завоевание «жизненного пространства» на Востоке. Соответственно, не следовало удивляться обнародованию в начале второй половины марта проекта создания так называемого «пакта четырех держав» в составе Великобритании, Франции, Италии и Германии, наделенного широкими полномочиями, в том числе ревизовать международные договоры и выступать в качестве некоего верховного арбитра в международных отношениях. Длительность действия договора устанавливалась в 10 лет, и он подлежал регистрации в секретариате Лиги наций [13. C. 57; 14. C. 10-11]. Берлин, вступив в этот клуб и подняв тем самым свой статус, получал формальное право и на рассмотрение вопроса об установлении нового, более престижного положения своих границ. С правовой точки зрения это позволяла осуществить ст. 19 Устава Лиги наций, предусматривавшая возможность изменения существовавших границ мирным путем, а также польско-германский арбитражный договор 1925 г. Интересы Польши были вновь, как и во время Локарно, проигнорированы, более того, ее границы были поставлены под угрозу ревизии. Поскольку Советский Союз и мировая общественность были глубоко озабочены той угрозой миру, которую представлял собой проект «пакта четырех», маршал использовал это в своих целях. 28 марта 1933 г. Бек передал английскому послу заявление о том, что лишенная возможности судить точно о проекте данного «пакта», так как текст ей не сообщен, Польша «считает этот проект противоречащим духу и букве пакта Лиги Наций» и «оставляет за собой свободу действий». О рамках трактовки этой свободы можно было судить из интервью Пилсудского, данного 23 мая 1926 г. французской газете «Матэн», в котором польский вождь без околичностей заявил, что ради блага Польши готов на любые действия: «Если и могут быть какие-то колебания в выборе средств, когда хочется остаться в рамках легальности, то их нет там, где цель - спасение Польши». С этой целью была развернута грандиозная деятельность: с одной стороны, была создана видимость существования некоего тайного польско-советского антигитлеровского тандема, с другой - Главному штабу Войска Польского было дано указание разработать план войны против Германии, а в начале апреля в Польше была проведена учебная мобилизация [3. C. 347; 15. C. 223, 484; 16. S. 55; 17. Л. 10]. Военные приготовления Варшавы, носившие во многом демонстративный характер, произвели настолько глубокое впечатление на Берлин, что через вицеканцлера фон Папена было публично заявлено об агрессивных замыслах Польши, однако маршал через «Газету Польску» публично опроверг подобные намерения, напомнив о предложенном Польшей пакте о ненападении. Выдержав некоторую паузу, польский комендант сделал решительный шаг. 1 мая он в присутствии Бека принял советского полпреда В.А. Антонова-Овсеенко, с которым, однако, политические темы в разговоре не затрагивались. Это было сделано для того, чтобы для стороннего наблюдателя подтвердить якобы имевшийся антигерманский «сговор», а 2 мая польский посланник А. Высоцкий поставил в ультимативной форме перед Гитлером вопрос о дальнейших польско-германских отношениях. Подобный демарш и в такой же форме произвел в Варшаве Бек в отношении германского посланника Г. Мольтке. Германскому канцлеру не оставалось ничего, как через две недели ответить о готовности поддерживать и развивать отношения на «основе существующих договоров», что подтверждало соблюдение территориального статус-кво. Получив от Гитлера желаемое, Пилсудский приказал передислоцировать войска с прусских границ к Вильно для проведения большого военного смотра. По мнению полпреда Антонова-Овсеенко, «демаршем 2-го мая Польша, уже используя улучшение с Советским Союзом, вступила на путь непосредственных переговоров с Германией» [16. S. 55; 17. Л. 13-14]. Таким образом, маршал Пилсудский, стремясь к восстановлению былого величия, шантажируя Гитлера угрозой «превентивной войны», предугадав уготованную версальско-локарнскими стратегами для Германии роль антисоветского тарана, вынудил последнего учитывать в этой сомнительной миссии и Польшу. Тем не менее советское политическое руководство не исключало возможности установления диалога с Варшавой. В конце августа 1933 г. со страниц «Известий» почти напрямую был задан вопрос: пойдет ли Польша после провала «пакта четырех» вместе с СССР? Несмотря на тот факт, что 15 июля 1933 г. «пакт четырех» был подписан в Риме, ратифицировала его только Великобритания. Хотя Рим, Берлин и Париж воздержались от этого шага, Лондону ничто не помешало продолжать выступать в тот период в качестве арбитра на международной арене и проводить нужную ему политику. В ответ официальная «Газета Польска» полностью перепечатала московскую статью, снабдив ее комментарием главного редактора Б. Медзиньского, давшего понять, что Варшава в своем выборе полностью самостоятельна. А спустя несколько дней экс-глава МИД князь Э. Сапега, представитель близкой к пилсудчикам политической группировки земельных магнатов, тесно связанный с персонами, определявшими польскую внешнеполитическую линию, сделал доклад. В нем была, по сути, изложена программа превращения Польши в «великую державу путем колониального освоения территорий и природных богатств Советского Союза». В реализации данной программы любезно приглашали принять участие Европу, после чего докладчик резюмировал: «Реальной нашей задачей должно быть договориться с нашим западным соседом» [18. С. 122]. Реакция западного соседа, т.е. Германии, не заставила себя долго ждать. Министр иностранных дел Н.А. Бердяев, мессианизм по-польски и «пакт четырех» 149 К. фон Нейрат во время сессии Совета и Ассамблеи Лиги наций в Женеве предложил своему польскому коллеге Ю. Беку встретиться. Это был тот самый долгожданный шанс, которого последовательно добивался маршал Пилсудский. 25 сентября 1933 г. Бек встретился с главой германского МИД Нейратом, а 26 сентября -с министром пропаганды Третьего рейха Й. Г еббельсом. Во время бесед выяснилось обоюдное стремление к дальнейшему сближению, которое должно было иметь исключительно двусторонний характер. Не допускалось какое-либо привлечение к нему третьих стран или международных организаций. Хотя при первом свидании глав санационного и нацистского внешнеполитических ведомств вопрос о координации совместной деятельности на восточном направлении не был затронут, «заинтересованные правительства уже тогда рассматривали польско-германское сближение в ракурсе их планов в отношении СССР» [18. С. 130]. Маршал мог ликовать. С началом осени 1933 г. польско-германское сближение стало осуществляться семимильными шагами: Берлин покинул посланник А. Высоцкий, а на его место вскоре был назначен начальник Западного отдела варшавского МИД Юзеф Липский. Переговоры велись в глубокой тайне. Для многих профессиональных дипломатов и наблюдателей, как гром среди ясного неба, прозвучало известие о подписании 26 января 1934 г. министром К. фон Нейратом и Ю. Липским так называемой «Декларации о мирном разрешении споров и неприменении силы». В ее преамбуле отсутствовала общепринятая в дипломатических документах такого рода констатация незыблемости существующих границ, а также ссылка на действующие договоры, что было несколько необычно. Декларация предписывала обоим правительствам «непосредственно договариваться обо всех вопросах, касающихся их обоюдных отношений, какого бы рода они ни были». Такое положение, а также отсутствие пункта о расторжении декларации в случае вовлечения одной из сторон в конфликт с третьей стороной дали повод некоторым наблюдателям, в частности бывшему польскому дипломату Эльмеру, утверждать, что пакт «Липский-Нейрат» является не чем иным, как завуалированным союзом [17]. В декларации действительно имели место некие моменты, наводившие на размышления. Например, в случае возникновения спорного вопроса, когда его разрешения нельзя достигнуть непосредственными переговорами, оба правительства «в каждом отдельном случае на основании обоюдного согласия будут искать решения другими мирными средствами, не исключая возможности в случае необходимости применять методы, предусмотренные для такого случая в других соглашениях, действующих между ними» [20. С. 69-70]. Вполне возможно, что подразумевался секретный польско-германский договор от 25 февраля 1934 г., предусматривавший разрешение на проход по польской территории германских войск «в случае угрозы с востока и северо-востока», впервые опубликованный в «Известиях» и «Правде» весной 1935 г. и введенный в научный оборот в начале 2000-х гг. [11. Р. 211] Таким образом, к началу февраля 1934 г. миссия маршала на пути к воссозданию былого величия польского государства, в его трактовке и представлении значительной части правящих кругов Польши, весьма продвинулась. Она проистекала в глубокой тайне, так как Пилсудский предпочитал ни с кем не делиться [21. С. 221-222]. Добровольно возложенная на себя непосильная ноша не могла не сказаться на здоровье - к тому времени маршалу все чаще давал знать о себе тяжелый недуг [3. С. 424]. Необходимость сохранять свою миссию в тайне, сочетая ее с выполнением внутриполитических задач, делала многие его поступки необъяснимыми для окружения. Так, в самый разгар своего блефа с «превентивной войной» против Германии, вечером 25 апреля, по-видимому, для того, дабы еще более убедить Берлин в серьезности своих намерений он заявил о необходимости перенести президентские, выборы, в нарушение конституции, с июня на май [Там же. С. 425]! Однако затеянная им игра, на его взгляд, стоила свеч; в случае успеха результатов можно было ждать в ближайшие год-два. Учитывая вышесказанное, можно констатировать, что польские правящие круги во главе с маршалом Ю. Пилсудским были чужды православной этике Н.А. Бердяева и реализовывали мессианские идеи на свой польский лад, другими словами, это был «мессианизм по-польски».
Морозов С.В. «Варшавская мелодия» для Москвы и Праги. Документы из личного архива И.В. Сталина, Службы внешней разведки Российской Федерации, II Отдела Главного штаба Войска Польского и др. (1933-1939). М. : Междунар. отношения, 2017. 592 с.
Климовский Д.С. Зловещий пакт (из истории германо-польских отношений межвоенного двадцатилетия). Минск : Изд-во БГУ, 1968. 175 с.
Михутина И.В. Советско-польские отношения. 1932-1935. М. : Наука, 1977. 288 с.
Научный архив Института российской истории РАН. Ф. 22. Оп. 1: 1934. Д-19, 1-а.
Архив внешней политики РФ. Ф. «Референтура по Польше». Оп. 17. Д. 28. Папка 167-а.
Сборник документов по международной политике и международному праву. М. : Изд-во НКИД, 1934. Вып. VI. 239 с.
Документы внешней политики СССР. М. : Изд-во полит. лит., 1970. Т. XVI. 920 с.
Kozenski J. Czechoslowacja w polskiej polityce zagranicznej w latach 1932-1938. Poznan : Instytut Zachodni, 1964. 319 s.
Морозов С.В. Польско-чехословацкие отношения. Что скрывалось за политикой «равноудаленности» министра Ю. Бека. М. : Изд-во Моск. гос. ун-та им. М.В. Ломоносова, 2004. 528 с.
Le Temps. 1933.
Documents Diplomatiques Franjais 1932-1939. Ser. 1. T. 2. Paris : Imprimerie Nationale, 1966. 875 p.
История дипломатии / под ред. В.П. Потемкина. М. ; Л. : Госполитиздат, 1945. Т. 3. 884 с.
Морозов С.В. Игры теней в европейской международной политике в 1930-е гг. // Великая Победа : интернет-проект / под общ. ред. С.Е. Нарышкина, А.В. Торкунова. М. : МГИМО (Университет) МИД России ; РВИО, 2015. Т. II: Канун трагедии. С. 7-28. URL: http://histrf.ru/ru/biblioteka/great-victory/great-victory-book/ii-kanun-traghiedii (дата обращения 10.06.2018)
Lipski J. Stosunki polsko-niemieckie w swietle aktow norymberskich // Sprawy Mi^dzynarodowe. 1947. № 3.
Табуи Ж. 20 лет дипломатической борьбы. М. : Изд-во иностр. лит., 1960. 465 с.
Kaminski M.K., Zacharias M.J. Polityka zagraniczna Rzeczypospolitej Polskiej 1918-1939. Warszawa : Wydaw. LTW, 1998. 316 s.
Dziennik Ustaw. 1926. № 114. Poz. 662. S. 1302-1309 // Internetowy system aktow prawnych. URL: http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/ WDU19261140662/O/D19260662.pdf (дата обращения: 27.06.2016)
Матвеев Г.Ф. Пилсудский. М. : Молодая гвардия, 2008. 478 с.
Морозов С.В. К вопросу о создании в 1925 г. правового механизма «подталкивания» Г ермании на Восток // Вестник Томского государствен ного университета. 2016. № 412. С. 84-89. URL: http://journals.tsu.ru/vestnik/&journal_page=archrve&id=1482 (дата обращения: 10.06.2018).
Maciejewski M. Federacyjne koncepcje pilsudczykow u zarania Drugiej Rzeczypospolitej // Na szlakach niepodleglej: Polska mysl polityczna i prawna w latach 1918-1939 / pod red. M. Marszala, M. Sadowskiego Wroclaw : Wydaw. Uniw. Wroclawskiego, 2009. 465 s.
Бердяев Н.А. Судьба России. М. : Философское общество СССР, 1990. 240 с.
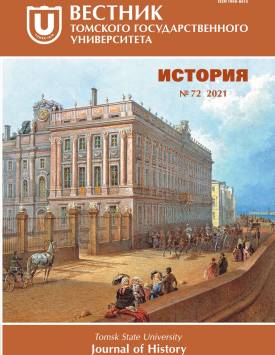

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью