Анализируется состояние изученности проблемы происхождения олонхо. Доказывается генетическая общность якутского эпоса и эпосов тюркоязычных народов Центральной Азии, утверждается возможная взаимосвязь олонхо с эпосами хуннских племен, рассматривается вероятный период дальнейшего развития во времена Тюркского каганата (VII-ѴШ вв. н.э.). Самостоятельное бытование якутского олонхо началось в 40-х гг. VIII в., когда исторические предки якутов - курыкане - откололись от остального тюркского мира и направились на Север, в районы верхнего и среднего течения р. Лены.
On the issue of the genetic origins of the Yakut epic formation.pdf Введение Устная традиция, внутри которой эпос занимает одно из ключевых мест, является тем источником, из которого черпаются основания для повседневной практики. В связи с этим современный мир, испытывающий потребность в духовных ориентирах, вынужден обращаться к своим истокам и традициям. «В последние два десятилетия в связи с демократизацией общественной жизни обострился интерес народа к собственной этнической истории. Процесс национального возрождения привел к пониманию того, что эпос обладает огромными потенциальными возможностями в деле возрождения общей духовной культуры. Творцы олон-хо вложили в него вековую мечту о благополучной жизни на Земле. Она, эта светлая идея, созвучна устремлениям нашего времени, она преподносит нам новые мысли, более содержательные и зрелые» [1. С. 9]. По признанию исследователей, якутский эпос занимает особую нишу в пространстве мировых эпосов. Рассматривая якутский эпос в контексте многих мировых эпосов, Е.М. Мелетинский вывел его на «эпическую широту», т.е. на мировое эпическое пространство [2. С. 247-375]. Это - пространство «Калевалы», нартских сказаний, «Одиссеи», «Гильгамена», «Амирании», «Илиады», «Макабхарата», «Рамаяны», «Песни о Бео-вульфе», русских былин и др. Действительно, их все объединяет общечеловеческое содержание; все эпосы выражают народный взгляд на историю; общий для них элемент - образ богатыря-героя, действия которого направлены на достижение общенародных эпических целей, большей частью на защиту народа от врагов; эпосы содержат народную поэтическую концепцию исторического прошлого, они наполнены коллективистским, по существу патриотическим, пафосом. Именно по своему масштабному и фантастически грандиозному содержанию, по красоте и богатству словесного художественно-изобразительного мастерства якутское олонхо полностью вписывается в эти параметры мирового эпического пространства, и в этом заключается основополагающее значение исторического места олонхо в истории эпического творчества народов мира. Потому вопрос об историческом времени и месте происхождения олонхо, одного из самых архаичных эпосов мира, является важнейшей исследовательской проблемой. Как исторический источник устная народная традиция в целом признана в науке. Естественно, нужен критический подход при использовании ее в решении исторических проблем. Он подразумевает не только критику источника, но и непременную корреляцию с другими, в частности письменными, документальными источниками. Каждый жанр может содержать хотя бы малое зерно историзма, из которого при умелой интерпретации произрастет знание реальных исторических фактов. По-видимому, наиболее историчны предания и легенды. Есть даже специальный термин -«исторические предания». Вместе с тем наибольший интерес вызывали споры вокруг историзма эпоса -центрального, синкретичного фольклорного жанра. По своему этическому, эмоциональному, эстетическому заряду и онтологической направленности эпос выделяется среди других жанров. Кроме того, он соединяет в себе мифологические истоки, повествовательность легенд и преданий, изобразительные возможности песен, малых жанров фольклора. В эпосе отражена философия народа, его отношение к миру. Говоря об историзме эпоса, мы неизменно должны отталкиваться от проблемы его происхождения. Древность возникновения также пробуждает интерес к эпосу как свидетелю исторической реальности столетней и тысячелетней давности. Для бесписьменных в прошлом народов роль эпоса, как, впрочем, и преданий, например, в реконструкции исторического прошлого велика. К вопросу генетических истоков формирования якутского эпоса 161 Выяснение истоков и путей происхождения конкретно олонхо - одного из архаичных эпосов - содержит немало эвристических моментов, раскрывающих глубинные пласты народной памяти, менталитета, историко-культурного сознания. Происхождение якутов -носителей данной эпической традиции - с давних пор вызывает пристальный интерес в отечественной и мировой науке. Безусловно, якуты связаны с южной тюрко-монгольской средой, но также очевидно, что они имеют непосредственное отношение и к северным культурам, о чем свидетельствуют самые разные данные: антропология, культура, хозяйство, образ жизни, язык. Эпос как квинтэссенция древних представлений якутов является свидетельством этнических процессов, происходивших как в самый древний период, так и в более поздние времена. Тем интереснее и актуальнее исследование его не только как исторического источника, но и как объекта изучения с точки зрения его происхождения. Генетическая общность якутского эпоса и эпосов тюркоязычных народов Центральной Азии Научная разработка истории изучения проблемы происхождения якутского героического эпоса олонхо представляется одной из самых трудных задач, ибо специалистами высказаны различные точки зрения на этот счет. Проблема происхождения якутского героического эпоса затрагивалась со времен появления первых работ по олонхо. В.Л. Серошевский, Г.В. Ксенофонтов, П.А. Ойунский первыми обратили внимание на южное происхождение якутского эпоса. Доказать древность якутского эпоса и его южную прародину впервые попытался В.Л. Серошевский. Доказательства возможных связей якутов с тюркомонгольскими племенами он находит в олонхо: «Язык олонго дышит древностью. Кроме массы слов устарелых, вышедших из употребления, но не потерявших окончательно смысла, попадаются слова монгольские (особенно в титулах богатырей и названии их коней)» [3. С. 185-187]. Важно, что свои выводы он сделал на основании памятников устного творчества: исторических преданий и олонхо. Для доказательства идеи о южном происхождении якутского эпоса он приводил множество отрывков и слов из текстов олонхо. Проводя параллели между словами, сравнивая их, В.Л. Серошевский выводит: «Общие сведения по истории тюркских племен настолько отвечают гипотезе южного происхождения якутов, что для признания ее было совершенно достаточно тех прямых указаний, которые сохранила народная память» [Там же. С. 183]. Исследователь отметил роль воздействия конкретной исторической обстановки на тот или иной период развития олонхо: «Что-то более крепкое, чем сами боги, лежит в основе якутской эпической драмы. Но это не рок, а, скорее, живая, деятельная человеческая воля» [Там же. С. 185]. Поиски южной прародины якутов не привели его к утешительным результатам, и он вынужден был констатировать: «Если трудно установить точно место южной родины якутов и путь их на север, то еще труднее, почти немыслимо, указать на время их выхода» [Там же], - но допускал, что более или менее достоверную информацию можно получить «от дешифровки и разработки орхонских, уйгурских и монгольских надписей, а также минусинских и енисейских писаниц», в чем был ближе к истине. По мнению Г.В. Ксенофонтова, заслуга Серошевского заключается в том, что «он наметил важность былинных образов и картин, в которых может жить, так сказать, отблеск того, что когда-то переживалось предками якутов» [4. С. 82]. К тому же он еще в те времена думал о происхождении олонхо и честно признавался: «Делать какие-либо заключения о происхождении и родстве якутских былин теперь невозможно; они не изучены, записано их мало; знание якутского языка даже среди тюркологов редко» [3. С. 589]. И он был прав. Вслед за Серошевским Г.В. Ксенофонтов, задавшийся целью разобраться в происхождении якутов, писал: «Основное ядро героического эпоса якутов-скотоводов... интересно в том отношении, что в нем мы обнаруживаем в развернутом, живом, натуральном виде генеалогические сказания и мифы древнейших турецких и монгольских племен Центральной Азии» [4. С. 192]. Эта, в принципе верная, оценка олонхо, к сожалению, не получила продолжения, ибо автор неоднократно откладывает ее конкретное решение до завершения второго тома своего труда. Но как бы то ни было, понимание Г.В. Ксенофонтовым отражения проблемы происхождения якутского этноса в героическом эпосе нельзя не признать продуктивным. Г.В. Ксенофонтов, рассматривая олонхо как устную летопись якутов, высоко оценил его значение в определении связей якутов с другими народами: «Установление господствующих в героическом эпосе всего племени или в его отдельных частях мифологических сюжетов, мотивов и имен даст возможность при помощи широкого сравнительного изучения и анализа уяснить этническое и историко-культурное родство якутского народа в целом или его подразделений с другими известными народами древности», -писал он [Там же]. В результате проведенного по такому методу анализа ученый пришел к выводу, что идея патриархов народа - одна из характерных особенностей эпоса всех скотоводов, начиная от Ближнего Востока до Центральной Азии. Ученый изучил отражение древней истории якутов в их исторических преданиях и легендах, которые в отличие от образцов героического эпоса содержат прямые исторические свидетельства. Косвенные указания на переселение смешанного тунгусо-якутского племени под давлением якутов он нашел в так называемом хосунском эпосе [Там же], и это положило начало сравнительным исследованиям якутского олонхо с северными эпосами. П.А. Ойунский рассмотрел материалы олонхо с точки зрения историзма и его происхождения. По мнению П.А. Ойунского, олонхо возникло в период, когда предки якутов проживали в Средней Азии, недалеко от Аральского моря, когда происходили завоевательные походы Чингис-хана: «Древние якуты, ушедшие из Средней Азии, застали эти войны на территории древне-китайской империи. “олонхо” повествует об В.Н. Иванов, А. Ф. Корякина, Р.Н. Анисимов 162 этом, как заселение среднего мира в результате войны, т.е. как вынужденную колонизацию» [5. С. 13]. О времени появления олонхо П.А. Ойунский рассуждает: «Время появления олонхо в виде отдельных повествований о войнах должно быть отнесено к временам татарского и монгольского нашествий на Китай», а «избрание Чингиз-хана господином над тремя мирами вполне совпадает с победными нашествиями его на Китай, Среднюю Азию и Россию» [Там же]. Таким образом, достаточно широкие сопоставительные исследования якутского эпоса с целью установления его происхождения и времени появления проводились в двух направлениях. Во-первых, в тексте олонхо исследователи находили прямые свидетельства его связи с южной прародиной якутов: личные имена героев, названия географических объектов, животных, описания природы и т.д. Во-вторых, сравнивались некоторые термины и понятия из языка олонхо и языка и культуры других народов. Однако надо указать на то, что в преподнесении своих версий по происхождению олонхо первые исследователи не привлекли достаточно веского доказательного материала. Поставленные самими исследователями основные вопросы по древней истории якутов: установление их этнического родства и той группы народов, от которых предки якутов отделились, точное определение их раннего местожительства, а также приблизительные даты якутских переселений на Лену, - остались неразрешенными. В 1955 г. будущий академик АН СССР А.П. Окладников писал: «С исторической точки зрения особый интерес представляет вопрос о происхождении олонхо и его месте в древней культуре южных предков якутов, о том, как глубоко в прошлое уходит якутский эпос и каково его отношение к эпосу южных и северных соседей якутского народа» [6. С. 257]. Он предпринял специальное изучение проблемы и обнародовал вывод о том, что «якутское олонхо первоначально сложилось на юге, далеко от Средней Лены, в то время, когда у его создателей не было социальной почвы для оформления позднейших циклических эпопей типа “Манаса” и “Джангара”, но предки якутов и родственные им племена уже оставили далеко позади древний строй материнского рода и вступили в эпоху развитого отцовского рода. Оформление олонхо протекало в условиях тесных культурно-исторических связей и постоянного взаимодействия предков якутов как с их ближайшими родичами, предками нынешних саяноалтайских племен, так и с древними монголами» [Там же. С. 267-277]. Вывод основывался на широком привлечении фольклорного материала, фактических сведений предшественников. Продуктивным оказался подход А.П. Окладникова к постановке вопроса о генеалогической связи якутского олонхо с происхождением тюркоязычных народов Центральной Азии и Южной Сибири. Наше внимание в этом контексте привлекают два его основополагающих положения: 1. Южно-сибирские предки якутов расположены им в стране, где «имелись настоящие степи рядом с таежными массивами, горными хребтами и возвышенностями типа таскыл - гольцов Саяно-Алтайской системы» [6]. 2. Он ставит историю предков якутов в определенную связь с историей «тюркских племен и народов средневекового времени, пользовавшихся орхоно-енисейской письменностью», и считает, что «по данным языка среди тюркских народов или племен, наиболее родственных якутам по языку, должны были находиться те, которые говорили на языке, близком или тождественном языку орхоно-енисейских надписей» [Там же. С. 281]. Эти положения выдвинуты на основе анализа главным образом памятников героического эпоса якутов, и хотя они отражают только один из этапов этногенеза тюркских народов, их значение достаточно весомо с точки зрения установления общих генетических связей между этногенезом народа и возникновением эпического творчества. Вывод А.П. Окладникова обозначил два направления изучения историко-культурных корней якутского эпоса (тюркского и монгольского), что имело важное значение для исследования проблемы происхождения якутского героического эпоса олонхо. В любом контексте это был шаг вперед. Но правильно поставленное суждение о связи возникновения олонхо с этноге-нетическими процессами не дало ответа на вопрос: какой из этих источников был первичным, основным для формирования олонхо? Несмотря на это, вывод A. П. Окладникова был подхвачен эпосоведами, и в работах по якутскому эпосу надолго закрепилась идея «тюрко-монгольского» происхождения олонхо. С тех пор прошло около шестидесяти лет, и позиция А.П. Окладникова оказалась живучей. Его мнения придерживаются почти все, кто в том или ином виде затрагивает проблему происхождения якутского героического эпоса: И.В. Пухов, Г.У. Эргис, Н.В. Емельянов, Д.Т. Бурцев, В.М. Никифоров, А.И. Гоголев, B. Ф. Ермолаев и др. Все они подчеркивают одну общую мысль - генеалогическая близость якутского героического эпоса с эпосами других тюркских народов может быть замечена только в далеких краях Южной Сибири, ибо общеизвестно, что ближайшие предки якутов оказались в Прибайкалье, затем в бассейне Лены в глубокой изоляции от всего тюркского мира; при этом наука не располагает данными о том, что во втором тысячелетии нашей эры якуты и другие тюрки когда-либо непосредственно общались между собой. Остановимся на некоторых современных исследованиях поставленной проблемы. В трудах И.В. Пухова мы находим генетический подход к изучению древнейших истоков якутского героического эпоса в формате следующих вопросов: а) композиционное сходство эпосов этих народов; б) сходство приемов описания, характеристики и изобразительных средств; в) сходство конкретных деталей; г) сходство имен традиционных, наиболее устойчивых персонажей [7]. И.В. Пухов подверг сравнительному анализу сюжеты и образы алтайского героического эпоса: «Алтай-Бучый», «Алтын- Мизе», «Маадай Кара», «Кан Голо», «Алтын- Кучкаш», «Ак-Тойчи»; шорского: «Кан Кес», «Кан Морген, имеющий старшую сестру Кан Арго», К вопросу генетических истоков формирования якутского эпоса 163 «Ак Кан»; хакасского: «Алтын Арыг», «Кюн Тёнгис на сереброкрылом сивом коне», «Хан Хырчотой», «Немой Хан Мирген». Более подробно рассмотрено композиционное сходство героического эпоса «Маадай-Кара» и якутских олонхо, что признано автором как «явление просто уникальное». Надо отметить, что сравнительный анализ героических эпосов алтайского и якутского народов, впервые предпринятый в эпосоведении И.В. Пуховым, представил эти эпосы как единое целое, они отличаются между собой только по отдельным признакам, а «древняя общность истоков олонхо и героического эпоса алтае-саянских народов выступает вполне отчетливо» [Там же]. Особенность якутских олонхо в том, что они больше сохранили древнейшие черты. В последние годы сотрудники Научно-исследовательского института олонхо при Северо-Восточном федеральном университете им. М.К. Аммосова взялись за серьезное сравнительно-историческое, сравнительнотипологическое изучение якутского олонхо с отдельными памятниками эпического наследия тюрко-монгольских народов. Изучение речевых средств эпической образности олонхо и тюрко-монгольских эпосов дает довольно много новых и интересных данных для установлении общности происхождения эпосов. Молодой ученый Ю.П. Борисов провел сравнение параллелизмов в якутском олонхо, алтайском, хакасском эпосах и бурятском улигере и обнаружил: основной синтаксический строй параллелизма в исследованных эпосах является универсальным и однотипным; прослеживаются параллели структурной организации и семантической нагрузки между параллелизмами якутского олонхо и тюрко-монгольского эпосов: «Дословно повторяющиеся лексические единицы и словосочетания являются устойчивыми повторами, образующими ядро и матрицу параллелизма. В большинстве случаев организующее семантическое ядро параллелизма образуется из дословно повторяющейся лексемы и словосочетания. А при образовании матрицы параллелизма участвуют более двух дословно повторяющихся устойчивых единиц» [8]. С.Д. Львова на основе сравнительного исследования текстов алтайского и якутского эпосов приводит веские доказательства в подтверждение мнения И.В. Пухова о возможном едином происхождении сравнений внешнего облика персонажа с основными явлениями природы (солнце, луна, звезда, гора, долина и др.). В поэтической системе обоих эпосов гиперболизация является самым распространенным речевым средством [9]. Проведены также сравнения сюжета, мотивов, образных систем олонхо и тюрко-монгольских эпосов. М.Т. Гоголева в эпических традициях хакасского героического эпоса «Ай-Хуучин» и якутского олонхо обнаружила общие места: сходны мотивы чудесного рождения богатыря по воле богов-небожителей от престарелых родителей или от кобылы, спущенной на землю; главный герой - женщина-богатырка; одинаковы эпические традиции наречения богатыря, помощи коня, удаганок, борьбы с чудовищами из Нижнего мира и др. [10]. Комплексный сравнительный анализ идейно-художественных структур, сюжетно-композиционных характеристик, образной системы якутского и бурятского эпосов привел А.Ф. Корякину к обнаружению сходства в них гуманности идей (главные герои-богатыри борются во имя спасения соплеменников против заво-евателей-чудовищ, героическая идеализация богаты-рей-защитников), сюжетно-композиционной системы (многоплановость сюжетов, объединенных вокруг главной сюжетной линии), поэтики (героичность описываемых событий, богатство художественных средств), мировоззренческих представлений о Вселенной и небесных божествах. Автор статьи заключает: «Анализируемый нами материал подтвердил тот факт, что зарождение и развитие олонхо и улигера протекало в условиях тесных культурно-исторических столкновений, взаимодействий, взаимовлияний данных народов на разных этапах своего развития в общем котле прото-тюрко-монгольских народов, что эпосы обоих народов возникли на стыке исторических судеб и древних духовных контактов многих племен и народов, населявших территорию Центральной Азии и Южной Сибири, среди которых были предки тюрко-монгольских этносов» [11. С. 117]. О.К. Павлова в образах главных героев эпосов тюркских народов Средней Азии и Сибири нашла общие черты идеального защитника племени: высокие нравственные, моральные качества, физическую силу и могущество [12]. Изучив образы женщин якутского олонхо в сравнении с узбекским эпосом «Алпамыш», Л.Н. Герасимова нашла схожесть в характере женщин эпосов, отражающих эпоху матриархата: «...сильные духом, храбрые, отважные, уважаемые, мудрые, являются символами красоты, преданности и подражания, борются за спасение своего народа, за мир и за свою любовь» [13]. Обнаружение параллелей в мотивах уйгурской версии «Огузнаме», записанной в XIII в., и якутского олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» К.Г. Оросина привело Л.Н. Герасимову к выводу: «Близкие мотивы. подтверждают, что в эпических традициях уйгурского и якутского народов существовали типологические схождения, несомненно, основанные на общности идеалов, чаяний и ожиданий» [Там же]. В исследовании В.Б. Окороковой, Г.Е. Саввиновой высказывается предположение о присутствии в олонхо и тюркских эпосах схожего понятия о космическом едином первоначале, где не было структурных или иных разделений на уровни Времени и Пространства [14]. Оценивая роль таких сравнительных изучений эпо-сов в эпосоведении в целом, В.Н. Иванов отмечает: «Нет сомнения в том, что расширение и углубление сравнительного изучения якутского эпоса обогатит теоретические исследования по общетюркскому эпосу новыми фактами и аргументами, а в якутском эпосоведении введет в широкий научный оборот новые памятники якутского эпического наследия, позволяющие уловить не только специфику, но и общее с другими эпосами свойство эпического творчества» [15. С. 28]. В научных трудах последних лет специалисты прослеживают связи древних пластов кыргызского и якутского эпосов, замечая схожесть в эпосах обоих В.Н. Иванов, А. Ф. Корякина, Р.Н. Анисимов 164 народов в определении времени, воспевании и поэтизации физической мощи, неустрашимости, состояния богатырей в гневе, в одинаковости способов описания, характеристики в форме звукоподражания, в однотипности стилевых изобразительских приемов и во многих других элементах эпического творчества. И.Б. Молдо-баев выявил одинаковые с кыргызскими названиями этнонимы и мелкие родовые наименования, обнаруживающиеся у всех тюркоязычных народов Сибири: алтайцев, хакасов, тувинцев, якутов, шорцев, тофала-ров и др., что автор объясняет общностью хозяйства, общественного строя, материальной и духовной культуры, языков и других сторон традиционной жизни народов. И он заключает: «Вероятно, эти сходства относятся примерно к IX-XII вв., когда кыргызы находились с народами Сибири в непосредственном соседстве» [16. С. 51-52]. Перечень тюркоязычных народов Сибири, у которых наблюдается общность эпического творчества (по И.Б. Молдобаеву), позволяет понять первоначальные границы исторического места олонхо в мировом эпическом пространстве в генетических реалиях того исторического времени. Однако общность этнического происхождения не исчерпывает содержания общности эпического творчества. Важно, чтобы были приняты во внимание элементы типологического порядка. В исследованиях последних лет предпринята попытка научного сравнительно-исторического изучения якутского олонхо с отдельными памятниками эпического наследия тюрко-монгольских народов. Такой анализ еще раз подтверждает на новом материале старый тезис о южном происхождении якутского героического эпоса олонхо, его генетических связях с эпическим творчеством народов центрально-азиатской ойкумены. Проведенная работа - начало исследований, продолжение которых даст фундаментальные результаты сравнительного изучения якутского олон-хо, убедительные аргументы по определению места и времени происхождения олонхо. Таким образом, эпосоведы и раннего, и последующего периодов едины только в одном - признании тезиса о южном происхождении якутского эпоса, при этом главные вопросы: с какой конкретной территорией юга и с каким конкретным этносом связывается генезис якутского олонхо и в каких исторических условиях происходило появление этого особого жанра фольклорного творчества якутов - остаются нерешенными. Утверждение (разделяемое почти всеми) о том, что олонхо связано с общетюркским миром, слишком расплывчато, ибо мир тюрков был сложным по своему составу и разнообразным по духовному потенциалу. Некоторые исследователи усложняют эту точку зрения, связывая истоки олонхо с монголосферой. То же самое и с обоснованием времени создания олонхо. По этой проблеме исследователи высказывались также по-разному. Некоторые относят этот процесс к «родовому строю»; другие называют более или менее точное время: конец VI - начало VII в., когда предки якутов «пели о своих сражениях с тюркскими каганами» [17. С. 558]. И.В. Пухов писал: «...предки якутов, курыканы, имели общение с древними тюрками в VI-VIII вв. Из исторических преданий якутов и бурят видно, что последним монгольским племенем, с которым сталкивались якуты (вероятно в северном Прибайкалье), были буряты. Это могло происходить не позднее XV в.» [Там же. С. 10]. Г.У. Эргис, определяя историческое время появления олонхо, отмечал: «Олонхо в форме эпической героизации и гиперболизации характеров и действий родовых воинов отражает в основном патриархально-родовые отношения и бытовую жизнь народа с древнейших времен приблизительно до XVII в. Этот период составляет “эпическое время” в исторической жизни якутов, когда война, межродовые и межплеменные столкновения, борьба за самостоятельное существование... были главными темами устнопоэтического творчества народа» [18. С. 186]. Иной подход к проблеме у современного фольклориста В.М. Никифорова, который выявил следующие предпосылки возникновения эпоса: 1) «стечение определенных обстоятельств в течение сравнительно небольшого отрезка времени» -«моменты наивысшего напряжения моральных и физических сил этноса, когда он поставлен на грань выживания, когда решается вопрос о его существовании, независимости», например отражение вражеского нашествия; 2) «существование сколько-нибудь развитой мифической системы»; 3) «наличие длительного типологически сходного (несмотря на этнические и языковые различия) состояния кочевого (так как речь идет в основном о тюркомонгольской эпической традиции) общества», например двухтысячелетний период в Степи, начиная с хун-нского времени, когда по ней ездили одинокие конные богатыри, с которых «списывался, типизировался. образ богатыря-одиночки, который совершенствовался и «дописывался» столетиями; точнее воспевался, отшлифовываясь» [19. С. 171-175]. То есть им высказывается другая точка зрения, согласно которой якутский эпос существует не менее двух тысяч лет. Как видно, время создания олонхо специалистами также не определено; к тому же утверждается, что предки якутов, оказывается, сражались с тюркскими каганами. Возникает вопрос: кем тогда приходятся тюрки якутам? Изложенное свидетельствует о том, что в научном изучении генезиса якутского героического эпоса-олонхо много белых пятен и спорных позиций. Мы не ошибемся, если скажем, что объясняется это не столько научным уровнем исследователей-эпосоведов, сколько идеологическими ограничениями в научноисследовательской работе с точки зрения классовопартийного принципа в освещении общественных явлений. Не секрет, что изучение древних этапов истории, особенно в национальных республиках, не поощрялось из-за боязни «удревнения» их истории, которая могла содержать изначально устоявшиеся нематериальные духовные ценности, укрепляющие национальный имидж народа, в том числе и эпическое наследие. В этих жестких рамках научной деятельно- К вопросу генетических истоков формирования якутского эпоса 165 сти якутские эпосоведы не могли раскованно размышлять над проблемой эпического наследия, его происхождения, тем более связей с другими культурами. Потому новое научное изучение проблемы генезиса якутского олонхо нуждается в демонтаже устоявшихся в якутской фольклористике идеологических веяний советского времени. Работы исследователей олонхо требуют обновления с точки зрения фактической оснащенности в связи с тем, что в постсоветские годы опубликовано много работ по этногенезу тюркоязычных этносов Южной Сибири и монголоязычных этносов Прибайкалья. Например, в 2004 г. увидел свет этнографический труд «Буряты», в котором изложен новый взгляд на появление монголоязычных племен в Прибайкалье, что может существенно обновить объяснение участия монгольского фактора в развитии эпического творчества предков якутов [20]. Данные этой и других работ значительно обогащают фактическую основу этнических связей и взаимоотношений в регионе и выводят исследователей на более высокий уровень их обобщения. В результате мы получаем новую трактовку отдельных аспектов проблемы происхождения якутского олонхо, которая стала более аргументированной, потому - более ясной. Это - первое. Второе - якутские эпосоведы при изучении эпоса ограничивались возможностями сравнительно-типологического метода, пренебрегая сравнительно-историческим. Это объясняется тем, что они не ставили задачу специального изучения генезиса олонхо. Вопросы, возникающие в изучении происхождения олонхо и времени его появления, вынуждают еще раз самым тщательным образом разобраться в этнической истории якутов, ибо невозможно отделить происхождение эпоса от происхождения народа - его носителя. В работах историков древнее наследие связывается с основным ядром скотоводческих племен - тюркомонголов, расположившихся в степях Центральной Азии. Мир этих племен был разнообразным, но в I тыс. до н.э. среди них возвышаются хунну, создавшие в III в. до н.э. - IV в. н.э. военно-племенной союз хун-ну, занимавший огромную территорию от Центральной Азии до Восточной Европы. По мнению Н.К. Антонова, именно с этим хуннским временем связано «складывание и развитие героического эпоса тюркских народов», среди которых были и предки якутов, и он приходит к выводу, что «героический эпос тюрко-язычных народов зародился в глубокой древности, в эпоху их обитания в степях Центральной Азии во II-I тысячелетиях до н.э.» [21. С. 38-39]. В составе восточных хунну в VI в. н.э. активизируются тюрки (первоначально китайское развитие политического объединения), создавшие в середине VI в. Тюркский каганат. Нет никакого сомнения в том, что в его составе находились исторические предки якутов как один из правопреемников хунну - носителей пратюркского языка. История Южной Сибири, в том числе и Тюркского государства (каганата), как известно, была весьма сложной, наполненной межплеменными, династийны-ми и иными войнами. Именно там и тогда тюркский эпос прошел долгий, извилистый, но героический путь. На протяжении нескольких веков он вобрал в себя удивительно богатое содержание, выковал великое мастерство сказителей. В нем в поэтической форме отражены события былых времен, погружаясь в которые мы постигаем тайные пружины нашей истории, которая предстает перед нами полной героизма и драматизма, касающихся нравственных устоев поступательного движения по волнам веков. Именно эта история, а не иная, породила борцов, мучеников и героев невидимого нам нравственного мира, людей сильных и благородных, злых и жестоких. Мы не всегда придаем значение тому, что это было время прорывных героических поступков и самоотверженных действий, время, которое историки называют временем военной демократии, временем мучительных поисков выхода из глобального кризиса первобытного общежития. Только недостаток исторических источников сглаживает остроту восприятия нами исторических реалий того времени. Даже широко известные орхоно-енисейские надписи о походах каганов, воспевающие их очень образно и в стихотворной форме, не передают ту напряженность обстановки, которая характерна для эпического творчества. Но то, что именно события, связанные с периодом военно-политических союзов и их династийных войн легли в основу формирования героического эпоса, не подлежит никакому сомнению. В этом едины все эпосоведы. Якуты - осколок древнего тюркского народа, восходящего к хуннским корням. Если, по мнению специалистов, складывание героического эпоса происходило именно в тот период, то эпическое наследие якутов обладает широким диапазоном времен. И это дает возможность предположить, что предки современных якутов пронесли это наследие через века, участвуя во всех этнополитических перипетиях тюркского мира в Центральной Азии и Южной Сибири, особенно когда они оказались в гуще событий, развернувшихся в VI-VIII вв. н.э. на юге Сибири и приведших к образованию Тюркского каганата. Но самое судьбоносное состояло в том, что единый тюркский мир, просуществовавший два столетия, раскололся на две части, и каждая из них выбрала свою дорогу автономного существования. В результате Восточный тюркский каганат безвозвратно пал в 745 г., и предки современных якутов оказались отодвинутыми на север, к горнотаежной полосе Прибайкалья и верховьям р. Лены. Этот разлом судьбы, сопровождавшийся широкими передвижениями, военными столкновениями, быстро создающимися и распадающимися военными союзами, бурными проявлениями событий периода военной демократии, глубоко проникли в общественное сознание и стали источником дальнейшего развития феномена эпического повествования, в котором его герой приобрел черты богатыря-воина, а его деятельность -характер боевой героики. События истории мира тюркской общности запечатлелись в памяти выходцев из этого мира; иначе и не могло быть, ибо это было время бесписьменной истории (если и была письменность, то ее знали единицы). А память, как известно, отсекает все мелкое, ненужное для каждого поколения, отбирая те факты В.Н. Иванов, А. Ф. Корякина, Р.Н. Анисимов 166 и события, которые представляли общественный интерес с точки зрения не только житейского, но и общечеловеческого опыта. Со временем происходит героизация событий, граничащая с мифологизацией. Создается своеобразная поэзия, в которую, словно в чудесную ткань, вплетались рассказы о подвигах и нравах, предания о героях племени и о богах; формируется образ героя-богатыря, отражающий коренные интересы коллектива (рода, племени, этноса). Каждое поколение помнило и пересказывало в песнях и рассказах старые легенды, обогащая их, без конца видоизменяя, не задумываясь над тем, кто творец или творцы этих поэм. То было царство эпического творчества, давшее яркие образцы героических характеров, сформировавшийся образ богатыря-воина с некоей эпической его идеализацией. Было бы преувеличением думать, что хуннский героический эпос унаследовали только древние предки современных якутов. Известно, что государство хуннов простиралось от Уссури на востоке до Урала на западе, от Саян до верховьев Амура на севере, до Китая на юге и состояло из 24 больших родов-улусов. Нет сомнения, что последние дали начало многим этническим образованиям, впоследствии составившим тюркоязычную общность. Это касается прежде всего народностей Саяно-Алтайского нагорья, о чем достаточно подробно написано в коллективном труде тувинских ученых [22. С. 50-113]. Историки Тувы считают, что «из всех тюркских языков именно в тувинском в наибольшей степени сохранились особенности древнетюркского языка, зафиксированного в орхоно-енисейских письменных памятниках» [Там же. С. 110]. Но как согласуется это положение с мнением многих якутоведов о том, что якутский язык является самым древним тюркским языком, в частности с тем, что писал Г.В. Ксенофонтов: «...якутский язык должен быть признан тем диалектом, на котором говорили древнейшие турецкие племена Монголии, известные в исторических хрониках Китая под названием хунну или сюнну»? [4. С. 205] Думается, что здесь нет никакого принципиального противоречия, ибо предки тувинского этноса, так же как предки якутов, могли отколоться от хуннской общности в древнейшие времена, пронести общетюркскую основу своего языка через многие века и сохранить его. Тем более тувинские коллеги «весьма важным свидетельством» своей позиции считают то, что «немало архаических терминов сохранилось в тувинском героическом эпосе» [22. С. 110], а якутский тюрколог Н.К. Антонов высказал предположение, что «якутский язык в древности был языком какого-то большого народа и имел значительное влияние на соседние монгольские языки» [23. С. 4]. В свете этих размышлений нельзя не согласиться с Е.М. Мелетинским, который утверждал, что «героические поэмы о степных конных богатырях с их специфической поэтической структурой являются древним наследием основного ядра скотоводческих племен -тюрко-монголов - и сложились в своих основных элементах в степях Центральной Азии в условиях скотоводческого быта и тесных исторических связей с тюркскими и монгольски
Ермолаев В.Ф. Орхонские тюрки VI-VIII вв. и якутское олонхо // Советская тюркология. 1989. № 4. С. 42-47.
Слепцов П.А. Лингвофольклористика: проблемы и задачи (на материале якутского фольклора) // Фольклорное наследие народов Сибири и Дальнего Востока : сб. науч. тр. Якутск : Якут. науч. центр СО РАН, 1991. С. 100-101.
Антонов Н.К. Материалы по исторической лексике якутского языка. Якутск : Якуткнигоиздат, 1971. 175 с.
Антонов Н.К. Наследие предков. Якутск : Бичик, 1993. 200 с.
История Тувы : в 2 т. / Ин-т гуманитар. исслед. Респ. Тыва; под общ. ред. С.И. Вайнштейна и М.Х. Маннай-оола. 2-е изд,, перераб. и доп. Новосибирск : Наука, 2001. 367 с.
Буряты / отв. ред. Л.Л. Абаева, Н.Л. Жуковская; Ин-т этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая. М. : Наука, 2004. 633 с.
Никифоров В.М. Стадии эпических коллизий в олонхо: формы фольклорной и книжной трансформации. Новосибирск : Наука, 2002. 208 с.
Пухов И.В. Олонхо - древний эпос якутов. Якутск : Сайдам, 2013. 46 с.
Эргис Г.У. Очерки по якутскому фольклору. Якутск : Бичик, 2008. 400 с.
Иванов В.Н. Якутский героический эпос Олонхо в контексте сравнительного изучения // Вестник Северо-Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова. 2016. № 1. С. 22-29.
Молдобаев И.Л. Опыт историко-этнографического сравнения эпоса «Манас» и олонхо «Строптивый Кулун Куллустуур» // Якутский эпос в контексте эпического наследия народов мира : сб. науч. ст. Якутск : Изд-во ИГИ и ПМНС РАН, 2004. С. 51-59.
Саввинова Г.Е., Окорокова В.Б. К вопросу о сюжетных мотивах олонхо и эпосов тюркоязычных народов // Вестник Челябинского государственного университета. 2017. № 12. С. 174-183.
Герасимова Л.Н. Образ женщины в узбекском эпосе «Алпамыш» и якутском олонхо»Элэс Боотур» // Филологические науки. Вопросы теории и практики Тамбов : Грамота, 2015. № 12 (54) : в 4 ч., ч. III. C. 46-49.
Павлова О.К. Образы главных героев олонхо северо-восточной традиции якутов // Вестник Северо-Восточного федерального университета имени М.К. Аммосова. Сер. Эпосоведение. 2017. № 3 (7). С. 57-67.
Корякина А.Ф. Некоторые параллели в поэтике якутского олонхо и бурятского улигера (на примере олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» П.А. Ойунского и улигера «Абай Гэсэр Могучий» в записи Маншуда Имегенова) // Филологические науки. Вопросы теории и практики. 2013.№ 12-1 (30). С. 112-117.
Гоголева М.Т. Олонхо и хакасский героический эпос «Ай-Хуучин» // Филологические науки. Вопросы теории и практики. Тамбов : Грамота, 2015. № 1 (43) : в 2 ч., ч. II. С. 52-56.
Львова С.Д. Сравнения в поэтической системе олонхо якутов : магистерская дис. Якутск, 2018. 150 с.
Борисов Ю.П. Ритмико-синтаксический параллелизм в якутском олонхо и тюрко-монгольских эпосах: сравнительный аспект : автореф. дис.. канд. филол. Наук : 10.02.02. Якутск, 2017. 22 с.
Пухов И.В. Героический эпос тюрко-монгольских народов Сибири: общность, сходства, различия // типология народного эпоса. М. : Наука, 1975.С. 12-62.
Окладников А.П. История Якутской АССР. М. ; Л. : Акад. наук СССР, 1955. Т. I: Якутия до присоединения к Русскому государству. 432 с.
Ксенофонтов Г.В. Ураангхай-сахалар. Якутск : Кн. изд-во, 1992. Т. I: Очерки по древней истории якутов. 416 с.
Ойунский П.А. Якутская сказка (олонхо), ее сюжет и содержание. Якутск : Сайдам, 2013. 96 с.
Серошевский В.Л. Якуты : опыт этнографического исследования. 2-е изд. М. : Рос. полит. энцикл., 1993. 736 с.
Мелетинский М.Е. Происхождение героического эпоса: ранние формы и архаические памятники. М. : Вост. лит., 1963. 464 с.
Иванов В.Н. Олонхо - уникальное явление в мировой эпической культуре. Якутск : Изд. дом СВФУ, 2014. 158 с.
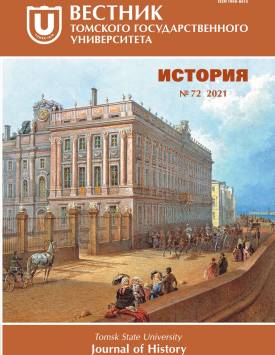

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью