Позднесоветские субботники: от продуктивистской утопии к ритуалам политической лояльности
Статья посвящена феномену позднесоветского субботника. Возрожденные в 1969 г. после почти полувекового забвения, субботники стали весьма заметным явлением эры позднего социализма. Авторы исследуют бытование субботников и как идеологического конструкта, и как экономико-политической практики. Несмотря на то, что субботники преследовали продуктивистские цели увеличить производительность труда, достаточно быстро они перешли из регистра кампании по политическому мотивированию труда в регистр праздников политической лояльности.
Late soviet subbotniks from the productivist utopia to the rituals of political loyalty.pdf Введение Наша статья посвящена феномену советского субботника. Точнее, нас интересует его позднесоветское измерение, когда этот день превращается в ритуализованный праздник труда. Писать о труде как о ритуале чрезвычайно трудно. В каком-то смысле труд - наиболее противоположная ритуалу деятельность. В самом первом приближении ритуалы, неважно, магические или политические, кажутся связанными с пространством сакрального - сверхъестественного или создаваемого на глазах социального [1]. Труд же, наоборот, предстает максимально профанной деятельностью, преобразованием материи ради низких телесных нужд. Несмотря на марксистские идеи о труде как об основной форме деятельности человека, которая порождает все остальные, в том числе символические, на символическом же уровне акт труда тщательно отделен от возвышенных форм религии, политики или искусства. В этом отношении субботник в странах советского типа парадоксален. Это праздник, но это рабочий день на рабочем месте. Это символические действия, но одновременно они и полезная работа. Это проявление политической лояльности, но она мыслится как свободное распоряжение личностью своим свободным временем. И одновременно это действие в настоящем в память о прошлом, которое, однако, доказывает наступление ожидаемого будущего. Возможно, стоило бы назвать субботник карнавалом в духе М. Бахтина, если бы не вопиющая возвышенность таких мероприятий. С парадоксами позднесоветского субботника мы работаем как с противоречием и, как исследователи, идем с двух концов проблемы сразу. Мы смотрим на субботник и как на труд, и как на политический ритуал и помещаем в два соответствующих контекста. Первый контекст - это контекст советского труда и политического управления им. Начиная с 1917 г. советский режим, во-первых, позиционирует себя как власть рабочих, а во-вторых, утверждает, что нет таких социальных или экономических законов, которые не смогла бы обойти или преодолеть политическая воля социалистического общества-государства. На практике это означает постоянное вмешательство продуктивистских политических мотивов в повседневный труд миллионов советских рабочих. Идеология, классовая сознательность, работа над собой во имя повышения производительности труда стали такими же технологиями производства, как мартеновская печь, двигатель внутреннего сгорания, энергия воды или атома. Соответственно, реальность советского труда оказывается наполненнной многочисленными политическими кампаниями во имя продуктивизма, которые постоянно собирают и пересобирают советских рабочих, ИТР, руководителей и как личностей, и как коллективные общности [2]. Примерами таких кампаний являются стахановское движение, движение за ударный труд, движение за коммунистическое отношение к труду, а также многочисленные советские «методы» (наиболее известен в литературе Щекин-ский, но ему предшествовали десятки методов организации трудового и производственного процесса) [3]. В этот ряд можно поставить и субботники. Во-первых, советские идеологи сами соотносят субботники со стахановцами и ударниками, а во-вторых, исторически именно первый советский субботник 1919 г. открыл для коммунистических лидеров возможность экспериментировать с политической сознательностью рабочих в поисках способа повысить производительность труда. Второй интересующий нас контекст - это идея политического ритуала. В упрощенном виде изучение политических ритуалов можно представить как сочетание двух подходов: социолога Эмиля Дюркгейма и его последователей и антропологов-постструктуралис-тов, прежде всего Клиффорда Гирца. Для социологов- М.О. Пискунов, Т.Н. Раков 32 дюркгеймианцев с их уклоном в структурный функционализм политические ритуалы - это в основном способ воспроизводства сообщества или института, достраивания идентичности участников [4]. Для Гирца и близких ему по духу антропологов символическая сторона ритуала имеет самостоятельное значение, а происходящая (или не происходящая) по ходу ритуала история может иметь последствия и для «больших» устоявшихся социальных структур [5]. В этом отношении авторы находятся ближе к полюсу Гирца. Приуроченные к дню рождения В.И. Ленина позднесоветские субботники выступали одновременно и как политические праздники, и как юбилейные даты [6. C. 106], т.е. они воспроизводили существующие политические мифы основания Советского Союза и одновременно актуализировали вопросы продуктивизма советского труда и коммунистической перспективы с неожиданной для властей стороны. Тезис нашей статьи состоит в том, что начиная с 1969 г. субботники были возрождены в Советском Союзе после продолжительного перерыва. Возрожденные субботники сочетали в себе одновременно две формы: форму кампании по политическому управлению трудом и форму политического ритуала. На наиболее высоком дискурсивном уровне субботник представал в первой форме и преследовал преимущественно про-дуктивистские задачи. Но на местах, в экономической и политической практике, решение продуктивистских задач либо имитировалось, либо подменялось праздником политической лояльности режиму и общественно полезного, но непродуктивного труда. Этот тезис мы проверяем на большом массиве источников разных видов: центральной и региональной (преимущественно сибирской) прессе, документах первичных партийных организаций фабрик и заводов, личных дневниках. Хронологические рамки работы касаются в основном периода позднего социализма и охватывают промежуток между 1969 и 1985 гг. Субботник как идея, угасание и возрождение кампании Термин «субботник» и связанная с ним трудовая практика появляются в советском дискурсе после статьи В.И. Ленина «Великий почин» (1919), рефлексирующей феномен добровольных рабочих суббот на московском узле Казанской железной дороги [7]. Вождь революции увидел в этой инициативе симптом переворота в культуре труда советского пролетариата, который начал по-хозяйски относиться к социалистической собственности. В начале статьи он отмечает: «Прямо-таки гигантское значение в этом отношении имеет устройство рабочими, по их собственному почину, коммунистических субботников (здесь и далее курсив В.И. Ленина. - М.П., Т.Р.). Видимо, это только еще начало, но это начало необыкновенно большой важности. Это - начало переворота, более трудного, более существенного, более коренного, более решающего, чем свержение буржуазии, ибо это -победа над собственной косностью, распущенностью, мелкобуржуазным эгоизмом, над этими привычками, которые проклятый капитализм оставил в наследство рабочему и крестьянину. Когда эта победа будет закреплена, тогда и только тогда новая общественная дисциплина, социалистическая дисциплина будет создана, тогда и только тогда возврат назад, к капитализму, станет невозможным, коммунизм сделается действительно непобедимым» [Там же. С. 5-6]. С точки зрения Ленина, коммунизм как формация наступит только тогда, когда прекратится отчуждение рабочего от результатов его труда, а большая часть благ будет носить не частный, а общий характер. Лишение буржуазии власти само по себе не приближает общество к коммунизму, поскольку рабочие продолжают трудиться за зарплату, сам их труд измеряется в зарплате и в этом смысле является частным благом. Несмотря на экономическое (мировым рынком) и политическое (социалистической революцией) обобществление производства, рабочий по-прежнему видит себя лишь винтиком машины и готов быть таким винтиком, пока он получает зарплату. Поэтому маленькое изменение мотивации с частной на общую, политическую вызывает у озабоченного вопросами рациональной организации труда Ленина (еще в 1914 г. он написал заинтересованную статью о системе Тейлора) такое вдохновение. Далее он пишет: «Коммунистические субботники необыкновенно ценны как фактическое начало коммунизма, а это громадная редкость, ибо мы находимся на такой ступени, когда «делаются лишь первые шаги к переходу от капитализма к коммунизму» [Там же. С. 22]. Последующие годы продемонстрировали, что Ленин переоценил степень переворота в сознании рабочих. Точнее, там, где вождь увидел первые шаги, его соратники попробовали сделать систему. В годы военного коммунизма субботники из разовой акции наиболее сознательных рабочих (железнодорожники, члены партии!) превратились в массовые многомиллионные кампании по политическому мотивированию к труду. Оценить степень их действительного энтузиазма сегодня проблематично, но ясно, что симптомом смены трудовой мотивации у среднего рабочего они так и не стали. Последовавшая за 1921 г. смена системы военного коммунизма на НЭП означала, что советский труд возвращается к традиционному капиталистическому материальному стимулированию работы. И даже сталинская революция сверху ничего не поменяла: основной формой повышения заинтересованности советских рабочих в труде на долгие годы стала сдельщина, усугубляемая бешеной индивидуальной конкуренцией стахановщины [8]. На этом фоне субботники как обязательное идеологическое мероприятие могли локально случаться, но в целом остались на обочине советской жизни. Начиная с НЭПа и до конца 1960-х гг. они были, скорее, явлением из мира ленинианы, а не труда - поводом, который дал Ленину возможность сформулировать в тексте свое понимание социального класса. Последний тезис мы можем подтвердить частотным анализом данных архива газеты «Правда». Наше предположение состоит в том, что чем чаще тот или иной концепт встречается в центральной печати, тем Позднесоветские субботники: от продуктивистской утопии к ритуалам политической лояльности 33 сильнее это отражает его значимость для господствующей в СССР идеологии. Пропорция результатов поиска по распознанным текстам «Правды» за 1917-1991 гг. выглядит следующим образом. Всего за советский период система находит 3 732 страницы, содержащих слово «субботник», из них на 1917-1953 гг. приходится всего 540 страниц. О субботниках «Правда» говорит преимущественно в 1920-е гг., а затем эта традиция и ее упоминания практически сходят на нет. При этом на 1969-1991 гг. приходится 2 921 упоминание субботника, из них в 1969 г. - 112, в 1970 г. - 100, в 1971 г. -99. На эти три года, судя по всему, приходится конструирование традиции субботников заново. Субботники в прессе Конструирование позднесоветского ритуала субботника осуществлялось во многом за счет прессы. В этом аспекте газеты брали на себя функцию двоякого идеологического медиума. С одной стороны, партийные издания, и прежде всего главная советская газета «Правда», выступали как экран партийной идеологии, отражая последние веяния и начинания. С другой стороны, они и сами добавляли ритуалу очертания, наделяя его метафорами, необходимыми для его дискурсивного поддержания. «Правда» в 1969 г. выступала одним из главных рупоров заново создаваемого ритуала. Интересно, что с самого начала субботник оказался плотно привязан к другим советским юбилейным датам: к 50-летию первых субботников 1919 г. и столетию со дня рождения В.И. Ленина, отмечавшемуся в 1970 г. Прямо указывает на связь с первым субботником редакционная статья в номере от 29 марта 1969 г.: «Широкую и горячую поддержку находит в стране инициатива передовых коллективов Москвы и других городов, решивших ознаменовать 50-летие первых субботников проведением юбилейного коммунистического субботника» [9. 1969. 29 марта]. Статьи в день проведения субботника 12 апреля встраивали его в сложную систему советских ритуальных действий. Редакционная заметка называлась «Верность великим традициям», провозглашая преемственность между 1919 и 1969 г. и одновременно утверждая субботник как один из важных советских ритуалов. Однако статья не только содержала идеологическую тавтологию, но и предлагала новые грани понимания субботников - они оказывались частью рассуждений о научно-техническом прогрессе: «...повышение производительности труда на основе ускорения технического прогресса стало определяющим в социалистических обязательствах, принятых в честь 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» [Там же. 12 апр.]. Отчетные материалы в номере от 13 апреля предлагали связь между субботником и социалистическим соревнованием через визуальные образы: молодые женщины носили в этот день якобы такие же косынки, как и ударницы первых пятилеток [Там же. 13 апр.]. Интересно, что труд в день субботника не представал как труд вообще, а скорее, как труд на рабочем месте, дополнительный рабочий день. К такому выводу можно прийти, если обратить внимание на то, как в «Правде» описывается участие ученых в московском субботнике: «.ученые в день юбилейного субботника ставили опыты, вели математические расчеты, склонившись над приборами, продолжали путь к тайнам природы...» [Там же]. В следующем, 1970 г., в «Правде» продолжилось конструирование ритуала субботника. В дополнение к труду на рабочем месте пропагандируются и практики благоустройства и озеленения городов. Редакционная статья от 29 марта само название имела в духе лозунга «Украсим города и села» [Там же. 1970. 29 марта]. Авторы ее опять-таки увязывали субботники со значимыми юбилеями (столетием Ленина), однако спустя год после возрождения субботников зазвучала и критика их проведения: «.картина, о которой сообщает в редакцию москвич Н. Волохов: “Соберемся на субботник, расчистим территорию, а какие-нибудь организации завтра же ее захламят. Обидно становится...”» [Там же]. Труд на рабочем месте в день субботника также должен был обрести зримые метафоры, чтобы поддерживать воспроизводство ритуала. С этого размышления начал свою статью писатель Евгений Пермяк: «В зрительной памяти поколений со словами “Великий почин” возникают не только чеканные строки знаменитой ленинской брошюры, но и запечатленный кистью художника живой облик Ильича - участника первого всероссийского коммунистического субботника» [Там же. 12 апр.]. Задачей Пермяка было создать новый визуальный образ фабричного труда на субботнике. Репортаж с завода им. Ильича в Москве эту задачу решил и запустил новый пропагандистский образ - «праздник в рабочей спецовке». Так называлась сама статья Пермяка, хотя он и оговаривался, что позаимствовал этот образ из материала заводской многотиражки. Редакционная статья в том же номере задавала способы восприятия и описания субботника: это день эмоционального подъема, связанного с трудом на благо Родины: «.самым ярким, самым волнующим был на нашем общем празднике радостный коллективный труд - труд бескорыстный и самоотверженный, который принес каждому чувство патриотической гордости, большое личное удовлетворение» [Там же]. Однако субботник не только про чувство, но и про рациональный расчет, который предполагал экономию материалов для проведения дополнительного трудового дня, повторялась мысль о проведении его прежде всего на рабочем месте. Те, кто не работал на предприятиях, трудились на благоустройстве и озеленении городов. Эмоциональный подъем, связь с образом В.И. Ленина, труд на рабочем месте или на благоустройстве так и закрепятся как главные способы репрезентации субботника на страницах «Правды». В 1971 и 1972 гг. репрезентации субботников закрепляются. В 1971 г. субботник актуализируется связкой с очередным партийным съездом, которую провозглашает редакционная статья от 17 апреля: «Делом отвечая на решения XXIV съезда КПСС, каждый советский человек стремится внести свой достой- М.О. Пискунов, Т.Н. Раков 34 ный вклад в осуществление грандиозных предначертаний партии, в выполнение планов пятилетки». В то же время к 1971 г. ритуал еще не до конца стал рутиной, о чем свидетельствует и критика организации субботников из той же статьи: «Нужно позаботиться о снабжении участников субботника материалами и инструментами, о правильной расстановке сил... всюду необходимо создать условия для того, чтобы каждый мог трудиться с наивысшей эффективностью, с наибольшей отдачей творческих сил» [9. 1971. 17 апр.]. В приведенной цитате критика не была озвучена прямо, но, как нам кажется, фразы вроде «нужно позаботиться» предполагали, что в предыдущие годы для должного проведения субботника было сделано далеко не все. В репортаже 1972 г. о субботнике уже происходит некоторое повторение известных ранее приемов описания праздника - метафоры «праздник в рабочей спецовке», репортажа из депо Москва-Сортировочная. Редакционная статья накануне субботника, в номере от 15 апреля, больше посвящена проблеме отношения к труду и воспитания трудовой молодежи и затрагивает субботник лишь в двух последних абзацах, да и то лишь затем, чтобы утвердить то, что в субботнике примут участие многие советские граждане. В 1973 г. материалы «Правды» свидетельствуют о рутинизации ритуала - исчезают пропагандистские призывы, закрепляется рубрика «Позывные субботника», репортажи о его проведении занимают прочное место на 1 -й и 2-й страницах соответствующих номеров. Это символическое размещение в пространстве «Правды» продлится до самого конца существования КПСС. Можно заметить лишь небольшие новации в нарративах о субботнике. Так, в 1980 г., в связи с культом Л.И. Брежнева, цитата из его речи опережает отсылку к Ленину в материале про подготовку к субботнику [Там же. 1980. 19 апр.]. Региональные издания в целом следовали примеру «Правды» в деле пропаганды субботника как нового ритуала. Для анализа репрезентаций субботников нами выбрана новосибирская городская газета «Вечерний Новосибирск». В 1969 г. «Вечерний Новосибирск» вслед за «Правдой» также ведет агитационную кампанию за субботник, охватившую все апрельские номера издания. Под эти нужды отводится первая страница газеты. Праздник подается в связке не только с субботником 1919 г., но и как продолжение социалистических соревнований, ударного труда пятилеток. Помимо труда на предприятиях сразу же возникает и мотив благоустройства города [10. 1969. 5 апр.], причем оно распространялось не только улицы и дворы, предприятия также занимались уборкой собственных территорий, направляя на это зачастую комсомольцев [Там же]. В отличие от «Правды» новосибирское издание в отчетных материалах о субботнике не публиковало сведений о благоустройстве, но размещало фотографии уборок улиц [Там же. 12 апр.]. Рутинизация ритуала субботника отчетливо намечается в материалах «Вечернего Новосибирска» за 1973-1974 гг. Редакция заимствует у «Правды» рубрику «Позывные красной субботы», под шапкой которой выходят сообщения о подготовке тех или иных коллективов города к празднику. Примечательна одна из таких заметок в газете за 10 апреля 1974 г., которая словно «разоблачает» то, что субботник обрастает рутиной. В тексте за авторством О. Юшиной, рассказывающем о подготовке к субботнику на заводе электроагрегатов, есть примечательный фрагмент: «Я даже могу предсказать, как будет выглядеть предприятие нынче. У проходной завода встречает рабочих оркестр, по радио звучат слова поздравления. Короткий митинг, и все расходятся по рабочим местам» [Там же. 1974. 10 апр.]. Способность «предсказывать» ход субботника, на наш взгляд, отражает то, что ритуал окончательно устоялся и приобрел воспроизводимые год от года формы. Данные формы репрезентации ритуала, установившись к 1974 г., просуществуют в «Вечернем Новосибирске» вплоть до Перестройки. Изучение материалов газеты «За науку в Сибири» (с 1982 г. - «Наука в Сибири») дает возможность проследить, как функционировал нарратив о ритуале субботника в непартийных СМИ. В интересующий нас период эта газета была органом Президиума Сибирского отделения АН СССР и его профсоюзной организации. Редакция издания далеко не сразу восприняла возрождение субботника в 1969 г. как новый важный политический ритуал. Центральные и сибирские партийные издания довольно согласованно «готовили» свою аудиторию к проведению субботника в апреле 1969 г., в то время как страницы «За науку в Сибири» не отражают внимания Сибирского отделения АН СССР к этому событию. Лишь в сам день проведения субботника на последней странице газеты выходит краткая заметка о его проведении в новосибирском Академгородке. В дополнение к публикации на последней странице, на которой обычно размещались материалы о спортивных соревнованиях и театральных премьерах, в заметке говорилось об уборке снега на территории городка и об участии в этом видных академиков. Подкреплением тексту служила фотография академика А.А. Трофимука, расчищающего снег [11. 1969. 23 апр.]. Интересно, что она оказалась единственной иллюстрирующей субботники фотографей за весь рассматриваемый промежуток времени. Данная заметка открывает первый период публикаций о субботниках, который можно выделить в «За науку в Сибири». С 1969 по 1973 г. газета будет уделять крайне мало внимания этому ритуалу. Так, в 1970 г. и вовсе не будет статей и заметок о субботниках. Видимо, столетний юбилей В.И. Ленина оказался для редакции газеты более важным мероприятием, поскольку все апрельские номера посвящены вкладу ученых Сибирского отделения в чествование этой даты. В 1971 и 1972 гг. издание выпускает одну заметку до проведения субботника и отчетную публикацию о проведении самого мероприятия. Подавляющая часть заметки за 1971 год, агитировавшей принимать участие в субботнике, была посвящена его истории и возрождению этого ритуала в 1969 г. [Там же. 1971. 14 апр.]. Вероятно, перед нами отражение того, что субботник Позднесоветские субботники: от продуктивистской утопии к ритуалам политической лояльности 35 для ученых и жителей Академгородка пока что был не до конца понятным ритуалом, и редакция издания так доносила смысл субботника. Отчет же о состоявшемся празднике был весьма лапидарен и в самых общих словах обозначил количество денег, заработанных 17 апреля и перечисленных в фонд пятилетки, а также то, что молодежь Академгородка занималась на субботнике благоустройством района [11. 1971. 21 апр.]. В 1972 г., также за несколько дней до субботника, выходит краткая агитационная заметка [Там же. 1972. 12 апр.], а затем и отчет [Там же. 19 апр.], которые риторически очень схожи с публикациями 1971 г. В следующем, 1973 г., происходит резкий слом в изображении субботников на страницах «За науку в Сибири». Теперь все номера конца марта - апреля будут посвящены пропаганде субботников, публикациям директивных заметок о том, как коллективы различных институтов и предприятий, расположенных в городке, будут активно участвовать в «дне коммунистического труда». Про субботник в городке газета выпустит материал, как и в предыдущие годы, за несколько дней до его проведения [Там же. 1973. 18 апр.]. Однако подача материалов в этом выпуске существенно изменилась по сравнению с прошлыми годами: заметок про подготовку к субботнику было несколько, они разместились как на первой, так и на второй странице, была опубликована заметка «У истоков коммунистического труда», рассказывающая об истории первых субботников в Сибири. Отчет о субботнике 1973 г. также более масштабен по сравнению с предыдущими. Интересно, что заметки затрагивали три аспекта субботника: в целом в городке, среди ученых и среди рабочих. В первой из них освещались общее количество участников, количество перечисленных в фонд пятилетки средств, предпринятые пропагандистские меры по организации праздника. В этой же заметке подчеркивались работы по благоустройству и озеленению городка: «...посажены несколько сотен деревьев» [Там же. 26 апр.]. Завершалась заметка общей оценкой прошедшего субботника, постулировавшей его как удачно проведенный ритуал, включавший в себя такие важные аспекты, как «творчество, соревнование, эмоциональный подъем, высокая сознательность». Заметка о субботнике в научных институтах была менее пафосной. В ней кратко были обрисованы мероприятия в разных учреждениях, причем особо подчеркивалось, что ученые работали на своих местах и продолжали в субботу свои исследования [Там же. 26 апр.]. По сути, в применении к науке субботник оказывался дополнительным рабочим днем, не предполагающим какого-то особого эмоционального настроя, активно вовлекающего в ритуал. Заметка же про субботники на предприятиях городка содержала отсылки к важности ритуала: описывался митинг на одном из заводов, в ходе которого рабочие якобы «взяли на себя повышенные социалистические обязательства». Такая клишированная фраза служила способом встроить субботник на этом конкретном новосибирском заводе в ряд других по стране, сделать его узнаваемым для любого читателя газеты. Период наиболее активного освещения подготовки к субботнику и его проведения сохраняется на страницах «За науку в Сибири» до 1979 г. В 1977 г. добавляется еще один аспект - освещение проведения субботников не только в Новосибирске, но и в других городах отделения: Иркутске, Томске, Красноярске, Улан-Удэ, Якутске [Там же. 1977. 21 апр.]. Что касается способов построения нарратива о субботниках, то он оставался прежним: ученые трудятся в этот день на своем рабочем месте; как и в других советских газетах, отмечается благоустройство и озеленение территории Академгородка. Например, в отчетной публикации за 1975 г. упоминалось о закладке рощи ветеранов [Там же. 1975. 24 апр.]. Удачно высвечивается риторика о ритуале субботника в следующем фрагменте из публикации за 1979 г.: «Для одних это будет день очередных экспериментов, запуска опытных установок, отладки новых приборов, день теоретических семинаров и диспутов, для других - день благоустройства, наведения чистоты, для третьих - день шефской помощи в совхозах и пригородных хозяйствах, на заводах и в производственных объединениях» [Там же. 1979. 12 апр.]. C 1980 г. намечается тенденция к снижению пропагандистских публикаций до субботника. Отчетный материал 1980 г. и вовсе был «изгнан» на шестую страницу соответствующего номера [Там же. 1980. 19 апр.]. Вероятнее всего, это было связано со 110-летием В.И. Ленина, и повторилась ситуация десятилетней давности, когда более значимый юбилей потеснил ритуал субботника. В 1981 г. выходят лишь одна заметка до субботника и отчет о нем. В 1982 и 1983 гг. идеологическая кампания подготовки к субботнику отражается на страницах «Науки в Сибири» чуть интенсивнее. Однако количество и сам размер материалов падают - это совсем небольшие заметки. В 1983 г. отчет о субботнике начинает стабильно занимать вторую страницу номера, продолжается практика репортажей из всех значимых центров Сибирского отделения. Субботники в пропагандистских материалах Хотя субботник и возродился в 1969 г., форма этого ритуала не требовала кардинального переизобрете-ния. Вероятно, именно с этим связан тот факт, что субботники не породили вокруг себя массы партийной литературы вроде рекомендаций по проведению или описанию правильных субботников. Все, что нам удалось выявить в национальных библиотеках, - это несколько брошюр общества «Знание» и региональных партийных организаций, выпущенных в Москве, Оренбурге и Ростове-на-Дону [12-15]. Интересно, что время их появления, вероятно, совпадает с периодом становления ритуала субботника, его рефлексивного восприятия, которое затем сменилось рутинным воспроизведением устоявшихся форм. Так, 3 из 4 брошюр вышли в одно время, в 1973 г. Этот год, видимо, был рубежным: формы ритуала сложились, но еще не успели стать повторяемыми от года к году. Если обратиться к содержанию вышеупомянутых произведений, то, вне зависимости от географии выпуска брошюр, они демонстрируют потрясающее едино- М.О. Пискунов, Т.Н. Раков 36 образие сюжетов. В каждой из них в начале воспроизводится предыстория современных субботников: инициатива рабочих депо Москва-Сортировочная в 1919 г., реакция В.И. Ленина на нее, добавляются сведения про 1920 г. Дальше история не продолжается, и весь период примерно с 1921 по 1969 г. по части субботников остается «пустым». Авторы брошюр не поясняют, что происходило с ритуалом в это время и в чем была необходимость его возрождения именно в 1969 г., ограничиваясь лишь воспроизведением общего сюжета о том, что оно было приурочено к 50-летию первого. Несмотря на относительное разнообразие мест издания брошюр, они отличаются довольно высоким «москвоцентризмом» - значительное число страниц в них отведено описаниям субботников в Москве и достижениям московских предприятий. Все перечисленные издания отличает продуктивистский дух. Что касается местных сюжетов, то авторы перечисляют проведение субботников на значимых заводах регионов (Ростсельмаш в Ростове или Гайский металлургический в Оренбурге), объемы полученных средств и напирают на то, что субботники проводятся на сэкономленном заранее сырье. Благоустройство, если и встречается, то лишь совсем мельком, буквально парой строчек. Такой продуктивистский фокус, помимо всего прочего, может объясняться тем, что, скорее всего, данные брошюры были предназначены прежде всего для партийных организаторов на фабриках и заводах, для тех, кто должен был разъяснять смысл мероприятия рабочим. Достижения субботника в данном разрезе выступали исключительно как дополнительно произведенные материалы, исчисляемые в рублях, сбереженные ресурсы, отремонтированные транспортные средства. Энтузиазм коммунистического труда оставался либо в истории, либо лишь компонентом идеологии, мало инкорпорированным в повседневную практику труда, которая основывалась на вполне конкретных механизмах экономии и поднятии производительности. Все брошюры несколько неожиданно завершаются темой социалистического соревнования, которое объявляется логическим и историческим продолжением первых субботников. С точки зрения авторов, коллективы советских рабочих должны не просто провести субботник в качестве дня сознательного труда, но и соревноваться друг с другом за то, чтобы провести этот день наиболее эффективным образом. Согласно О. Голечковой и О. Чагадаевой [16. P. 150], этот тезис в конечном счете восходит к работе 1959 г. московских историков Ю. Кукушкина и Д. Шелестова о субботниках периода Гражданской войны [17]. Кукушкин и Шелестов первыми создали каноничную формулу о том, что субботники - это наиболее ранняя форма социалистического соревнования, впоследствии сменившаяся стахановским и ударническим движениями. Субботники на производстве Разобрав идеологическую репрезентацию субботников в прессе и пропагандистских материалах, мы решили посмотреть, как субботники осуществлялись на реально функционирующем производстве. Если рассматривать субботники в одном ряду с ударничеством или стахановским движением, т.е. как кампанию по политическому управлению трудом, то сердцем такой кампании должен был быть завод или шахта. Отслеживать субботники на производстве мы решили через крупные, но периферийные региональные предприятия, т.е. такие, которые были бы важны для экономики, но не играли параллельно значимую символическую роль (такие как московский ЗиЛ, Кировский завод в Ленинграде или свердловский Уралмаш). Мы отобрали три завода в Тюмени: Судостроительный завод, Камвольно-суконный комбинат, Станкостроительный завод, - и проектную организацию «Главтюменьгеология». Все эти предприятия считались крупными, численность их работников превышала тысячу человек, а региональный аспект должен был делать их особенно восприимчивыми к кампаниям по идеологической мотивации к труду. 1960-1980-е годы в Тюменской области - это время открытия и освоения «большой нефти», стремительного роста и усложнения экономики обслуживающей данный процесс Тюмени [18]. Соответственно, происходили привлечение сотен тысяч новых рабочих, инженеров и ученых на новые рабочие места на Севере и их последующие миграции по региону. Поэтому тюменский труд не закреплен, предприятия оставались новыми, их трудовые коллективы окончательно не сложились как воспроизводящиеся институты (в том виде, в каком они существовали на отмеченных выше флагманах советской индустрии). А для руководителей таких предприятий, предположительно, было важно использовать любые политические средства для мотивации своих рабочих к труду. Мы обратились к документам первичных производственных организаций КПСС на указанных предприятиях в 1969-1971 гг. [19-22], надеясь отследить по ним имплементацию субботников в производство и те формы, которые приняла эта кампания. Авторы исходили из очевидного соображения, что в советский период партийные организации на предприятиях - это один из институтов управления производственным процессом и связывания его с общим политическим контекстом функционирования предприятий. Соответственно, проведение субботников как экономической практики, имеющей всесоюзное политическое значение, естественным образом оказывалось именно партийной вотчиной и должно было отражаться в партийных документах. Результат, однако, оказался половинчатым. Во-первых, сразу выяснилось, что в партийных документах Судостроительного завода и Главтюмень-геологии субботники за указанные три года вообще не упоминаются. Насчет последней этот факт можно объяснить ее зонтичным характером, так как Г лавтюмень-геология была организацией, ответственной за разведку нефти и газа на тюменском Севере и координировала работу десятков поисковых отрядов. Ее штаб находился в Тюмени, а многочисленная разъединенная по множеству малых групп рабочая сила была дисперсно разбросана по тундре, лесам и болотам Западной Сибири. Невозможность собрать «рядовых» этой армии нефтяников в каком-то одном ограниченном месте Позднесоветские субботники: от продуктивистской утопии к ритуалам политической лояльности 37 делала физически невозможной и централизованный субботник, а на «генералов» тюменского штаба, в основном статусных геологов, возможно, работал их статус. Кроме того, Главтюменьгеология в это время -сверхпроизводительная организация, которая ежегодно на порядок перевыполняла планы по разведке природных ресурсов, открывая новые и новые месторождения. Вероятно, это позволяло ей игнорировать часть идеологических кампаний. Титулованных геологов из этой организации часто привлекали к символическому присутствию в советских избирательных кампаниях разного уровня, а вот следов субботников в организации за три интересующих нас года мы так и не нашли. Отсутствие упоминаний о субботниках на Судостроительном заводе - загадка, ключ к которой у нас отсутствует. Зато о заводских субботниках свидетельствуют партийные документы Суконно-камвольного и Станкостроительного заводов Тюмени. На этих предприятиях субботники органично встраиваются в весеннюю идеологическую кампанию, начинающуюся с дня рождения Ленина (22 апреля) и заканчивающуюся днем Победы (9 мая). Субботники, проводящиеся в субботу, предшествующую 22 апреля, таким образом, становятся нижней границей этой кампании. И на Суконно-камвольном, и на Станкостроительном заводе для нее создаются общие планы мероприятий, начинающихся с субботника, продолжающихся днем рождения вождя, достигающих пика 1 мая и торжественно завершающихся 9 мая. Эти мероприятия курируются комиссиями во главе с руководителями заводов - директорами, секретарями партийных организаций, председателями профсоюзных комитетов, т.е. лидерами советского «треугольника» управления промышленностью на местах (о системе «треугольника» см.: [23]). Идеологическая значимость субботника несомненна. Более сложным вопросом является экономическое измерение субботников. И на Суконно-камвольном, и на Станкостроительном заводе Тюмени предшествующие 22 апреля субботы посвящены вспомогательной деятельности - очистке территории, уборке цехов, возможно озеленению примыкающих к заводам городских пространств. Нигде не идет речь о работе по профилю, производству продукции. Максимум, что нам удалось найти в контексте производительности труда, - это проведение на Суконно-камвольном комбинате ударной декады между 12 и 22 апреля, т.е. установки на повышенные трудовые обязательства в обычные рабочие дни, предшествующие дню рождения Ленина [21. Д. 5. Л. 34]. Исключительно вспомогательный труд во время субботника на рассмотренных промышленных предприятиях - это серьезная проблема для идеи подобного мероприятия. С одной стороны, субботники должны были репрезентировать будущий самоотверженный коммунистический труд, а с другой - они должны были давать стране блага, которые можно было бы пустить на общественно значимые нужды. Так, по итогам субботника 1969 г. все заработанные советскими рабочими в этот день средства были пущены на строительство научного городка Сибирского отделения ВАСХНИЛ и большого научно-исследовательского онкологического центра в Москве. По итогам субботника 1971 г. в столице был построен гигантский кардио
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 51
Ключевые слова
субботники, политический ритуал, коммунистический праздник, коммунистический труд, микрополитика, микроистория, Советский СоюзАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Пискунов Михаил Олегович | Тюменский государственный университет | кандидат исторических наук, доцент Школы исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) | m.o.piskunov@utmn.ru |
| Раков Тимофей Николаевич | Тюменский государственный университет | кандидат исторических наук, старший преподаватель Школы исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) | timofey.rakov@gmail.com |
Ссылки
Геннеп А. Обряды перехода: система изучения обрядов. М. : Вост. лит., 1999. 198 с.
Siegelbaum L. Stakhanovism and the Politics of Productivity in the USSR, 1935-1941. Cambridge ; New York : Cambridge University Press, 1988. 526 p.
Cucu A.S. Planning labour: Time and the foundations of industrial socialism in Romania. New York ; Oxford : Berghahn Books, 2019. 266 p.
Lukes S. Political Ritual and Social Integration // Sociology. 1975. Vol. 9, № 3. Р. 289-308.
Geertz C. Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. London : Fontana, 1993. 244 p.
Мусихин Г.И. Блеск и нищета политических ритуалов // Полития. 2015. № 2. C. 98-109.
Ленин В.И. Великий почин // Полное собрание сочинение. 5-е изд. М. : Политиздат, 1970. Т. 39. С. 1-22.
Filtzer D. Soviet Workers and Stalinist Industrialisation: the formation of modern Soviet production relations, 1928-1941. London : Pluto Press, 1987. 338 p.
Газета «Правда» : полный электронный архив (1912-2014) // ИВИС : информационные услуги. URL: http://www.ivis.ru/products/retrospective.htm (дата обращения: 20.07.2021).
Вечерний Новосибирск : ежедневная общественно-политическая газета. Новосибирск.
За науку в Сибири : орган Президиума Сибирского отделения АН СССР и его профсоюзной организации.
Бедненко В.М. Субботники - зримые ростки коммунистического труда. Ростов н/Д, 1972. 27 с.
Петровская В.Л. Коммунистические субботники - фактическое начало коммунизма. Оренбург, 1973. 28 с.
Сидоров Б.Ф., Хрусталев В.А. Красная суббота: ленинские традиции великого почина в действии. М. : Моск. рабочий, 1973. 32 с.
Субботник - праздник коммунистического труда : (методические материалы в помощь докладчикам, лекторам). Оренбург, 1976. 21 с.
Golechkova O., Chagadaeva O. Subbotniks: from the great to the meaningless (the evolution of the soviet labor phenomenon) // Labor history. 2021. Vol. 62, is. 2. Р. 148-165.
Кукушкин Ю.С., Шелестов Д.К. Первые коммунистические субботники. М. : Моск. рабочий, 1959. 72 с.
Гаврилова Н.Ю., Карпов В.П. Социальное освоение нефтегазодобывающих районов Западной Сибири (1960-80е годы) // Отечественная история. 2003. № 2. С. 111-118.
Государственный архив социально-политической истории Тюменской области. Ф. П296 (ППО Судостроительного завода). Оп. 1. Д. 8-13.
Государственный архив социально-политической истории Тюменской области. Ф. П260 (ППО Станкостроительного завода). Оп. 1. Д. 8, 10, 12.
Государственный архив социально-политической истории Тюменской области. Ф. 173 (ППО Камвольно-суконного комбината). Оп. 1. Д. 4-10.
Государственный архив социально-политической истории Тюменской области. Ф. 1724 (ППО Главтюменьгеология). Оп. 1. Д. 20-23.
Ульянова С.Б. Формирование «Треугольника» на советских предприятиях в первой половине 1920-х гг. // Новейшая история России. 2013. № 2. С. 169-184
Поповский М.А. Дневник. 1972. 5 апр. URL: http://edvig-arhiv.narod.ru/photoalbum3.html (дата обращения: 15.08. 2021).
Щагин А.С. Дела и Судьбы : (дневник народного судьи) : запись от 20 апреля 1974 г. URL: https://prozhito.org/note/674477 (дата обращения: 15.08. 2021).
Юрчак А. Это было навсегда, пока не кончилось. Последнее советское поколение. М. : Новое литературное обозрение, 2014. 661 с.
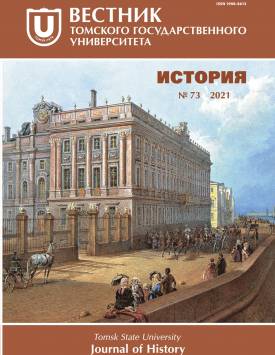
Позднесоветские субботники: от продуктивистской утопии к ритуалам политической лояльности | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 73. DOI: 10.17323/19988613/73/5
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 326

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью