Критика «приспособленческой» деятельности церкви советской пропагандой 1960-1970-х гг.
На основе опубликованных и не включенных ранее в научный оборот архивных документов анализируются основные направления критики религии и церкви, осуществлявшейся советской пропагандой в 1960-1970-е гг., выясняются цели и аргументы этой критики, показаны ее содержание, приемы и формы. Раскрывается, что понималось под «приспособленческой» деятельностью церкви. Показано, какой критике подвергались изменения в некоторых православных обрядах, проповеднической деятельности, подходах церкви к вопросам ее взаимоотношений с наукой, позиция по вопросам борьбы за мир, воспитания человека, участия верующих в общественной жизни.
Criticism of conformist church activities by soviet propaganda in 1960s-1970s.pdf Целью представленной статьи является детальный анализ основных направлений критики религии и церкви в СССР, которую активно осуществляли все институты идеологического воспитания и антирелигиозной пропаганды в 1960-1970-е гг., выяснение целей и аргументов этой критики, ее содержания, приемов и форм. В основу публикации легли архивные неопубликованные документы, главным из которых стала многостраничная справка «О приспособленческих тенденциях в религиозной идеологии современной Русской православной церкви», составленная для отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС в Совете по делам РПЦ при Совете Министров СССР в ноябре 1962 г. В арсенале борьбы советского государства и коммунистической (большевистской) партии против религии и религиозных организаций агитация и пропаганда всегда занимали ключевые места. А поскольку они велись еще с дореволюционных времен, партия накопила богатый опыт оппонирования религиозной идеологии, ее институтам и носителям. С первых лет советской власти возможности для этого стали обширными. Религиозный агитпроп стал разнообразным по средствам и формам, многочисленным по исполнителям. Религия, церкви и духовенство всех конфессий критиковались и разоблачались в печатной и устной пропаганде, с помощью газет и других печатных средств, радио, кино, наглядной агитации. Содержательно критика тоже была разнообразной, ибо ни одно положение религиозных учений не оставалось без опровержения. История религиозных организаций также была питательной почвой для постоянных нападок и разоблачений. Уже в 1920-1930-е гг. выработался устойчивый антирелигиозный дискурс. Что касается содержания самой пропаганды, то целый ряд ее основных положений оставался неизменным (это касалось прежде всего критики религиозных учений), некоторые трансформировались или становились реже употребляемыми (оценка исторической роли церкви). Так, если в первые десятилетия советской власти пропаганда постоянно напоминала, что церковь была верной помощницей самодержавия и эксплуататорских классов, к которым ее тоже относили, вела активную борьбу с советской властью, мечтала о реставрации старых порядков, была союзником белогвардейцев, кулаков и прочих врагов советского строя, то во второй половине советского периода этот мотив стал не столь актуален, хотя и не исчез совсем. В условиях продвижения в деле строительства коммунизма партии требовалось найти новые разоблачительные аргументы. Подчеркивая, что создание нового строя лишает религию и религиозные организации социальных корней, что научно-технический прогресс наносит сокрушительный удар по религиозной идеологии, советская пропаганда признавала, что церковь все еще остается сильной организацией, тем более что религиозные деятели «активно ищут новые формы привлечения людей на богослужения, применяют изощренные методы обработки верующих, особенно женщин, молодежи и детей, меняют содержание церковной проповеди, приспосабливают религиозную идеологию к современности» [1. Л. 229]. Попытки церкви найди новые способы удержания и привлечения паствы пропаганда частично объясняла неизбежным и растущим процессом секуляризации, который имел место не только в советском, но и в других обществах. В печати любили приводить цитаты из зарубежных изданий, высказывания их политиков и религиозных деятелей о кризисе веры в различных сегментах западного общества, особенно среди молодежи, о росте равнодушия к религиозным вопросам, об утверждении материализма [Там же. Л. 230]. Еще более впечатляюще выглядели результаты секуляризации в советском обществе, что с особым удовлетворением отмечалось в антирелигиозной пропаганде. В газетных публикациях, в лекциях охотно приводились примеры того, как расстраивались и били тревогу по этому поводу религиозные деятели в СССР. Снабжали пропагандистов такими фактами соответствующие партийные структуры, отвечавшие за идеологическую работу. Они, в свою очередь, черпали материалы от советов по делам религии и их уполномоченных, чьим достоянием становилась практически Л.И. Сосковец 42 вся внутрицерковная документация, включая переписку церковнослужителей со своим руководством и друг с другом. Например, в одной из справок отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС приводились следующие примеры сетования на упадок веры. Один епархиальный деятель отмечал, что «устойчивость церковного организма ослабела, и теперь духовная смертность членов церкви ежегодно возрастает» [1. Л. 230]. В другом документе клирик жаловался: «Тлетворное и душегубное атеистическое учение берет в полон верующих православных христиан и отрезает их пути к спасению» [Там же]. Религиозные авторы и спикеры довольно объективно оценивали ситуацию с общим кризисом веры в стране, отдавали отчет, что для большинства даже оставшихся в лоне церкви все церковные «благословения превращаются только в привычный обряд без смысла и содержания» [2. С. 8]. Понятно, что реалии, в которых оказались религия, церкви и верующие в советском государстве, требовали от религиозных организаций поиска того, как существовать и поддерживать веру в новых социальноэкономических, политических и культурных условиях. Отсюда неизбежны были элементы модернизации, новаций, чтобы адаптироваться к окружающей среде [3]. Вот эти-то поиски и вызывали особое неприятие государственного атеизма и его распространителей, становились со второй половины ХХ в. едва ли не главным поводом и объектом антирелигиозной критики, преимущественно в форме насмешек и ерничества. Самым простым и очевидным проявлением такого осмеяния было то, что любые попытки религиозных организаций несколько осовременить способы поддержания религии и веры в советской пропаганде обозначались исключительно термином «приспособление» в самой уничижительной коннотации этого слова. На разоблачение такого приспособления отводился в указанное время большой объем устной и письменной пропаганды. В партийно-пропагандистских материалах подчеркивалось, что приспособленчество - характерная черта религиозной идеологии, которая была ей присуща всегда, что она уходит своими корнями вглубь веков. «Так и в наши дни, хотя религия и осталась по-прежнему реакционной, проповедующей иррационализм и мистику, но она довольно тонко и изощренно пытается приспособить к духу времени свои политические и философские оценки, пытается подладиться к настроениям масс верующих» [1. Л. 231], -утверждалось в партийном документе. Более того, как в нем подчеркивалось, приспособленчество церкви вошло во все поры ее жизни, о необходимости приспосабливаться пишут наиболее видные богословы, а служители культа всюду ищут новые пути приспособиться к современности, чтобы укрепить свое влияние среди известной части населения [Там же]. В каких проявлениях деятельности церквей во второй половине ХХ в. видели советские атеисты приспособленческую тактику? Прежде всего под огонь их критики попадала обрядовая сторона. Именно здесь, как считалось, очевидно проявлялась попытка идти навстречу современным верующим. В качества примера приводились изменения в обрядах крещения, отпевания и исповеди. В первом случае традиционное и многовековое погружение новорожденного в купель заменилось простым окроплением ребенка «святой водой», а то и просто было достаточно помочить ему лобик. Пропагандисты ерничали, мол, гигиенично и родители довольны, да и повода не дают для претензий по антисанитарии в купелях. И действительно, еще в 1940-1950-е гг. нередки были случаи, когда церкви и священнослужители обвинялись в том, что церковные купели - это рассадники антисанитарии и очаги распространения всякой заразы. Так, в одном из выступлений лектор Тюменского областного отделения общества по распространению знаний И.Д. рассказал слушателям нелепую новость, что, дескать, в купели Тюменской церкви врачи обнаружили миллионы микробов туберкулеза, сифилиса, тифа и других болезней, что даже кролик, которого искупали в ней, погиб [4. С. 190]. Подвергалось критике и упрощение церковью процедуры отпевания умершего. Если раньше отпевать можно было только над гробом умершего, то теперь в практику повсеместно вошло так называемое заочное отпевание, для которого было достаточно устной или письменной просьбы родственников погребаемого и, как едко добавляли критики церкви, «телеграммы с денежным переводом» [1. Л. 232]. Столь же просто стало выглядеть таинство исповеди, которая из индивидуальной трансформировалась в коллективную. Это делалось якобы для того, чтобы верующие не тратили много времени на ее исполнение. Представляется, что новый вариант процедуры исповеди был вынужденной мерой (как и другие изменения в обрядах). Церкви действительно шли навстречу верующим, но не для того, чтобы просто сберечь их время, а чтобы сберечь их от преследования по месту работы, ибо имена исповедовавшихся (да и участников других обрядов) попадали по разным каналам в идеологические и правоохранительные органы, в трудовые коллективы, где с ними начинали проводить агрессивную воспитательную работу. Советская пропаганда не ограничивалась критикой приспособления церкви только за изменение обрядов. Наибольшее ее неприятие вызывало то, что главной тенденцией деятельности церкви стала попытка осовременить понимание отдельных положений религиозной идеологии. Считалось, что идеологическое приспособленчество (самое коварное из всех) шло по многим направлениям и становилось все более изощренным. Как отмечалось в антирелигиозных материалах, современные богословы усиленно работали над доказательством того, почему церковь должна отдавать дань духу времени, заверяли общество, что религия и церковь не мешают строительству социализма / коммунизма, что религиозная идеология и мораль не противоречат коммунистической морали, что церковь, по сути, является помощником государства в деле воспитания людей. Партийные органы полагали, что остро необходимо заниматься критикой религиозной (особенно православной) идеологии с позиции материалистической науки. Признавалось, что на этом направле- Критика «приспособленческой» деятельности церкви советской пропагандой 43 нии антирелигиозной пропаганды и воспитания есть определенные проблемы. В партийных документах с сожалением отмечалось, что «научная мысль пока еще не берет в качестве объекта своего исследования идеологию православной церкви, что в стране нет ни одного научного труда, в котором бы критиковалась приспособленческая тенденция современной церкви, а в выпускаемой литературе “церковь берется такой, какой она была в прошлом веке”» [1. Л. 233]. Подчеркивалось, что такая критика уже не актуальна и позволяет церкви утверждать, что она давно изменилась. Критику идеологии церкви следовало вести более аргументировано и наступательно, а для этого усилий одних пропагандистов было недостаточно. Для того чтобы исправить ситуацию с недостатком квалифицированных кадров профессиональных антирелигиозников, в 1960-е гг. были предприняты определенные меры. Был создан специализированный Институт научного атеизма при Академии общественных наук как базовый центр подготовки кадров высшей квалификации в области научной критики религии и церкви. Стали создаваться кафедры научного атеизма в университетах страны, в программу обучения в вузах вводился курс «Основы научного атеизма». Его читали и в вечерних университетах марксизма-ленинизма. Но по-прежнему основную силу критиков религии составляли пропагандистские кадры: учителя, преподаватели, журналисты, партийные и советские работники, другие активисты борьбы за дело атеистического воспитания. Именно для этого состава антирелигиозников в идеологических отделах партийных органов, включая ЦК КПСС, составлялись методические пособия, рекомендации, разного рода справки и брошюры, призванные помочь активистам решительнее вести разоблачение религии и церкви. Для более убедительного опровержения религии в Институте научного атеизма были созданы отдельные проблемные группы по критике современной религиозной идеологии, группа, специализировавшаяся на изучении особенностей борьбы науки и религии в современных условиях, группа, которая была призвана «разоблачать утверждение, что нравственность и прогресс общества обеспечиваются благодаря религии, а падение нравов связано с распространением атеизма [5. Л. 2-3]. Партийные идеологические органы предлагали список вопросов, по которым следовало вести научную критику современной на тот момент религиозной идеологии. В первую очередь необходимо было разбивать утверждения служителей культа о тождестве идей коммунизма и религии. В партийных документах подчеркивалось, что такое сходство пытаются найти и обосновать как зарубежные богословы, так и религиозные деятели разных конфессий в СССР, в том числе и православные. Широко распространялись ими утверждения о том, что идеи Маркса и Христа тождественны, что те и другие имеют одну конечную цель -обеспечить мир и всеобщее благо. Разными являлись лишь пути подхода к достижению целей построения общества, основанного на принципах коллективизма. Понятно, что все это оценивалось как самое неприкрытое приспособленчество, которое нужно разоблачить. Оно (приспособленчество такого рода) особенно активизировалось после принятия Программы КПСС 1961 г., когда служители культа «всячески, где это возможно» стремились показать, что программа отвечает идеям Христа. Эту мысль представители церкви подчеркивали везде и повсюду: в проповедях, беседах, даже в отчетах епархиальным управлениям. Такие идеи были особенно недопустимы с точки зрения профессиональных борцов с религией. Они видели в этом спекулирование служителями культа на самых высоких чувствах советских людей, стремление использовать «в своих целях любовь советских людей к своей родине, любовь к труду, желания мира» [1. Л. 235]. Как заявлял П.К. Курочкин, заместитель директора Института научного атеизма, «если политическая лояльность духовенства является разумной ее позицией, то попытки осенить коммунизм крестным знаменем должны быть решительно разоблачены» [6. Л. 6]. Вторым объектом для критики и разоблачения религиозного идеологического приспособленчества была «богословская экскурсия в историю и попытка теоретически обосновать, что церковь не мешала строить социализм вчера, не помешает строить коммунизм и завтра», и доказать, что «строителями социализма и коммунизма являются не только неверующие члены общества, но и верующие» [1. Л. 236]. Как отмечалось в одном из многочисленных партийных документов, «рассуждения о том, будто религия может принести пользу коммунистическому строительству, совершенно несостоятельны. На самом деле религиозная идеология является антинаучной, реакционной идеологией и служит помехой коммунистическому строительству» [7. Л. 45]. Властей раздражала практика православной церкви и некоторых других религиозных объединений отмечать «содержательным словом» праздники советского народа, юбилеи советских вождей, вспоминать в проповедях советских героев и др. Особое же негодование у атеистических пропагандистов вызывали любые попытки показать, что современная церковь отнюдь не является врагом науки. Дело в том, что именно наука, ее достижения всегда были основным базисом для доказательства атеистами несостоятельности религиозного вероучения и мировоззрения. Антитеза «религия-наука» была доминантной в критике религии во все времена. В советской пропаганде считались кощунственными все попытки как-то оправдать сложную историю отношения церкви к науке и тем более доказать, что религия никак не воспрепятствует научным открытиям [8. С. 4]. В партийных документах постоянно подчеркивалось, что «в современных условиях борьба с религией должна рассматриваться как идеологическая борьба научного, материалистического мировоззрения против антинаучного религиозного мировоззрения» [9]. Пропагандистам предлагалось разоблачать религиозный (стало быть, антинаучный) взгляд на мир через популярные разъяснения наиболее важных проблем и явлений в жизни природы и общества, таких как строение Вселенной, происхождение жизни и человека, достижений в области астрономии, биологии, физики, под- Л.И. Сосковец 44 тверждавших правильность материалистических взглядов на развитие природы и общества. «Наука, ее достижения, полеты в космос нанесли за последние годы сокрушительные удары по религии, ее догмам. Церковь, ее руководители видят, что каждое открытие науки просвещает даже самых темных и отсталых людей. Наука подрывает у людей веру в бога. Все это церковь учитывает, спешно перестраивает свою тактику, меняет свои оценки достижений науки» [1. Л. 238]. Совет по делам РПЦ приводил на этот счет слова Патриарха Алексия из Рождественского послания пастве за 1961 г.: «Все земные блага, открытия и достижения, которыми так богат мир земной, - ведь все это, независимо от того, признаем мы или не хотим признать, действие этой Божественной силы и любви к людям» [Там же]. Чтобы не допустить распространения таких идей, Совет «рекомендовал» патриархии изменить данный текст. Также по настоянию Совета не увидела свет и статья известного православного богослова, преподавателя Ленинградской духовной академии А. Шишкина «Причины современного неверия», подготовленная им для Журнала Московской патриархии. Тем не менее, с огорчением констатировали в Совете, само духовенство на местах «довольно быстро сообразило, что с наукой спорить трудно, и ее как можно быстрее надо брать на свое вооружение». Религиозные служители в своих проповедях разъясняли верующим, что завоевание космоса - это от Бога, другие научные достижения - промысел Божий. Именно Бог дает человеку разум, с помощью которого человек делает открытия и другие свершения. Конечно, советские пропагандисты не могли смириться с такими подходами. В 1960-е гг. уполномоченные Совета внимательно следили за тем, чтобы священники не вмешивались в общественную и культурную жизнь общества и не брались за интерпретацию открытий науки, а занимались исключительно «своим» делом - молитвами, служениями. Для того чтобы пресечь «вольные упражнения духовенства с наукой», партийные органы требовали устанавливать более строгий контроль за содержанием проповедей со стороны партийно-советских активистов, а деятелей науки призывали активнее выступать со статьями, книгами, лекциями, в которых разоблачение религиозных взглядов и приспособленчества церкви осуществлялось бы «квалифицированно, без шума, но доказательно» [Там же. Л. 242]. В это время публикации газет на подобные темы имели, как правило, броские названия, что не могло не привлекать внимание читателей. Основными их темами были: «Наука и религия о жизни и смерти»; «Наука и религия о развитии общества»; «Религиозные пророчества и научные предвидения»; «Наука и религия о происхождении жизни на Земле» и др. В материалах авторов, писавших на эти темы, подчеркивалась коренная противоположность в подходах к объяснению наиболее важных вопросов мироздания со стороны науки и религии: научные знания опирались на факты, на научный эксперимент, в то время как религия - только на веру в библейские и другие предания. Еще одной темой, которая раздражала советскую атеистическую пропаганду и рассматривалась ею как приспособленчество церкви к современности, были вопросы морали, нравственности, отношения к труду. Казалось бы, эти темы всегда были «епархией» церкви, но ив этом случае в атеистической литературе настаивали, что церковь просто спекулирует на данных сюжетах. Призывы церковников к верующим хорошо трудиться, избавляться от пороков, быть миролюбивым рассматривались как «неудачные попытки» вписаться в общую программу воспитания советских людей, причем, как считалось, «идеологическая диверсия церковников по вопросам морали, отношения к труду обычно проводится довольно тонко, убеждая верующих и неверующих укрепиться в мысли, что в этом-то вопросе современная церковь уж точно содействует строительству социализма / коммунизма» [Там же. Л. 243]. В пропагандистских высказываниях звучала озабоченность, что на такую уловку нередко попадаются даже советские и хозяйственные работники, критиковались случаи (кои, действительно, были нередки), когда хозяйственные руководители даже специально обращались к священникам, чтобы те призвали прихожан активнее поучаствовать в той или иной хозяйственной кампании [10. Л. 20]. Еще одним моментом в деятельности РПЦ и других религиозных объединений в СССР, который рассматривался пропагандистской системой исключительно как проявление приспособленчества, была их позиция по вопросам борьбы за мир [11]. Она тоже оценивалась как лицемерная и совершенно неискренняя. И совсем неприемлем был тезис церкви: «Мир -последование Христу». Однако в критической позиции советской пропаганды по данному вопросу были внутренние противоречия. С одной стороны, активная миротворческая деятельность религиозных организаций СССР, их сотрудничество в этом вопросе с аналогичными зарубежными конфессиями были «полезны для нас» [1. Л. 241], поскольку позволяли разоблачать агрессора, сплачивать прогрессивных религиозных деятелей вокруг идей мира. В этом направлении государство даже поощряло деятельность церквей из СССР. Но, с другой стороны, ему не хотелось, чтобы они имели позитивный имидж, поэтому оно призывало разоблачать попытки церкви использовать миролюбивую пропаганду в своих «корыстных» интересах, подчеркивало, что ее приспособленчество по вопросам войны и мира не менее зловредно и опасно, чем приспособленчество по другим вопросам. Спекуляции по вопросам борьбы за мир следует всемерно разоблачать, пояснять, что борьба советского народа за мир не имеет ничего общего с призывами мира, с которыми выступает «наше духовенство» [Там же. Л. 245]. Атеистические деятели подчеркивали, что идеологическое приспособленчество религии, утонченная проповедь ее догм, прикрытых духом современности, пронизывает теперь всю жизнь церквей не только в СССР, но и за рубежом, что церковь использует в своих целях и интересах любое значимое событие в жизни страны, будь то празднование 8 марта, полет в космос и др. Критика «приспособленческой» деятельности церкви советской пропагандой 45 Власть с неприязнью отмечала, что богословы русской церкви тщательно и детально разрабатывают теорию и практику церковно-православного проповедничества. Над этим работали лучшие умы церкви и ее руководители разных рангов. Из Патриархии и епархий на места регулярно высылалась соответствующая методическая литература по проведению, тематике и содержанию проповедей. В ней особое внимание обращалось на эмоциональность, доходчивость проповедей. Руководство церкви добивалось, чтобы все священники, особенно настоятели церквей, регулярно выступали с проповедью. А высшие иерархи сами должны были подавать пример проповеднической деятельности. Так, крупнейший деятель Русской православной церкви этого периода митрополит Никодим (Ротов) только за два года (1964-1965) совершил 205 служб, а в Журнале Московской Патриархии были опубликованы 22 его проповеди, которые брались священниками на местах в качестве основы своих выступлений перед верующими [12. С. 47]. Ответственные за антирелигиозную работу в стране отмечали, что приспособленчество церкви к общественным реалиям проявлялось не только в модернизации содержания проповедей, религиозной литературы, но и в изменении форм и методов ведения религиозной пропаганды, осовременивании ее направленности, стиля, языка. Религиозные проповедники стали учитывать состав, уровень образованности аудитории, с которой им приходилось работать. В антирелигиозных методичках приводился пример классификации верующих по ряду существенных черт, которые проповедник должен был учитывать в своей работе. Условно выделялось шесть групп верующих: 1) рационалисты-созерцатели (размышляют о Боге, о смысле бытия); 2) подвижники - люди, которые активно борются со своей греховной природой; 3) добротворите-ли - люди добра, милосердия, благотворительности; 4) обрядоверы и изуверы - люди невысокого духовного развития, упрямого ума и фанатичного сердца; 5) мистики; 6) разного рода юродствующие и фарисействующие [1. Л. 249]. Эго была традиционная для церкви классификация проповедной аудитории. Ее использовали и в рассматриваемое время, но священнослужителям настоятельно рекомендовалось при анализе аудитории слушателей и читателей религиозного слова учитывать и изменения в составе верующих в условиях общего понижения веры в Бога. По психологии и «уровню молитвенного сближения с Богом» современная церковь делила людей на четыре группы, или четыре психологических типа. К первому типу относили тех людей, для которых Бог из сферы чувств переместился в сферу общих представлений. Они не столько живут Богом, сколько размышляют о нем. Они не видят особой необходимости быть членами церкви. Они чужды идей как греховности, так и спасения, они практически порвали с церковью. С такими людьми пастыри чаще всего сталкивались при крещении, отпевании умерших, при этом они лишь отдавали некую дань религиозной традиции. Второй тип людей сохранил еще некоторый навык молитвенности и религиозности, но не дома и в повседневной жизни, а в храме при богослужении, церковном пении и проповеди. Эта группа количественно несущественная по сравнению с первой. В третью группу (третий тип) церковь включала пожилых женщин, которые в своих семьях почти утратили былое влияние на религиозное воспитание, поэтому дома они религиозно малоактивны. В храме же они оживляются, находят отклики на молитвенные призывы, уходят из него умиротворенными и обнов-ленныи. Наконец, еще одна группа - это молодежь. Ее в храмах очень мало, а если и приходят молодые, то не переживают здесь особых эмоций, не чувствуют святости места и действия. Богослужений они не понимают, а все происходящее в церкви воспринимают как очередное зрелище. Но для некоторых неоднократное присутствие на нем может выливаться в более серьезный интерес к церкви и Богу [Там же. Л. 251]. Все эти нюансы богословы советовали учитывать в проповеднической и иной деятельности, а также давали более детальные рекомендации, как использовать знание психологических особенностей членов аудитории для эффектизации проповеднической деятельности. Вот именно такая методическая работа церкви вызывала недовольство атеистической власти, а ее естественное стремление хорошо выполнять свою работу, сделать проповеди современными подвергалось критике, осмеянию и считалось ничем иным, как приспособленчеством. Современность проповеди в понимании теоретиков и практиков церкви означала отражение в ней морально-нравственных недугов современного общества и предложение верующим бороться с ними. Правящая партия не нуждалась ни в каких «соработниках» в деле перевоспитания людей, считая это своей монополией. Отсюда понятны пропагандистские нападки на церковь, помимо имманентного неприятия коммунистическими идеологами всего церковного и религиозного. Как писалось в одном документе, «приспособленчество религиозной идеологии, утонченная проповедь православия, попытка церковников отождествлять коммунизм и христианство является одной из частей вредоносной деятельности церкви» [Там же. Л. 254]. Вместе с тем в 1960-1970-е гг. церкви продолжали предъявлять и более серьезные претензии, нежели просто за ее стремление приспособиться. «В то же время нельзя забывать, что некоторая часть духовенства кое-где пытается делать злобные клеветнические выпады против коммунистического воспитания, наступательного характера научно-атеистической пропаганды» [Там же]. Такого рода случаи предлагалось решительно пресекать, а способы, формы и методы приспособленчества изучать и разоблачать. Эти проблемы обсуждались и в научном сообществе советских философов, социологов и представителей научного атеизма. Например, на расширенном заседании Ученого совета Института научного атеизма в 1966 г. было отмечено, что «в целом научноисследовательская деятельность по разработке проблем атеизма и практики атеистического воспитания... еще отстает от современных задач борьбы с религиоз- Л.И. Сосковец 46 ной идеологией и формированием научного мировоззрения у всех членов советского общества» [13. Л. 2728]. К числу недостатков в этой работе были отнесены: общий, неконкретный характер исследований; дубляж тем; повернутость тематики исследований в прошлое при недостатке внимания к современной ситуации; недостаток разработок форм и методов борьбы с влиянием религиозной идеологии на сознание советского человека и др. [Там же]. Тем не менее следует отметить, что в рассматриваемые годы в ученом сообществе, работавшем в рамках научного атеизма, тема новаций церкви в обрядовой и теоретической сферах жизнедеятельности довольно активно развивалась. При этом советские философы, в отличие от партийно-пропагандистских кадров, использовали для обозначения новаторских идей и действий церкви термин «модернизация», что более соответствовало намерениям богословов и религиозных проповедников [14-16]. Специалисты изучали различные аспекты модернизации современного русского православия, включая политическую переориентацию церкви, изменения социально-нравственных основ православия, новации в богослужебной практике. Но и в научных трудах звучал основной посыл тогдашней антирелигиозной пропаганды: модернизация некоторых аспектов жизнедеятельности церкви - это не естественный процесс, а вынужденная мера, вызванная исключительно желанием церкви приспособиться. Понятно, что такого рода научные труды содержали исключительно критический анализ модернизированной идеологии и деятельности церковно-богословских кругов. Конечно, не в столь развязной манере, как в пропагандистских брошюрах и иных материалах, но и в трудах, относившихся по советскому научному рубрикатору к научно-атеистическим, церковь обвинялась в бесплодных для нее попытках приспособить дух, букву и дело православия к современным условиям советского общества, подчеркивалась обреченность стремлений разработать концепцию «гуманизированной» религии, способную органически «вписаться» в мировоззрение советского человека [17]. Таким образом, ведущей тенденцией в антирелигиозной пропаганде в СССР в 1960-1970-е гг. стало стремление ее организаторов и исполнителей разоблачать любые начинания религиозных организаций по модернизации обрядовой, проповеднической, богослужебной сторон своей жизнедеятельности как хитроумный, но исторически неперспективный способ продлить существование религии и церкви в социалистическом обществе.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 53
Ключевые слова
религия, церковь, пропаганда, приспособленчество, верующиеАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Сосковец Любовь Ивановна | Томский политехнический университет | доктор исторических наук, профессор отделения социально-гуманитарных наук наук | ivitca56@mail.ru |
Ссылки
О приспособленческих тенденциях в религиозной идеологии современной русской православной церкви : справка отдела пропаганды и агитации ЦК КПСС от 20.11.1962 // Государственный архив РФ (ГаРФ). Ф. 6991. Оп. 1. Д. 1942.
Журнал Московской Патриархии (ЖМП). 1962. № 5. С. 8.
Никодим (Ротов), митрополит. О задачах современного богословия // ЖМП. 1968. № 12. С. 63-69.
Сосковец Л.И. Феномен советского антирелигиозного агитпропа // Вестник Томского государственного университета. 2005. № 288. С. 189-199.
Российский государственный архив социально-политической истории (РГАСПИ). Ф. 606. Оп. 4. Д. 1.
Стенограмма заседания научно-атеистической конференции Института научного атеизма «Критика идеологии современного православия», ноябрь 1964 г. // РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 15.
Материалы к лекции на семинарах секретарей райкомов партии // РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 10.
Суворов Л. Наука и религия несовместимы // Правда. 1960. № 48.
О крупных недостатках в научно-атеистической пропаганде и мерах ее улучшения : постановление ЦК КПСС от 07.07.1954 // О религии и церкви : сб. высказываний классиков марксизма-ленинизма, документов КПСС и советского государства. М. : Политиздат, 1981. С. 78.
РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 132. Д. 10.
Никодим (Ротов), митрополит. Сотрудничество крещенных и нехристиан в совместном служении благу человечества // Богословские труды. М. : Изд. Моск. патриархии, 1973. Сб. 10. С. 56-59.
ЖМП. 1979. № 4. С. 36-48.
РГАСПИ. Ф. 606. Оп. 4. Д. 1.
Гордиенко Н.С. Элементы модернизма в православном вероучении // Вопросы научного атеизма. М. : Мысль, 1966. Вып. 2. С. 166-197.
Краснопольская Л.Н. Критика попыток модернизации православного учения о человеке : автореф. дис.. канд. филос. наук. М., 1971. 21 с.
Гордиенко Н.С., Курочкин П.К. Особенности модернизации современного русского православия. М. : Знание,1978. 64 с.
Курочкина П.К. Эволюция современного русского православия. М. : Мысль, 1971. 273 с.
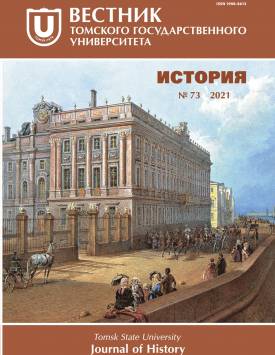
Критика «приспособленческой» деятельности церкви советской пропагандой 1960-1970-х гг. | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 73. DOI: 10.17323/19988613/73/6
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 326

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью