Вертячийская операция Красной Армии в отечественной мемуарной литературе и архивных документах
Исследование посвящено источниковедческому анализу материалов о Вертячийской операции, проводившейся с 22 по 30 ноября 1942 г. силами 24-й армии Донского фронта в рамках более масштабной операции «Уран» -контрнаступления войск Красной Армии и окружения группировки немецко-фашистских войск под Сталинградом. Источниковедческий анализ материалов о данной операции позволил выявить проблемные аспекты в документальной основе исторического описания событий данной операции и перспективные направления ее изучения для устранения «белых пятен» в объективной картине событий заключительного этапа Сталинградской битвы.
Operation Vertyachiy of the Red Army in the national memorial literature and archival documents.pdf Минуло уже более 70 лет со времени окончания Великой Отечественной войны, однако можно достаточно смело утверждать, что далеко не все события тех далеких дней получили должное освещение в отечественной и зарубежной исторической литературе. Казалось бы, Сталинградская битва - одно из тех событий в истории Второй мировой войны, которое получило исчерпывающее освещение не только в многочисленной отечественной и зарубежной исторической литературе, но и в мемуарах участников событий. Однако и здесь мы можем встретить отдельные эпизоды, описание которых носит противоречивый, проблемный характер. Во многом это вызвано тем, что далеко не все события Сталинградского сражения, даже на его заключительном этапе - в период проведения контрнаступления советских войск, окружения и ликвидации окруженной группировки войск 6-й и 4-й танковой армий вермахта, имели для Красной Армии позитивный характер. Одним из таких важных событий было проведение силами 24-й армии Донского фронта Вертячийской операции с 22 по 30 ноября 1942 г. (данное название было использовано для описания наступления войск 24-й Армии Донского фронта на хутор Вертячий в Журнале боевых действий 24-й армии [1]). Данная операция была составной частью операции «Уран» по окружению и ликвидации немецких войск под Сталинградом. Целью ее осуществления было ударом войск 24-й армии в направлении хутора Вертячий прорвать оборону противника, захватить переправы через р. Дон в данном районе и расчленить Сталинградскую группировку войск вермахта от Задонской группировки войск. Достижение поставленной цели должно было способствовать успешной реализации всей операции «Уран» по разгрому немецких войск под Сталинградом. Операция хоть и была завершена со взятием хутора Вертячий, однако не была достигнута одна важная ее составляющая - немецкие войска не были расчленены. Войска вермахта, оборонявшиеся на этом участке фронта, сумели не только нанести крупные потери наступавшим частям 24-й армии, но и осуществить планомерный отвод всей Задонской группировки в районы западнее Сталинграда, тем самым предопределив весь последующий ход событий Сталинградской битвы. Можно полагать, что недостаточно удачные действия войск 24-й армии Донского фронта и, как следствие, весьма трагический характер развития событий, сопровождавших проведение данной операции, сыграли свою роль в том, что подробности Вертячийской операции не получили должного освещения в отечественных исторических исследованиях, а также в мемуарах, особенно активно издававшихся в советский период. Также и отдельной работы, которая была бы посвящена истории проведения Вертячийской операции, в отечественной историографии Великой Отечественной войны не было написано. В фундаментальных работах советского и постсоветского периода данной операции отведено совершенно незначительное место. В частности, в работе А.М. Самсонова «Сталинградская битва» рассматриваемая здесь операция вообще не выделяется, а действиям 24-й армии в районе хутора Вертячий посвящено всего несколько строк [2]. В коллективном издании об истории 24-й армии (позднее преобразованной в 4-ю гвардейскую) «От волжских степей до австрийских Альп: боевой путь 4-й гвардейской армии» Вер-тячийской операции посвящено неполных 7 страниц [3. С. 11-18]. Причем события тех дней представлены в характерном для советского периода стиле - с акцентом на рассмотрении роли партийных органов в действиях Красной Армии и полным отсутствием какого-либо анализа (тем более критического) хода и итогов операции. В постсоветский период одно из наиболее фундаментальных исследований о Сталинградской битве -это работа А.В. Исаева «Сталинград. За Волгой для нас земли нет» [4]. В ней была предпринята попытка критического анализа наступления 24-й армии. Однако поскольку оно не было основным предметом внимания исследователя, то повествование свелось к рассмотрению действий 16-го танкового корпуса, приданного 24-й армии при проведении данной операции Вертячийская операция Красной Армии в отечественной мемуарной литературе 57 и указанию на наиболее крупные ошибки командования армии. В частности, автор полагает, что «одной из основных причин неудач 24-й армии было неверное определение начертания переднего края противника. Соответственно, артиллерийская подготовка была проведена по позициям, которые занимались боевым охранением, а не основными силами обороняющихся немецких частей» [4. С. 321]. Среди мемуарной литературы, в которой в той или иной мере рассматриваются события Вертячийской операции, можно упомянуть работы ряда командиров, занимавших на момент проведения операции руководящие должности в составе 24-й армии, а также вышестоящего руководства: Маршала Советского Союза Г.К. Жукова (осенью 1942 г. - представитель Ставки ВГК на Сталинградском направлении) [5], начальника Генштаба Маршала Советского Союза А.М. Василевского [6], командующего Донским фронтом Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского [7], заместителя командующего 24-й армией генерала А.В. Горбатова [8], командира 109-й танковой бригады 16-го танкового корпуса В.С. Архипова [9], командира 214-й стрелковой дивизии генерала Н.И. Бирюкова [10]. Кроме того, в своих мемуарах события Вертячийской операции затронул и бывший командующий 65-й армией генерал П.И. Батов (части 65-й армии в ходе проведения Вертячийской операции были правым соседом войск 24-й армии) [11]. Однако самой многочисленной группой источников, которая стала доступна большинству современных исследователей войны относительно недавно, являются документы объединений, соединений, частей и подразделений Красной Армии, размещенные на интернет-портале «Память народа». Среди них боевые донесения, оперсводки, боевые приказы и распоряжения, отчеты о боевых действиях, журналы боевых действий, директивы и указания, приказы, доклады и рапорты, разведывательные бюллетени и донесения, планы операций, карты, схемы, справки частей и подразделений 24-й армии и других частей и соединений Донского фронта. В последние годы широкому кругу исследователей стали доступны многочисленные источники, освещающие события Сталинградской битвы не только со стороны Красной Армии, но и со стороны войск вермахта. В настоящий момент исследователи могут ознакомиться с документами 76-й пехотной дивизии VIII армейского корпуса и 384-й пехотной дивизии XI армейского корпуса вермахта (основные части вермахта, противостоящие войскам Красной Армии в ходе Вертячийской операции), а также с документами 6-й армии вермахта за период проведения указанной операции [12]. Цель настоящего исследования состоит в осуществлении источниковедческого анализа материалов о Вертячийской операции войск 24-й армии, выявлении проблемных аспектов и перспективных направлений изучения исторических источников о Вертячийской операции для устранения «белых пятен» в объективной картине событий заключительного этапа Сталинградской битвы. Вертячийская операция 22-30 ноября 1942 г. в мемуарах советских военачальников Мемуарная литература всегда представляет определенные сложности для исследователей, стремящихся к воссозданию объективной картины происходивших событий. Однако в период существования СССР мемуары советских военачальников редко выходили за рамки официальной трактовки тех или иных эпизодов исторического прошлого страны, что обусловливало непротиворечивый, взаимодополняющий характер описаний событий прошлого. Тем удивительнее то обстоятельство, что в отношении описания Вертячийской операции, осуществленной силами 24-й армии Донского фронта в период с 22 по 30 ноября 1942 г. мы встречаем не просто различные интерпретации и оценки, но и принципиально разные подходы к реконструкции исторического прошлого, представленного в них. В частности, если в воспоминаниях К.К. Рокоссовского, Г.К. Жукова, А.М. Василевского, П.И. Батова речь ведется от лица автора «по памяти», без ссылок на архивные документы, то в работах военачальников менее высокого ранга - Н.И. Бирюкова и В.С. Архипова - текст изобилует отсылками к фондам ЦАМО. Кроме того, в данном случае достаточно сложно не только сравнивать, но и корректно дополнять картины событий, создаваемые военачальниками высшего ранга, описаниями военачальников нижестоящего уровня -дивизионного, бригадного. Причина этого в том, что для высшего командования военные действия в первую очередь разворачивались через призму карт, схем, делопроизводственную документацию. Чем ниже уровень управления войсками, чем меньше масштаб охватываемых в документах событий, тем меньше были необходимость и возможности в документировании событий. В этих условиях возрастает ценность воспоминаний тех участников войны, чьи действия не нашли своего полноценного отражения в сохраненных документах. В связи с этим можно только сожалеть о том, что в мемуарной литературе в отношении описания событий Вертячийской операции имеет место существенный пробел. Речь идет о воспоминаниях заместителя командующего 24-й армией генерала А.В. Горбатова «Годы и войны». Удивительно, но о данной операции в них не упоминается совсем [8]. По всей видимости, трагический характер хода наступательной операции, с одной стороны, а также стремление разделить итоговый успех освобождения хутора Вертячий, с другой стороны, способствовали тому, что мало кто хотел взять на себя ответственность за формирование замысла и организацию неудачно развивавшегося наступления, но вместе с тем многие желали получить свою долю лавров за окончательный успех. Данное обстоятельство оказало влияние на стремление выяснить причины произошедшего, но вместе с тем порождало и значительные противоречия в изложении событий, имеющие место в мемуарной литературе, желание переложить ответственность за неудачу на других. С подобной ситуацией мы сталкиваемся уже на уровне описания замысла и подготовки Вертячийской операции, содержащегося в представленных работах. А.Ю. Чмыхало, П.А. Винарский 58 Так, воспоминания командующего Донским фронтом, будущего Маршала Советского Союза К.К. Рокоссовского относительно замысла наступательной операции 24-й армии в направлении хутора Вертячий сводятся к нескольким основным тезисам: 1) войска армии, располагая имеющимися силами и средствами, не могли рассчитывать на достижение ощутимого успеха, поскольку противник был сильный, маневроспособный и занимал весьма выгодный рубеж, оборудованный еще нашими частями; 2) задача войскам Донского фронта была сформулирована Ставкой, которая обязала фронт именно так использовать армию; 3) противник и местность были хорошо изучены войсками фронта; 4) возложенная на 24-ю армию задача состояла в том, чтобы наступать в междуречье, примыкая своим правым флангом к Дону. Прорвав оборону противника, армия должна была продвинуться на Вертячий, чтобы воспрепятствовать отходу на восточный берег реки вражеских войск, действовавших против 65-й и 21-й армий; 5) однако задача армии при тех средствах, которые были выделены, была невыполнимой; 6) расчет был на то, что своими наступательными действиями 24-я скует значительные силы противника, лишив его возможности подкреплять свои войска на главном направлении [7. С. 150]. Таким образом ответственность за формирование плана К.К. Рокоссовский возложил на Ставку. Но находит ли подтверждение эта позиция в воспоминаниях представителей Ставки, координировавших действия фронтов в ходе проведения контрнаступления под Сталинградом, - Г.К. Жукова и А.М. Василевского? В своих воспоминаниях Г.К. Жуков, выполнявший на момент проведения операции функции представителя Ставки ВГК, подтверждает некоторую часть тезисов К.К. Рокоссовского и также указывает, что разработка плана всей операции по осуществлению контрнаступления войск Красной Армии под Сталинградом является заслугой Ставки Верховного Главнокомандования и Генштаба. Ставка поставила задачу силам 24-й армии наступать из района Качалинской вдоль левого берега Дона на юг в общем направлении на Вертячий с целью отсечения войск противника, действовавших в малой излучине Дона, от его группировки в районе Сталинграда [5. С. 99-101]. А.М. Василевский в мемуарах «Дело всей жизни» не приводит каких-либо фактов, которые могли бы позволить поставить под сомнение авторство Ставки в разработке замысла и плана контрнаступления под Сталинградом, однако никаких подробностей операции 24-й армии не приводится, за исключением того, что он, как и Г.К. Жуков, 4 ноября 1942 г. принимал участие в совещании руководящего состава Донского фронта, на котором рассматривались вопросы предстоящего наступления [6. С. 224-227]. Ни Г.К. Жуков, ни А.М. Василевский не приводят подробности проводившегося совещания, однако у нас в распоряжении имеются свидетельства еще одного автора, присутствовавшего на нем, - командующего 65-й армией Донского фронта П.И. Батова. Воспоминания П.И. Батова позволяют несколько иначе взглянуть на замысел наступления 24-й армии в направлении хутора Вертячий: во-первых, он утверждает, что участок, избранный для прорыва в полосе 24-й армии (высота 56,8), - это был вопрос из области фронтового планирования [11. С. 173-174], а значит, и командование фронтом, зная об эффективной обороне немцев, построенной на этом участке, могло изменить направление главного удара армии; во-вторых, П.И. Батов утверждает, что командование 65-й армией старалось найти наиболее правильное решение, а позже, в ходе операции, вносило необходимые коррективы [Там же. С. 174]. Исходя из этого, можно полагать, что командование 24-й армией и Донского фронта могло принять другое решение вместо осуществления лобового удара по обороне противника или изменить его направление после неудачного начала наступления. Почему же командование 24-й армией не пошло на то, чтобы изменить план наступления или скорректировать направление удара уже в ходе неудачно разворачивавшейся операции? Возможный ответ предложил Н.И. Бирюков (в ноябре 1942 г. командир 214-й стрелковой дивизии 24-й армии). В своих воспоминаниях он описывает ситуацию своего знакомства с замыслом Вертячийской операции, произошедшего 7 ноября 1942 г. Из них следует, что командарм 24-й генерал И.В. Галанин был убежден в необходимости проведения наступления на хутор Вертячий посредством лобового удара в направлении высоты 56,8. Альтернативные варианты проведения наступления он не желал рассматривать, поскольку полагал, что взятие указанной высоты приведет к краху всей системы обороны немцев на данном участке [10. С. 113-114]. Таким образом, подводя итог анализу текстов мемуаров, направленному на выяснение автора замысла и плана Вертячийской операции, можно констатировать, что данный вопрос остается до конца не проясненным. В конце 1960-х - начале 1970-х гг., когда были опубликованы воспоминания К.К. Рокоссовского, П.И. Батова и Н.И. Бирюкова, оппонировать им было некому, поскольку бывшего командарма 24-й И.В. Галанина уже не было в живых (умер в 1958 г.), а бывший заместитель командарма А.В. Горбатов не принял участия в дискуссии по данному вопросу. Относительно хода и итогов операции позиция авторов мемуаров не менее противоречива и также оказалась предметом заочной дискуссии. Достаточно отличные друг от друга позиции представлены в воспоминаниях К.К. Рокоссовского, П.И. Батова, Н.И. Бирюкова, а также командира 109-й танковой бригады 16-го танкового корпуса В.С. Архипова, в которых содержатся некоторые подробности проведения операции. Воспоминания К.К. Рокоссовского по этому поводу, как и в случае с замыслом операции, весьма немногословны и сводятся к следующим тезисам: 1) наступление 24-й армии с целью отрезать отход на восточный берег Дона соединений противника, атакованных 65-й и 21-й армиями, не увенчалось успехом, как и предполагал автор воспоминаний; Вертячийская операция Красной Армии в отечественной мемуарной литературе 59 2) автор сожалеет, что силы и средства, которыми была подкреплена 24-я армия, не были переданы войскам, успешно продвигавшимся вперед, 3) 24-я армия в какой-то степени содействовала общей операции, сковывая и отвлекая на себя значительные силы врага; 4) вину за неудачу наступления нельзя относить только на счет командарма Галанина, хотя он допустил некоторые ошибки; 5) причина неудачи - недостаток у армии сил, чтобы преодолеть крепкую оборону противника, 6) войска 24-й армии смогли оттянуть в район наступления непосредственно из-под Сталинграда несколько дивизий; 7) автор, скорее, удовлетворен неудачей 24-й армии, поскольку если бы маневр удался, то получился бы слоеный пирог - окружение в окружении, что потребовало бы привлечения почти всех войск фронта. По всей видимости, удовлетворительным решением штаб фронта не располагал, поскольку «план этот так и повис в воздухе» [7. С. 152-155]. С другой стороны, мы имеем воспоминания П.И Батова и Н.И. Бирюкова. В описании событий наступления их содержание в значительной степени согласуется друг с другом даже в некоторых мелких деталях. По всей видимости, в воссоздании событий Вертячий-ской операции П.И. Батов использовал воспоминания Н.И. Бирюкова - своего бывшего подчиненного (в январе-феврале 1943 г. 214-я стрелковая дивизия входила в оперативное подчинение 65-й армии), хоть прямо на них и не ссылается. При этом позиция П.И. Батова несколько отличалась от описания, представленного К.К. Рокоссовским. В частности, он указывал на следующее: 1) расчет командарма 24-й на то, что артиллерия РВГК (семь артиллерийских полков усиления и четыре полка гвардейских минометов) задавит немцев на высоте 56,8, не оправдался. После мощной артподготовки атакующая дивизия осталась всего с 40 стволами, из которых 10 были заняты контрбатарейной борьбой. В итоге 214-я стрелковая дивизия два дня вела безуспешные бои; 2) Галанин обвинил левофланговые дивизии 65-й армии в бездействии, которое ставило 24-ю армию в тяжелое положение. К.К. Рокоссовский вмешался в спор, отчитал Галанина за неправдивость, но при этом не изменил решения о проведении лобового удара; 3) именно Галанин, дав волю нервам, утром 24 ноября ввел в бой 16-й танковый корпус, направив его на прорыв обороны противника через боевые порядки 214-й дивизии. При этом командир танкового корпуса генерал А.Г. Маслов и сам командарм ограничились приказом - сделать проходы для танков в минных полях. Ни один из офицеров корпуса не был на местности, вопросы взаимодействия со стрелковой дивизией отработаны не были. В итоге несколько танков подорвалось, другие прошли вперед и погибли под огнем противотанковых пушек врага. Корпус был выведен из боя; 4) 24-я армия не прошла на Вертячий. Переправы также оставались еще некоторое время в руках противника [11. С. 214-215]. Как уже было сказано, по всей видимости, П.И. Батов опирался на воспоминания Н.И. Бирюкова, практически один в один воспроизводя некоторые эпизоды Вертячийской операции, однако в позиции последнего имеется ряд дополнительных обстоятельств. Кратко отметим некоторые из них: фронт наступления 214-й сд составлял немногим более 2 км, справа наступала 120-я сд полковника Джахуа, слева 49-я сд генерала А.Н. Черникова. Наступление дивизии поддерживали: один гаубичный и один легкий артполк, один тяжелый гвардейский минометный полк и два дивизиона гвардейского минометного полка, рота огнеметов. Всего около 42 стволов на километр фронта; в начале наступления 22 ноября 1942 г. под прикрытием артподготовки саперы проделали проходы в проволочных заграждениях и минных полях у подножия высоты 56,8; после залпа «катюш» 214-я сд перешла в наступление и захватила траншеи переднего края обороны 76-й пехотной дивизии немцев. Вскоре выяснилось, что в результате артподготовки огневая система обороны немцев не была подавлена. Существенное препятствие представляла артиллерия соседней 384-й пехотной дивизии немцев, ведущей огонь с правого берега р. Дон; соседи справа и слева успеха не имели. Н.И. Бирюков обвиняет командира 120-й сд полковника Джахуа в бездействии, однако к вечеру 22 ноября высота 56,8 все же взята; в ночь на 23 ноября 1942 г. части 214-й сд в результате контратаки 76-й и 384-й пд немцев оставляют высоту 56,8; в ночь на 23 ноября 1942 г. командование Донским фронтом решает ввести в действие 16-й танковый корпус с рубежа, занятого накануне 214-й сд, дивизионному инженеру вновь отдан приказ о необходимости проделать проходы в минных полях (почему-то это потребовалось делать повторно, хотя в начале наступления их уже должны были проделать); утром 23 ноября 1942 г. танкисты 16-го тк открывают артиллерийский огонь и развертываются в боевые порядки для наступления, но раньше назначенного рубежа, в результате этого под обстрел попадают части 214-й сд; командир 16-го тк генерал А.Г. Маслов отказался увязывать взаимодействие с командиром 214-й сд, что привело к тому, что танки корпуса, игнорируя отмеченные проходы, напарываются на минное поле и теряют несколько боевых машин. В итоге наступление 16-го тк не внесло существенных изменений в обстановку, как и ввод в сражение 24 ноября 1942 г. 84-й стрелковой дивизии; немцы усиливали оборону 76-й пехотной дивизии, перебросив на этот участок подразделения 176-го транспортного отряда, 176-го саперного батальона и пр.; 26 ноября в наступление в направлении хутора Вертячий вводятся части 233-й стрелковой дивизии при поддержке еще одного тяжелого гвардейского минометного полка, двух дивизионов минометного полка и двух гвардейских тяжелых танковых полков, однако оборона немцев перед фронтом 24-й армии рухнула только тогда, когда 27 ноября им в тыл вышли войска 65-й армии; сравнение результатов разведки и аэрофотоснимков немецкой обороны после взятия высот перед хутором Вертячий показало их высокую достоверность, но, как указывает Н.И. Бирюков в заключение А.Ю. Чмыхало, П.А. Винарский 60 своего повествования о деталях наступления, им почему-то не было веры в штабе армии; 29 ноября 1942 г. войска 65-й и 24-й армий ворвались в хутор Вертячий [10. С. 119-141]. Воспоминания еще одного участника тех боев -бывшего командира 109-й танковой бригады 16-го танкового корпуса В.С. Архипова - с одной стороны, несколько ограничены по времени, поскольку корпус вступил в сражение только утром 23 ноября 1942 г., а 26 ноября 1942 г. воевал уже в качестве батальона сводной бригады, созданной из танков, оставшихся после больших потерь предыдущих дней. Кроме того, многие вопросы стратегического, оперативного и даже тактического уровня, связанные с проведением Вертячий-ской операции ему не могли быть ведомы в силу должного положения. С другой стороны, воспоминания В.С. Архипова позволяют несколько по-иному взглянуть на ход операции в силу того, что он представляет танкистов 16-го танкового корпуса, т.е. тех, кого некоторые из указанных выше авторов прямо обвиняли в неудачах первых дней проведения наступления. Основные отличительные особенности позиции В.С. Архипова в представлении событий Вертячий-ской операции состоят в том, что, по его утверждению, в танковом корпусе знали, что в соответствии с планом они должны будут принять участие в наступлении в полосе 24-й армии, однако не имели сведений ни о конкретном времени, ни о месте, где это произойдет. Боевой приказ от командования корпусом поступил только в 2 часа ночи 23 ноября 1942 г., когда уже не было времени провести даже беглую рекогносцировку местности. В воспоминаниях В.С. Архипова мы находим и объяснение некоторой самонадеянности танкистов при преодолении минных полей, о которой упоминал Н.И. Бирюков. Она была обусловлена наличием на вооружении 109-й танковой бригады минных тралов, позволявших сходу преодолевать минные поля и проволочные заграждения. Именно поэтому уже в самом начале ввода бригады в сражение она смогла преодолеть оборону немцев, но вынуждена была вернуться, поскольку пехота 214-й сд залегла и не поддержала танковую атаку. 24 ноября 1942 г. 109-я танковая бригада смогла прорваться к хутору Вертячему, о чем было доложено командованию 16-м танковым корпусом. Этот факт, как утверждает В.С. Архипов, смог непосредственно подтвердить начальник штаба Донского фронта генерал М.С. Малинин, который вместе с сопровождающими его лицами на трех легковых машинах также проехал к хутору (при этом пехотинцам 120-й и 214-й стрелковых дивизий, между порядками которых наступала бригада, почему-то этого сделать не удалось). Не сумев закрепиться на окраинах Вертячего, вечером 24 ноября 1942 г. бригада получает приказ вернуться на исходные позиции в районе Паньшино. В итоге генерал Галанин на заседании Военного Совета армии раскритиковал действия 16-го танкового корпуса, но присутствовавший на заседании М.С. Малинин заявил, что 109-я танковая бригада - единственная часть, которая выполнила боевую задачу. В подтверждение своих слов В.С. Архипов приводит ссылки не только на архивные докумен ты, но и на наградные документы, в которых указано, что бойцы и командиры 109-й танковой бригады были награждены именно за прорыв к хутору Вертячий [9. С. 161-169]. Подводя предварительный итог сказанному, можно указать, что обзор содержания мемуаров указанных выше военачальников порождает множество вопросов и противоречий, а именно: 1. Не представляется возможным четко установить авторство наступления 24-й армии в направлении хутора Вертячий посредством атаки вдоль левого берега Дона; 2. Если командование 24-й армией и Донским фронтом располагало достаточно полной информацией о противнике и инженерном оборудовании их позиций, то почему не предприняло никаких усилий к тому, чтобы изменить направление главного улара? 3. Преждевременный ввод в сражение 16-го танкового корпуса - это решение генерала Галанина или командования фронтом? 4. На ком лежит основная ответственность за неудачу наступления - на генерале Галанине, на командире 16-го тк Маслове, на командире 49-й стрелковой дивизии генерале А.Н. Черникове и 120-й стрелковой дивизии полковнике Джахуа, на войсках 65-й армии или на стрелковых частях 24-й армии, которые не смогли поддержать наступление танков 16-го танкового корпуса? 5. Вввод в сражение 16-го тк не внес существенных изменений в обстановку или его части единственные, кто выполнил боевую задачу, прорвавшись к хутору Вертячий? 6. Основная причина неудачи - недостаток у армии сил, чтобы преодолеть крепкую оборону противника, или их введение по частям позволяло немцам последовательно уничтожать те части, которые находились на острие наступления? 7. Войска 24-й армии смогли оттянуть в район наступления непосредственно из-под Сталинграда несколько дивизий или только 384-ю пехотную дивизию немцев, которая была переброшена с противоположного направления - с правого берега Дона - ввиду необходимости сокращения фронта? 8. Какова роль артиллерии в неуспехе наступления 24 армии? 9. Какова цена, заплаченная за неудачно проведенную операцию и пр. Анализ мемуарной литературы ярко продемонстрировал одну из специфических черт данного вида исторических источников, которая состоит в том, что применительно к освещению конфликтных ситуаций, неудач, поражений мы, как правило, сталкиваемся с многочисленными противоречиями, которые не могут быть разрешены без привлечения дополнительных источников. Способны ли архивные документы, которые появились в распоряжении современного поколения историков, устранить хотя бы некоторые из них? Для ответа на этот вопрос рассмотрим комплекс документов объединений, соединений, частей и подразделений Красной Армии, принимавших непосредственное участие в Вертячийской операции, размещенный на интернет-портале «Память народа». Вертячийская операция Красной Армии в отечественной мемуарной литературе 61 Состав комплекса архивных документов частей и соединений Красной Армии по истории военных операций периода Великой Отечественной войны: краткая характеристика Обращаясь к анализу документов частей и соединений Красной Армии, датируемых второй половиной 1942 г., в первую очередь необходимо сформировать представление о том комплексе документов, который создавался в ходе текущего делопроизводства в частях и соединениях РККА в тот период. Данное основание позволит нам оценить масштабы и полноту комплекса документов, который содержится в архивных учреждениях России и может быть доступен для ознакомления современным исследователям. Перечень основных нормативных актов, определявших порядок ведения делопроизводства в Красной Армии, был введен в действие в 1939 г. и применялся в течение всей войны. Среди данных документов можно выделить следующие: 1) Перечень дел и материалов со сроками архивного хранения для центральных управлений НКО СССР, введен в действие приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 0111 от 3 июня 1939 г.; 2) Перечень дел и материалов со сроками архивного хранения для управлений и отделов округа (армии), введен в действие приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 0112 от 3 июня 1939 г.; 3) Наставление по секретному делопроизводству в РККА, введено в действие приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 0150 от 4 сентября 1939 г.; 4) Наставление по несекретному делопроизводству в РККА, введено в действие приказом Народного комиссара обороны Союза ССР № 170 от 4 сентября 1939 г.; 5) приказ НКО и НКВД СССР 1940 г. № 61/193 от 19 марта 1940 г. «О сроках и порядке сдачи архивных дел воинскими частями, учреждениями и заведениями РККА в государственные архивы системы НКВД СССР». В соответствии с этими нормативными актами в делопроизводстве подразделений, частей, учреждений и других структур РККА использовались различные виды документов. Казалось бы, учитывая высокую степень централизации и регламентации практически всех сфер деятельности Красной Армии, аналогичного положения вещей можно было бы ожидать и в области делопроизводства и хранения документов, однако здесь мы встречаем несколько иную картину. В частности, Отдел архивов Наркомата обороны Союза ССР (с 29 июля 1940 г. - в составе Управления Делами НКО СССР) согласно Положению о данном отделе хранил только военно-архивные документы Реввоенсовета, Народного комиссариата по военным и морским делам, Народного комиссара обороны, а также их отделов и центральных управлений. В центральном и окружном аппарате организовывались объединенные архивы (один архив для центральных управлений и по одному - на аппарат округа, армии). При войсковых частях, соединениях, учреждениях и заведениях также организовывались самостоятельные архивы. Архив ные документы со сроком хранения свыше 10 лет по истечении 10-летнего хранения в архиве части, соединения, учреждения, заведения или в объединенном архиве округа (армии), в объединенном архиве центральных управлений НКО СССР должны были передаваться на дальнейшее хранение в архивы системы ГАУ НКВД СССР в следующем порядке: а) архивы войсковых частей, военно-учебных заведений, военных трибуналов, штабов соединений, штабов военных округов (армий), центрального аппарата НКО СССР и прочих структур передавались на дальнейшее хранение в Центральный архив Красной Армии; б) архивы складов, мастерских, предприятий, госпиталей, Домов Красной Армии, местных органов военного управления и прочих учреждений передавались на дальнейшее хранение в военные отделы ближайших республиканских или краевых (областных) архивов системы ГАУ НКВД СССР. Архивные документы войсковых частей, выступавших в поход, должны были сдаваться в архивы местных органов военного управления, а последние обязаны были сдать эти документы в Центральный архив Красной Армии [13]. Очевидно, что в условиях военных потрясений данная система формирования и хранения архивных документов о боевой деятельности РККА давала сбои. Поскольку документы легче было сдать в Отдел архивов НКО СССР, то согласно Приказу НКО № 0331 от 30 августа 1941 г. войсковые части, соединения, учреждения и заведения Красной Армии в целях разгрузки от излишней документации должны были архивный материал сдавать в г. Бузулук, где находилось хранилище Отдела архивов НкО СССР [14]. Вскоре выяснилось, что документы сдаются в неупорядоченном виде, среди сдаваемого материала много откровенной макулатуры, не имеющей исторического значения. По этому поводу был издан приказ «Об устранении недостатков в отборе и сдаче архивных материалов для хранения» № 0174 от 5 марта 1942 г. В нем, в частности, указывалось, какие документы должны направляться на хранение в первую очередь, а именно: журналы военных действий, боевые приказы, оперативные и разведывательные сводки, итоговые доклады, рисующие замысел, ход и результаты проведенных боев и операций, документы, свидетельствующие о деятельности отдельных родов войск и служб, материалы с оценкой деятельности и численности неприятельских войск, карты и схемы, отображающие динамику боевых действий частей и соединений, документы о геройстве и мужестве как отдельных лиц, так частей и соединений и прочие материалы, отображающие развитие и боевую деятельность частей и соединений Красной Армии [15]. В напряженных условиях оборонительных и наступательных операций 1942-1943 гг. вопросу сохранности архивных документов хоть и уделялось определенное внимание, но далеко не всегда требования приказов были реализуемы на уровне частей и подразделений Красной Армии. Именно поэтому на уровне фронтов и соединений издавались специальные приказы о необходимости вести журналы боевых действий. К пробле- А.Ю. Чмыхало, П.А. Винарский 62 ме устранения недостатков в сохранении документов на уровне армии в целом вновь обратились в 1944 г., когда был издан приказ заместителя наркома обороны «О сохранении военно-исторических документов Отечественной войны и своевременной сдаче их историкоархивному отделу НКО» № 0290 от 30 августа 1944 г. Данный приказ обязал штабы частей, соединений и прочих структур своевременно и согласно требованиям приказа НКО № 170 1939 г. сдавать архивные документы на хранение в историко-архивный отдел НКО [16]. Этот приказ обеспечил сохранение большого массива документов, а также составление новых документов, которые по тем или иным причинам не были выпущены вовремя. Таким образом, анализ развития нормативной основы, которой руководствовались в частях, соединениях Красной Армии в довоенный период и в период войны в области делопроизводства и архивного дела, показывает, что документальные материалы по истории тех или иных операций, осуществленных частями и соединениями Красной Армии в годы Великой Отечественной войны, могут включать в себя четко очерченный круг основных форм документов, а именно: журналы военных действий, боевые приказы, оперативные и разведывательные сводки, итоговые доклады, карты и схемы. Отдельно необходимо рассмотреть вопрос о комплексе документов, касающихся учета потерь и погребения личного состава Красной Армии. По этому поводу 15 марта 1941 г. был издан Приказ НКО № 138 «О персональном учете потерь и погребении личного состава Красной Армии в военное время». Согласно данному приказу учет персональных потерь должен был вестись на всех уровнях организации Красной Армии, начиная с командиров отделений, взводов, рот, штабов батальонов и полков, по формам 1, 1а, 1б, 2. Учетные документы нижестоящих подразделений обобщались в учетных документах вышестоящих подразделений. Начиная с дивизионного уровня, документы, связанные с персональным учетом потерь и погребением, уже не обобщались, а непосредственно передавались в Управление по укомплектованию войск Генштаба Красной Армии. В штабе дивизии (бригады), корпуса по результатам персонального учета потерь личного состава полков (отдельных частей) дивизии должны были составляться именные списки по форме 2а безвозвратных потерь (убитые, умершие от ран, пропавшие без вести и взятые в плен) за все части, в том числе и за тыловые учреждения, входящие в состав дивизии (бригады), которые следовало высылать три раза в месяц - к 1-му, 10-му и 20-му числу каждого месяца -в Управление по укомплектованию войск Генштаба Красной Армии. При этом штаб корпуса представлял именные списки потерь только за управление корпуса, корпусные части, тыловые и лечебные учреждения, непосредственно подчиненные корпусу. В штабе армии (фронта) персональный учет потерь личного состава предусматривал составление к 1-му, 10-му и 20-му числу каждого месяца и представление в Управление по укомплектованию войск Генштаба Красной Армии именного списка безвозвратных потерь начальствующего и рядового состава по форме 2 только за личный состав штаба армии (фронта), частей и учреждений армейского управления, за тыловые и санитарные учреждения, непосредственно подчиненные армии, фронту. Лечебные учреждения должны были составлять по форме 3 списки военнослужащих, умерших от ран в лечебном учреждении, а также умер
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 100
Ключевые слова
Вертячийская операция, Сталинградская битва, Донской фронт, 24-я армияАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Чмыхало Александр Юрьевич | Томский политехнический университет | кандидат философских наук, доцент Отделения социально-гуманитарных наук | sanichtom@inbox.ru |
| Винарский Петр Андреевич | Кадетская школа-интернат «Северский кадетский корпус» | майор в отставке, воспитатель | oip71@mail.ru |
Ссылки
Центральный архив Министерства обороны (ЦАМО). Ф. 320. Оп. 4522. Д. 1-12.
Самсонов А.М. Сталинградская битва. М. : Наука, 1989. 627 с.
Воронцов Т.Ф., Бирюков Н.И., Смекалов А.Ф., Шинкарев И.И. От волжских степей до австрийских Альп: боевой путь 4-й гвардейской ар мии. М. : Воениздат, 1971. 256 с.
Исаев А.В. Сталинград. За Волгой для нас земли нет. М. : Яуза ; Эксмо, 2008. 448 с.
Жуков Г.К. Воспоминания и размышления. М. : ОЛМА-ПРЕСС, 2002. Т. 1. 415 с.
Василевский А.М. Дело всей жизни. М. : Политиздат, 1978. 552 с.
Рокоссовский К.К. Солдатский долг. М. : Воениздат, 1969. 384 с.
Горбатов А.В. Годы и войны. М. : Воениздат, 1989. 366 с.
Архипов В.С. Время танковых атак. М. : Яуза ; Эксмо, 2009. 352 с.
Бирюков Н.И. На огненных рубежах: 214-я Кременчугско-Александрийская стрелковая дивизия. Уфа : Башкнигоиздат, 1969. 187 с.
Батов П.И. В походах и боях. М. : Воениздат, 1974. 528 с.
Журнал боевых действий 6-й армии. 13 ноября // Nordriegelstellungen 1942. Немецкие дивизии в Сталинградской битве. URL: https://nordrigel.livejournal.com/?skip=80&tag=aok.6 (дата обращения: 15.09.2018).
Центральному архиву Министерства обороны РФ - 70 лет! URL: http://www.vestarchive.ru/issledovaniia/719-----70-.pdf (дата обращения: 13.09.2018).
Об отборе и сдаче на хранение архивных дел и материалов войсковых частей, соединений, учреждений и заведений Красной Армии : приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 0331 от 30.08.1941. URL: http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/03.html (дата обращения: 14.09.2018).
Об устранении недостатков в отборе и сдаче архивных материалов для хранения : приказ Народного комиссара обороны Союза ССР.№ 0174 от 05.03.1942. URL: http://militera.lib.ru/docs/da/nko_1941-1942/09 html (дата обращения: 14.09.2018).
О сохранении военно-исторических документов Отечественной войны и своевременной сдаче их историко-архивному отделу НКО : приказ заместителя Народного комиссара обороны № 0290 от 30.08.1944. URL: http://militera.lib.ru/ docs/da/ nko_ 1943-1945/11.html (дата обращения: 14.09.2018).
О персональном учете потерь и погребении личного состава Красной Армии в военное время : приказ Народного комиссара обороны Союза ССР № 138 от 15.03.1941. URL: http://soldat.ru/files/4/6/15/294/ (дата обращения: 14.09.2018).
Наставление по полевой службе штабов Красной Армии. М. : Воениздат НКО СССР, 1942. 256 с. URL: http://scansbooks.ru/catalog/polevaiaslujba.html (дата обращения: 14.09.2018).
ЦАМО. Ф. 6363. Оп. 87570с. Д. 2.
ЦАМО. Ф. 206. Оп. 262. Д. 1-213.
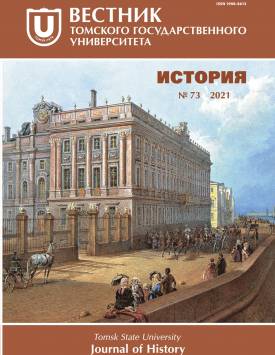
Вертячийская операция Красной Армии в отечественной мемуарной литературе и архивных документах | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 73. DOI: 10.17323/19988613/73/8
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 324

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью