Становление центральноазиатской политики Китая (1992-2000)
Рассматриваются основные этапы и тенденции становления политики Китая в постсоветской Центральной Азии в 1990-е гг. в контексте общей эволюции китайской внешней политики. Выделены два периода формирования и реализации центральноазиатской политики КНР, характеризующихся соответственно признанием российского лидерства в Центральной Азии и курсом на создание условий для совместного с Россией лидерства в регионе.
Development of China’s Central Asian policy (1992-2000).pdf В последние годы выдвинутая китайским руководством инициатива «Один пояс, один путь» стала центральной темой научных и экспертно-аналитических публикаций, посвященных политике КНР в Центральной Азии. Однако малоизученными остаются истоки центральноазиатской политики Китая, а также деятельность китайской дипломатии в регионе в 1990-е гг., заложившая основу для своеобразного «большого сачка» - превращения КНР в 2000-2010-е гг. в одного из ключевых внешнеполитических партнеров для каждой из пяти стран Центральной Азии. Цель настоящей статьи - вывить основные этапы и тенденции становления политики КНР в Центральной Азии в контексте общей эволюции внешней политики Пекина. В 1990-е гг. китайская внешняя политика стремилась прежде всего к обеспечению стабильной внешней среды, позволяющей сконцентрировать усилия на экономических реформах [1. P. 49]. Пекин успешно комбинировал во внешней политике две линии: поддержание и постепенное усиление статуса великой державы и подчеркнутый отказ от притязаний на лидерство, будь то в глобальном масштабе или в сопредельных регионах. Центральноазиатский вектор внешней политики рассматривался китайским руководством сквозь призму обеспечения безопасности западных рубежей страны, в рамках концепции «стратегического тыла» [2. P. 152]: ситуация в Центральной Азии не должна была отвлекать Пекин от решения задач на приоритетном для Китая восточноазиатском направлении. При установлении дипломатических отношений со странами региона Китай заявлял, что в отношении центральноазиатских государств будет проводиться политика «поддержания дружественных отношений с соседями». В 1992-1993 гг. лидеры всех стран Центральной Азии посетили Китай. В апреле 1994 г. премьер Г оссовета КНР Ли Пэн нанес официальные визиты в Казахстан, Киргизию, Туркменистан и Узбекистан. Глава китайского правительства сделал акцент на том, что КНР не стремится к созданию в регионе «сферы экономического или политического влияния» [3. P. 41]. Первоочередной задачей китайской политики в регионе стало завершение процесса урегулирования пограничных вопросов с сопредельными странами Центральной Азии, начавшегося с конца 1980-х гг. в ходе советско-китайских переговоров. В первой половине 1992 г. Китай подписал с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном коммюнике, в которых было отмечено признание результатов, достигнутых в рамках советскокитайского диалога, и выражена готовность продолжить решение пограничных проблем [4. P. 556]. Для переговоров с Китаем Россией, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном была сформирована совместная делегация. В апреле 1994 г. Китай и Казахстан заключили соглашение о делимитации границы. В июле 1996 г. последовало подписание китайско-киргизского соглашения о границе [Ibid. P. 559, 567]. В ходе переговоров о пограничном урегулировании стороны вышли на согласование режима военной безопасности в приграничной зоне. В апреле 1996 г. в Шанхае председатель КНР и президенты России, Казахстана, Киргизии и Таджикистана подписали соглашение об укреплении доверия в военной области в районе границы [5]. В апреле 1997 г. в Москве между Китаем, с одной стороны, и Россией и граничащими с КНР странами Центральной Азии, с другой стороны, было заключено соглашение о взаимном сокращении вооруженных сил в районе границы. Китайским руководством российское военное присутствие и политическое влияние в регионе воспринимались как фундаментальный фактор поддержания стабильности в Центральной Азии. Хотя официальная китайская оценка политики царской России и Советского Союза по отношению к народам Центральной Азии являлась крайне негативной [6. C. 312-317], Китай предпочитал российское лидерство в Центральной Азии усилению регионального влияния США и Турции. Так, Пекин был согласен с тем, что проблематикой межтаджикского конфликта должно заниматься Содружество Независимых Государств, положительно оценивая ключевую роль России в таджикском урегулировании [7. P. 427]. Торгово-экономическое взаимодействие между Китаем и центральноазиатскими государствами осуществлялось в основном через приграничную торговлю Синьцзяна с Казахстаном и Киргизией. В 1992 г. китайское руководство взяло курс на стремительное наращивание масштабов приграничной торговли. Летом 1992 г. Госсовет КНР утвердил стратегию либера- Го Лицзюнь, Е.Ф. Троицкий, Цзюй Чуанья 88 лизации торговли Синьцзяна со странами Центральной Азии. Началось быстрое развертывание приграничной транспортной и торговой инфраструктуры. По ориентировочным оценкам, уже в 1993 г. китайско-казахстанский товарооборот боле чем десятикратно превосходил уровень 1990 г. [9. P. 180-181]. В конце 1993 г. Казахстан ввел более строгие меры контроля над качеством китайского импорта, после чего темпы роста торговли снизились. По данным официальной китайской статистики, за 1992-1996 гг. объем торговли между Китаем и странами региона увеличился на 67%, причем более половины товарооборота приходилось на Казахстан [10. P. 421]. Первая половина 1990-х гг. стала временем интенсивного развития транспортных коммуникаций, связывающих Китай и страны региона. В сентябре 1990 г. был открыт переход Алашанькоу-Дружба, соединивший советскую и китайскую железные дороги. С 1992 г. между Китаем и Казахстаном было запущено регулярное железнодорожное сообщение. На межгосударственном уровне был выдвинут проект соединения автомагистрали Алматы-Бишкек с Каракорумским шоссе, связывающим Китай и Пакистан. В 1996 г. Китай, Киргизия и Узбекистан подписали соглашение о строительстве автомобильной дороги Андижан-Кашгар [4. P. 464-477]. Во второй половине 1990-х гг. китайским руководством был запущен процесс постепенного пересмотра политики в Центральной Азии, ставший отражением изменения стратегических установок КНР и эволюции региональной системы международных отношений. Было выдвинуто положение о Китае как об «ответственной великой державе», призванной нести часть ответственности за международную безопасность [1. P. 49]. Внешнеполитический курс КНР стал отличаться большей инициативностью. Китай начал принимать полноформатное участие в многосторонних структурах обеспечения безопасности в Азии. Успехи китайской экономики прошли проверку на прочность во время азиатского финансового кризиса 1997-1998 гг. Хотя Центральная Азия по-прежнему воспринималась в Пекине как стратегический тыл, Китай приступил к планомерному наращиванию участия в поддержании региональной стабильности и безопасности. Китайское руководство пришло к выводу, что страны Центральной Азии становятся более уязвимыми для угроз со стороны военизированных исламских группировок, а способность России оказывать им действенную поддержку имеет тенденцию к снижению. Соответственно, Пекин начал замещать политику признания регионального лидерства России курсом на формирование условий для осуществления совместного российско-китайского «кураторства» над Центральной Азией. Дополнительным стимулом к более активной политике КНР в регионе стало расширение влияния США в Центральной Азии. В 1999 г. вследствие агрессии НАТО против Югославии в Китае прошла дискуссия о трендах мирового развития, результатом которой стали отказ от тезиса об относительном упадке державы-гегемона и признание необходимости более активной политики в соседних регионах и сотрудничества с Россией в сферах совпадающих интересов [11. P. 28]. Инструментами обновленной политики КНР в регионе стали формирование многосторонних структур взаимодействия в сфере безопасности и расширение двустороннего военно-политического взаимодействия со странами региона. В 1997 г. Китай инициировал трансформацию механизма переговоров по пограничным проблемам в пятисторонний форум координации позиций стран-участниц по широкому кругу вопросов политики, региональной безопасности и экономики, названный «Шанхайской пятеркой». Летом 1998 г. на встрече в Алматы главы государств «Шанхайской пятерки» приняли заявление, в котором были обозначены ключевые аспекты многостороннего сотрудничества. Была выражена готовность к совместной борьбе с терроризмом и трансграничной преступностью, обозначено намерение развивать торгово-экономическое сотрудничество и проводить модернизацию транспортной и трубопроводной инфраструктуры. «Шанхайская пятерка» осуждала «национальный сепаратизм, этническую нетерпимость и религиозный экстремизм» и заявляла, что стороны не потерпят использования своих территорий для «организации деятельности, наносящей ущерб государственному суверенитету, безопасности и общественному порядку какого-либо из пяти государств» [12]. Были выражены солидарность центральноазиатских стран-участниц с позициями России и Китая по ряду международных проблем и приверженность «Шанхайской пятерки» концепции многополярного мира, ставшей идейно-политическим фундаментом геополитического сближения России и Китая. Эти положения красной нитью прошли через итоговое заявление следующего саммита «Шанхайской пятерки», прошедшего в Бишкеке в августе 1999 г. Бишкекская встреча совпала с началом вторжения исламистских банд в Баткенскую область Киргизии, что подчеркнуло актуальность формирования под эгидой «пятерки» структуры, занимающейся организацией взаимодействия сторон в борьбе с терроризмом. С декабря 1999 г. началось проведение встреч руководителей правоохранительных органов «Шанхайской пятерки» («Бишкекской группы»). В марте 2000 г. состоялась первая встреча министров обороны пяти стран, в июле 2000 г. - первая встреча министров иностранных дел. В июле 2000 г. Китай инициировал принятие главами государств «Шанхайской пятерки» решения о ее трансформации в полноценную международную организацию, в которой предусматривалось проведение регулярных совещаний глав правительств, министров обороны, иностранных дел, руководителей правоохранительных, пограничных, таможенных органов, специальных служб, а также создание Совета национальных координаторов и Региональной антитеррористической структуры [13]. Показательным стало присутствие на саммите 2000 г. - пока в качестве наблюдателя - президента Узбекистана. Во второй половине 1990-х гг. Китай приступил к налаживанию и расширению военно-политического сотрудничества с Казахстаном, Киргизией и Узбекистаном. С 1995 г. начался обмен военными делегациями между Китаем и Казахстаном. В 2000 г. Китай вы- Становление центральноазиатской политики Китая 89 делил средства на оказание помощи обмундированием и снаряжением казахстанской армии. После баткен-ских событий материальная помощь была выделена киргизской армии [4. P. 184-194]. В 1999 г., во время визита президента Узбекистана И.А. Каримова в Китай, стороны договорились о развитии военного и военно-технического сотрудничества и присоединении Узбекистана к «шанхайскому процессу». Летом 2000 г. Китай и Узбекистан заключили соглашение о военнотехническом сотрудничестве, предусмативающее, в частности, поставки китайского оружия и боеприпасов Узбекистану [14]. Во второй половине 1990-х гг. фактором, влияющим на политику КНР в Центральной Азии, стала возрастающая потребность Китая в импорте нефти. В 1997-2000 гг. объем китайского импорта нефти увеличился с 35 до 70 млн т в год, а ее доля во внутреннем потреблении возросла до трети [2. P. 144]. В 1997 г. Китай и Казахстан подписали межправительственное соглашение о сотрудничестве в нефтегазовой сфере. Китайская национальная нефтяная компания (КННК) купила у правительства Казахстана контрольные пакеты акций компаний «Актобемунайгаз» и «Узеньмунай-газ» с правами на разработку месторождений Жанажол и Кенкияк в Актюбинской области и Узеньского месторождения в Мангистауской области Казахстана. КННК и министерство энергетики и природных ресурсов Казахстана зафиксировали намерение проложить в будущем нефтепроводы из Западного Казахстана в Западный Китай и от Узеньского месторождения чрез Туркменистан и Иран к Персидскому заливу. Предусматривалось, что объем инвестиций КННК в нефтяные проекты в Казахстане составит 9,5 млрд долл. [15]. Экспорт нефти из Казахстана в Китай по железной дороге начался уже в 1997 г. В конце 1990-х гг. в поле интересов Китая попали нефтегазовые ресурсы Туркменистана. В 1998 г. Пекин выделил Ашхабаду кредит на приобретение китайского оборудования для ремонта нефтяных скважин. Китайская нефтяная инженерно-строительная корпорация заключила с Туркменистаном соглашение о восстановлении простаивающих скважин [4. P. 435-437]. Летом 2000 г. Китай и Туркменистан заключили соглашение о разработке технико-экономического обоснования газопровода Туркменистан-Китай. Осуществление этого проекта должно было быть увязано со сроками строительства газопровода, связывающего Синьцзян с восточными провинциями Китая [16]. Во второй половине 1990-х гг. товарооборот между Китаем и Казахстаном продолжал быстро возрастать, увеличившись за 1997-2000 гг. почти в три раза. Торговля КНР с другими центральноазиатскими государствами характеризовалась небольшими объемами и неровной динамикой. В 2000 г. в общем объеме товарооборота КНР со странами Центральной Азии, составлявшем 1,8 млрд долл., на Казахстан приходилось около 86%, тогда как на Киргизию и Узбекистан соответственно 10 и 3% [17]. Три четверти торговли Китая со странами Центральной Азии обеспечивал Синьцзян. Важнейшим направлением центральноазиатской политики КНР оставалось расширение транспортного сообщения с государствами региона, являвшееся продолжением масштабных проектов развития автомобильной и железнодорожной инфраструктуры Синьцзяна. В 1997 г. Китай, Киргизия и Узбекистан подписали меморандум о строительстве железной дороги Андижан-Ош-Кашгар, выходящей к Южно-Синьцзянской железной дороге. В 2000 г. началось строительство автомагистрали Ош-Кашгар [18. P. 206-208]. В 1999 г. соглашение об автомобильном сообщении было подписано с Таджикистаном. Китай обязался содействовать таджикской стороне в строительстве автодороги Куляб-перевал Кульма, которая открыла бы Таджикистану выход к Каракорумскому шоссе [4. P. 402-403]. Таким образом, к концу первого десятилетия независимости центральноазиатских стран присутствие Китая в регионе приобрело общерегиональный масштаб и охватило сферы безопасности, добычи и экспорта энергоресурсов, транспорта и торгово-экономического взаимодействия. Усилилось влияние Китая в Центральной Азии, прочно поддерживаемое его экономическими достижениями, военной силой и международным авторитетом. Обозначившимся преобразованием «Шанхайской пятерки» в международную организацию были созданы основа для системного участия Китая в поддержании региональной безопасности и стабильности и механизм координации политики Москвы и Пекина в Центральной Азии. На новый уровень вышло политическое и военно-политическое взаимодействие Китая с Казахстаном и Узбекистаном. Принятие Госсоветом КНР в начале 2000 г. плана «Большого освоения Запада», предполагавшего масштабные инвестиции в ускоренное развитие западных районов страны [19. C. 101-102], обещало беспрецедентные возможности расширения торговли Китая с центральноазиатскими государствами и умножения китайских инвестиций в регионе. Однако укрепление позиций КНР в регионе сталкивалось и с рядом проблем. Центральная Азия по-прежнему воспринималась руководством Китая как второстепенное направление внешней политики. Наполнение структур новорожденной Шанхайской организации сотрудничества реальным содержанием, реализация начинаний в сферах транспорта и энергетики требовали времени и немалых ресурсов. Тем не менее общим итогом политики КНР в регионе в 1990-е гг. стало формирование условий и механизмов совместного российско-китайского лидерства в Центральной Азии.
Ключевые слова
внешняя политика КНР,
Центральная Азия,
«Шанхайская пятерка»,
пограничное урегулирование,
китайско-казахстанские отношения,
российско-китайские отношенияАвторы
| Го Лиизюнь | Университет им. Сунь Ятсена | доктор филологических наук, доцент факультета русского языка | guolj5@mail.sysu.edu.cn |
| Троицкий Евгений Флорентьевич | Томский государственный университет | доктор исторических наук, профессор кафедры мировой политики факультета историческихи политических наук | eft@rambler.ru |
| Цзюй Чуанья | Университет им. Сунь Ятсена | кандидат филологических наук, постдокторант факультета русского языка | 450076784@qq.com |
Всего: 3
Ссылки
Zhang Yunling, Tang Shiping. China’s Regional Strategy // Power Shift: China and Asia’s New Dynamics. Berkeley, CA : University of California Press, 2005. P. 48-68.
Huasheng Zhao. Central Asia in China’s Diplomacy // Rumer E., Trenin D., Huasheng Zhao. Central Asia: Views from Washington, Moscow, and Beijing. Armonk, NY : M.E. Sharpe, 2007. P. 137-212.
Guangcheng Xing. China and Central Asia: Towards a New Relationship // Ethnic Challenges beyond Borders. Chinese and Russian Perspectives of the Central Asian Conundrum. New York : St. Martin’s Press, 1998. P. 32-49.
Kellner Th. L’Occident de la Chine. Pekin et la nouvelle Asie centrale (1991-2001). Paris : PUF, 2008.
Соглашение между Российской Федерацией, Республикой Казахстан, Киргизской Республикой, Республикой Таджикистан и Китайской Народной Республикой об укреплении доверия в военной области в районе границы. Шанхай, 26 апреля 1996 г. // Внешняя политика и безопасность современной России. 1991-2002. М. : МГИМО(У) МИД России, РАМИ, ИНО-Центр, 20о2. Т. 4: Документы. С. 476-484.
Воскресенский А.Д., Лузянин С.Г. Политика Китая в Центральной Азии // Южный фланг СНГ. Центральная Азия - Каспий - Кавказ: воз можности и вызовы для России. М. : МГИМО(У) МИД России, ИНО-Центр, Логос, 2003. С. 301-332.
Ong R. China’s Security Interests in Central Asia // Central Asian Survey. 2005. № 4. P. 425-439.
Коммерсант. 1994. 30 апр.
Qingjian Liu. Sino-Central Asian Trade and Economic Relations: Progress, Problems and Prospects // Ethnic Challenges beyond Borders. Chinese and Russian Perspectives of the Central Asian Conundrum. New York : St. Martin’s Press, 1998. P. 179-200.
Swanstrom N., Norling N., Zhang Li. China // The New Silk Roads: Transport and Trade in Greater Central Asia. Washington, DC : Central Asia -Caucasus Institute and Silk Road Studies Program, 2007. P. 383-422
Shambaugh D. Return to the Middle Kingdom? China an Asia in the Early Twenty-First Century // Power Shift: China and Asia’s New Dynamics. Berkeley, CA : University of California Press, 2005. P. 23-47.
Совместное заявление участников Алматинской встречи - Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. Алматы, 3 июля 1998 г. URL: https://www.conventions.ru/view_base.php?id=17061
Душанбинская декларация глав государств Республики Казахстан, Китайской Народной Республики, Кыргызской Республики, Российской Федерации и Республики Таджикистан. 5 июля 2000 г. URL: http://cbd.minjust.gov.kg/act/view/ru-ru/17530
Коммерсант. 2000. 31 авг.
Панорама (Алматы). 1997. 26 сент.
Joint Statement between the People's Republic of China and Turkmenistan, July 6, 2000 // Russia and Eurasia Documents Annual. 2000. Gulf Breeze, FL : Academic International Press, 2001. Vol. 2. P. 262-263.
International Monetary Fund. Direction of Trade Statistics Yearbook. Washington, DC : IMF, 2002.
Garver J. China’s Influence in Central and South Asia: Is It Increasing? // Power Shift: China and Asia’s New Dynamics. Berkeley, CA : University of California Press, 2005. P. 205-228.
Савкович Е.В. Экономическая политика Китая в постсоветской Центральной Азии (1992-2012 гг.) Томск : Изд-во Том. ун-та, 2012.
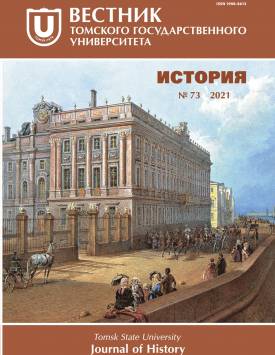

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью