Рассматривается научно-техническое сотрудничество России и Китая на региональном уровне. Это одна из наименее разработанных тем для исследователей как в России, так и в Китае. В ряде случаев стороны ограничивались подписанием меморандумов, а реальное взаимодействие происходило на уровень ниже, где в большинстве случаев и останавливалось. Китаю в период 1990-2020 гг. были нужны импортные технологии. С Россией было налажено взаимодействие на всех уровнях, вплоть до личного, когда конкретного автора приглашали для работы в КНР, не считаясь международными режимами научного сотрудничества.
The theory of international regimes in the study of regional scientific and technical cooperation between the Russian Fe.pdf Глобальная конкуренция за рынки сбыта становится все более жесткой и форсированной. В то же время ресурсы экстенсивного развития у большинства развитых государств исчерпаны [1]. В этих условиях крайне актуальной становится проблема интенсификации инновационного развития как ключевого фактора сохранения и повышения конкурентноспособности государства, причем актуален он как для Российской Федерации, так и для ближайшего партнера - Китайской Народной Республики. Приоритетными задачами для обоих государств остаются модернизация всех основных общественных институтов и повсеместное внедрение высоких технологий в производство [2]. Решение этих двух задач является единственно возможным способом реализации актуального инновационного развития государства. Несомненно, это решение не представляется возможным без международного взаимодействия в сфере науки и технологий. Актуальность данного исследования определяется тем, что Россия и Китай решают одинаковые задачи в сфере технологий, взаимодействуя при этом друг с другом настолько тесно, что их кооперация распространяется от межправительственного уровня глубоко внутрь государственного устройства - в регионы, отдельные организации и даже на отдельных ученых, создавая при этом проблему общегосударственного контроля над этим взаимодействием [3]. При этом следует учитывать, что при решении указанных выше задач путем двустороннего взаимодействия государства преследуют совершенно разные цели и применяют диаметрально противоположные методы, что не всегда приводит к позитивным последствиям для обеих сторон. За последние 20 лет наука и техника в Китае получили интенсивное развитие. На конец 2002 г. во всей стране 3,2 млн человек занимались исследовательской работой, в том числе 2,2 млн ученых и инженеров. В 2002 г. в Китае вложенные денежные средства для научно-технической деятельности составили 293,8 млрд юаней, среди них средства на исследования и освоения - 128,8 млрд юаней, а в 1949 г. эта цифра была только 56 млн юаней [4]. С 1978 г. китайское правительство стало сильно увеличивать капиталовложения в науку и технику, в этом году бюджетные ассигнования на развитие науки и техники составили 5,29 млрд юаней, в 1995 г. - 30,23 млрд юаней, а в 2002 г. уже достигли 81,6 млрд юаней. Китайские предприятия тоже увеличивали научно-технические капиталовложения. В 1991 г. вложенные предприятиями средства для науки в целом составляли 12,2 млрд юаней, а в 2000 г. резко увеличились до 167,7 млрд юаней, т.е. в 12 раз больше, чем в 1991 г. К февралю 2018 г. Китай установил сотрудничество в научно-технической сфере со 158 государствами, а также достиг определенного прорыва в рамках научного обмена с внутренними специальными районами Сянганом и Аомынем [5]. Вышеописанное явилось результатом активной политики КНР в сфере науки, которая началась во время председательства Цзян Цземина и была форсирована с приходом на должность генерального секретаря КПК Си Цзинпина. Цель этой политики - вывести Китай в мировые лидеры научно-технического прогресса, создать конкурентноспособную научную среду, широкий внутренний рынок технологических достижений, сделать все сферы общества высокотехнологичными, чтобы обеспечить все более растущие потребности каждого общественного института [6]. Для достижения этой цели правительство КНР предприняло ряд масштабных мер: университеты Китая стали массово создавать программы по обмену студентами с ведущими университетами Европы и США, представители научного сообщества КНР начали получать членство в различных международных организациях и многосторонних механизмах в научнотехнической области (к 2018 г. количество этих организаций уже превысило 200), инвестиции в научные проекты были увеличены в несколько десятков раз. Когда председателем Си была объявлена реализация программы «Один пояс - один путь», вопросам научно-технического сотрудничества уделялось очень большое внимание на каждом проводимом форуме, равно как и на саммитах G20 и БРИКС [7]. Теория международных режимов 93 В результате указанных мер к концу второго десятилетия XXI в. практически каждая сфера науки и техники получила в Китае колоссальный импульс развития. Переняв опыт западных стран, Китай сделал все научное и техническое производство жестко централизованным - по всей стране один за другим начали расти научные парки, технические кластеры с самыми разными направлениями исследований и производств. Объединялись подобные зоны на основе уже имеющейся инфраструктуры в регионе или населенном пункте. Например, крупнейшие авиакластеры появились в городах, в которых по разным историческим причинам имелось набольшее количество аэродромов разного назначения, таких как Тяньцзин и Чэнду [4]. Множились филиалы главной научно-производственной площадки КНР - бизнес-парки TusPark научного парка университета Цинхуа, которые стали флагманами привлечения иностранных инвестиций в перспективные и наиболее востребованные научные проекты, а также задавали векторы инвестирования Китаем в научные проекты в других странах, в первую очередь там, где наука не получает достаточного финансирования из государственных бюджетов [6]. Российские, европейские, американские и китайские исследователи за прошедшее десятилетие издали огромное количество научных работ разного уровня, в которых проводили анализ стратегического технологического сотрудничества и конкуренции РФ и Китая. Российские исследования, в которых затрагивались вопросы технологического сотрудничества РФ и КНР, представлены работами таких ученых, как С.Н. Гончаров, A. Шлындов, Э.В. Кириченко, А.Л. Верченко, В.Б. Кашин, В.И. Сырямкин, Е.В. Ваганова, В.В. Пер-ская, В.Е. Петровский. Авторство обращающих на себя внимание в аспекте данной темы работ исследователей из КНР представлено следующими именами: Янь Бо, Цуй Чжэн, Чэн Гуаньсинь, Ши Чуньян, Ван Цзин, Гао Цзисян и др. Однако, несмотря на достаточно глубокую разработанность исследуемой тематики, научная оценка всегда давалась исключительно наивысшим уровням взаимодействия - межгосударственному и межотраслевому, на которых результаты двустороннего сотрудничества можно, скорее, характеризовать как положительные. Более же глубокие аспекты проблемы, а именно региональный и межведомственный уровни взаимодействия, научной оценки в ранее проведенных исследованиях не получили. То есть комплексного исследования, в качестве центрального объекта которого выступало бы российско-китайское технологическое сотрудничество на уровне департаментов науки регионов РФ и Китая, университетов, НИИ, научно-производственных площадок, промышленных предприятий и пр., на данный момент не проводилось. В то же время именно на этих уровнях происходят процессы, которые в наименьшей степени контролируются со стороны органов власти. В некоторых случаях исследования сосредоточены на региональном опыте сотрудничества России и КНР, однако задачами таких исследований являются в первую очередь анализ изменения количественных характеристик двусторонней научно-экономической деятельности на уровне регионов. При этом, констатируя количественное увеличение показателей такой деятельности, ни одно из исследований не делает акцента на отсутствии фактического качественного роста региональной науки за счет сотрудничества с китайской стороной и никак не объясняет сложившийся в данных отношениях исторический парадокс. Китайские публикации вообще обходят стороной все проблемные для России вопросы регионального научно-технического сотрудничества с КНР, а выводы их работ сосредоточены на необходимости всестороннего углубления научной интеграции КНР именно с отдельными регионами России [8]. Исторически сложилось, что российское (советское) государство в силу географического и политического соседства сыграло ключевую роль в технологическом становлении нового коммунистического Китая. Особенность советско-китайского технологического сотрудничества 1950-1960-х гг. заключается в том, что реализовывалось оно только на государственном уровне, исключая региональный, отраслевой, а также проходило практически в одностороннем порядке [9]. За все время советско-китайского сотрудничества было подписано всего пять крупных соглашений: об обучении граждан КНР в вузах СССР, о помощи в развитии исследований по ядерной физике, о технической помощи и научно-техническом сотрудничестве, о строительстве и реконструкции промышленных объектов в Китае о сотрудничестве в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях [10]. Из названий данных документов видно, что фактически советская сторона безвозмездно создавала ту технологическую базу современного китайского государства, которая сегодня способствует вхождению КНР в число наиболее технологически развитых государств. Причем эта база касается не только технологий гражданского назначения, но и военных технологий стратегического уровня, в частности атомного оружия [5]. С окончанием существования Советского Союза трансформируется и формат технологического сотрудничества Китая уже с Российской Федерацией. Несмотря на сохранение приоритета в этой сфере за Правительством РФ, Академией наук и государственными корпорациями, оно за несколько лет расширилось от межгосударственного уровня до межотраслевых и межрегиональных контактов. По сравнению с советским периодом в разы выросло количество двусторонних соглашений и контрактов в самых различных сферах. В последние годы российско-китайское сотрудничество в сфере науки и технологий стало крайне разносторонним и многоплановым [11]. За прошедшие 30 лет с момента образования Российской Федерации две страны реализовывали инвестиционные проекты в сферах инноваций, высоких технологий, промышленного производства и др., проводили российско-китайские перекрестные годы и постоянный академический обмен специалистами [5]. Глобальным стимулирующим фактором научно -технологического сотрудничества России и Китая является не общая, но одинаковая конфронтация с санк- А.Н. Зарубин, Е.В. Савкович 94 циями западных стран и с так называемыми «торговыми войнами». Данный исторический период наличия «общего врага» или как минимум его образа в политической и экономической сферах служит в первую очередь сосредоточению совместных усилий по развитию всестороннего сотрудничества в сфере науки и технологий, а также, что более важно, обеспечению технологического суверенитета двух государств. В частности, КНР, опираясь на российский опыт противодействия санкционному давлению, нивелировала целую серию скоординированных попыток администрации Дональда Трампа посредством ограничений в сфере торговли сорвать китайскую стратегию развития промышленности Made in China 2025 (MIC2025) [12]. Цель данной стратегии заключается в приоритетном развитии производств с высокой добавочной стоимостью в сферах высоких технологий: производстве комплектующих авиационных и космических аппаратов, энергетической сфере, обрабатывающей промышленности, коммуникационных технологиях, сфере искусственного интеллекта, а также систем управления тяжелой техникой, - с последующим выходом на внутренний рынок в соотношении до 40% от всех производимых товаров в КНР к 2020 г. и до 70% к 2025 г. Проблемы, стоящие перед Российской Федерацией на современном историческом этапе, схожи, и после торговой войны Китая и США российская экономика уже может опираться и на китайский опыт, а также расширять перспективы взаимодополняющего развития инвестиционно-технологических отношений с Китаем. Актуальным вновь становится вопрос «модернизаци-онных альянсов», реализация которых будет стимулировать ускоренное развитие научно ориентированных отраслей промышленности и экономики, связанных с новыми технологиями. При этом уникальность данного процесса будет заключаться в том, что проходить он будет в обход санкций западных стран, в первую очередь США, в прямой или косвенной конфронтации с которыми настоящее время находятся все общественные институты двух государств. Однако с теоретической точки зрения при реализации данного процесса возникает проблема взаимоисключения открытости двустороннего сотрудничества в сфере науки и технологий, с одной стороны, и стремления защитить права на интеллектуальную собственность, а также ограничить доступ к технологиям, которые в будущем могут дать стратегическое преимущество, - с другой. Такая двойственность подхода к историческому сближению двух государств рождает определенную историческую дихотомию, которая является теоретическим обоснованием постановки проблемы баланса и границ в первоначально свободном и открытом технологическом сотрудничестве. Для решения данной проблемы перспектив и будущего двустороннего научного взаимодействия применима теория международных режимов, которая не так давно получила свое распространение в среде политических исследований [13]. В качестве основной характеристики понятия «международный режим» главный научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН В.Е. Петровский приводит совокупность четко выраженных либо предполагаемых законов, принципов, норм и правил, служащих реализации единой для участников режима парадигмы в той или иной области двустороннего (многостороннего) взаимодействия государств друг с другом [Там же]. Установление подобных условных режимов ведет не только к централизованной работе в русле единых решений, но и к появлению своего рода духа взаимодоверия, в котором стороны реализуют свои собственные цели по защите и продвижению национальных интересов, в то же время учитывая цели и интересы сопредельного по режиму государства. Сотрудничество государств друг с другом в рамках международного режима подразумевает достаточно строгие стандарты взаимодействия, обеспечивающие участникам возможность дать объективную и точную оценку действий и будущих намерений государства-партнера. Активный исследователь теории международных режимов доцент Волгоградского государственного университета А.А. Шанин в качестве одного из показателей негласного установления подобных режимов выделяет проведение дискуссионных клубов, которые стимулируют равный обмен информацией, тем самым поддерживая предсказуемость взаимных действий, а следовательно, и доверие друг к другу [14]. Основным показателем актуальности и жизнеспособности международного режима является тесная взаимозависимость принципов, законов, стандартов и норм в той сфере, в которой взаимодействуют государства-участники. В частности, взаимная зависимость указывает на то, являются ли изменения правил функционирования режима его фактической отменой или же только внутренней перестройкой. Объединяющей чертой правил, норм, порядка реализации принятых решений является их рекомендательный характер для участников режима. Эти правила не подразумевают обязательного исполнения по принципу иерархической системы права [Там же]. В современном мире наблюдается явный перевес так называемых «негативных» международных режимов, основными принципами которых являются рестригтив-ность, санкционность и различного рода взаимные ограничения. Однако несмотря на это, все большую актуальность именно в последние несколько лет приобретают «позитивные» международные режимы, чья внутренняя модель имеет базисом именно взаимоприемлемые и взаимовыгодные информационные, научные и технологические обмены, обеспечивающие двустороннее сотрудничество на прочной основе [Там же]. В рамки такого рода режима в силу влияния внешних негативных режимов вошли современные двусторонние отношения России и Китая последних пяти лет. Они стали характеризоваться политическим доверием крайне высокого уровня. И, соответственно, политические элиты обеих стран планировали преобразование этого политического доверия во взаимодоверительное сотрудничество в сфере технологий и инноваций. С точки зрения форм и алгоритмов этого сотрудничества каждая сторона преследовала свои цели его реализации. Российская сторона болезненно нуждалась в источниках финансирования своих научных и высо- Теория международных режимов 95 котехнологичных проектов, которые в большом количестве находились в нереализованном либо замороженном состоянии в различных научно-исследовательских организациях, университетах и на производственных площадках. В то же время в КНР существовал политикоэкономический запрос на получение технологий, которые станут базисом конкурентного преимущества, а в перспективе - превосходства над технологиями западных стран в таких ключевых областях, как военно-техническое оснащение, атомная энергетика, космос, авиастроительство, двигателестроение, логистика. Этот запрос потенциально мог быть удовлетворен за счет тесного двустороннего сотрудничества с Россией [15]. Какой же результат имеют обе стороны от этого потенциально крайне перспективного симбиоза? Как уже было сказано выше, в двусторонних отношениях он реализуется не только на правительственном уровне, но и на нескольких уровнях ниже, включая сотрудничество между отдельными организациями. Проанализируем каждый из этих уровней. Вначале рассмотрим наиболее успешные с точки зрения результатов уровни взаимодействия - межправительственный и межотраслевой. Здесь в первую очередь можно отметить соглашение между Российской Академией наук и Академией наук Китая об организации непосредственного научно-технического сотрудничества между их научными учреждениями, а также соглашение между Министерством образования и науки РФ и Министерством образования КНР, заключенные еще в начале 90-х гг. XX в. [16]. Данное взаимодействие фактически реализуется на региональном и межотраслевом уровнях, которые будут рассмотрены ниже. Помимо подразделений, непосредственно подчиненных правительствам двух стран, существует немалое количество государственных компаний или компаний с государственным участием (преимущественно в случае с КНР), которые каждая в своей сфере реализуют глобальные проекты, носящие стратегический характер. Среди российских государственных компаний, особо активно осуществляющих технологические проекты с КНР, Российская корпорация нанотехнологий РОСНАНО [17], ОАО «Техснабэкспорт», Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос», Государственная корпорация по содействию разработке, производству высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (включая ОАО «Рособоронэкспорт) [18]. Взаимное сотрудничество в сфере науки и технологий на межгосударственном уровне реализуется в установленные сроки, с получением всех ожидаемых результатов, широко освещается в государственных СМИ [Там же], демонстрирует пример показательного, беспроблемного взаимодействия, полностью укладывающегося в рамки российско-китайского международного режима. Многие из этих проектов находятся на контроле у глав двух государств, и ими же презентуются на международных саммитах, форумах, дискуссионных клубах [19]. При появлении внезапно возникающих проблемных вопросов подключаются все необходимые правительственные ресурсы, поскольку данный уровень взаимодействия подразумевает сохранение и поддержание как внутренней репутации государственных институтов и организаций, так и внешней репутации всего государства на международной арене [Там же]. Данный факт налагает на всех вовлеченных в это взаимодействие лиц определенную ответственность, которая в совокупности является сильным стимулирующим фактором, не позволяющим каждому отдельному кейсу войти в положение несоответствия законам функционирования международного режима. В качестве дополнения к механизму межправительственного научно-технического сотрудничества широкое развитие получило также межрегиональное сотрудничество. На региональном уровне российскокитайская кооперация в сфере науки и технологий представлена тесным сотрудничеством различных научно-образовательных и научно-производственных учреждений РФ с китайскими компаниями, научными организациями и руководствами провинций. Учитывая, что в последние 20 лет в Российской Федерации наблюдается сильное укрепление федеральной власти, необходимо принять во внимание тот факт, что даже при наличии всей полноты исполнительной власти в регионах, они все же, как правило, проводят свою политику в русле общегосударственной. Логично предположить, что результатом являются определенные общие требования «поведения» для всех организаций и учреждений, финансируемых из государственного и регионального бюджетов, в особенности для тех, кто взаимодействует с организациями дальнего зарубежья. Это приводит к выводу о том, что и на региональном уровне, и на уровне отдельных организаций международный режим, в рамках которого проходит научное и технологическое сотрудничество между Россией и Китаем, должен соблюдаться, поскольку его принципиальное нарушение даже единичной организацией создает прецедент, ставящий под угрозу существование данного международного режима как такового. В качестве примера регионального сотрудничества с Китаем рассмотрим регион, который, во-первых, ориентирован на научное и инновационное развитие, а во-вторых, имеет уже почти 25-летнюю историю сотрудничества в сфере науки и техники с Китайской Народной Республикой, - Томскую область. Очевидно, что центральным субъектом сотрудничества является региональный центр - город Томск. В городе расположены 6 крупных университетов, 2 из которых (включая старейший университет в Сибири) получили статус Национальных исследовательских, Томский научный центр Сибирского отделения Российской академии наук (ТНЦ СО РАН), особая экономическая зона технико-внедренческого типа, большое количество научно-исследовательских институтов и т.д. [20] Поскольку Томск географически является одним из ближайших наукоградов к Китаю, компании, связанные с технологиями, уже в конце 1990-х гг. начали проявлять к региону интерес. Сотрудники Томского политехнического университета, Института физики прочности и материаловедения, Томского государственного университета ежегодно представляют свои А.Н. Зарубин, Е.В. Савкович 96 проекты научных и технологических разработок для делегаций организаций из Китая, заинтересованных в научном инвестировании. В то же время работа томских ученых в Китае на временной (по обмену) или постоянной основе на протяжении последних двух десятилетий является устоявшейся практикой. Исторически сложилось, что наиболее тесные отношения у научных и производственных организаций Томска сложились с административным центром провинции Ляонин - городом Шэньян [21]. Шэньян - административный центр провинции Ляонин, крупный производственный узел, где развито многоотраслевое машиностроение, чёрная и цветная металлургия, химическая, лёгкая и пищевая промышленности, имеется 113 научно-технологических центров, отделение Китайской академии наук, ежегодно проходят международные научно-технические выставки [20]. Шэньян является одним из передовых центров разработок новых технологий, научных изысканий и привлечения инвестиций в научную сферу, в Шэньяне действует один из крупнейших бизнес -парков TusPark. Этот город лучше других развил научное сотрудничество с регионами Сибири, в 1992 г. Шэньян и Иркутск стали городами-побратимами, во многом за счіг реализации совместных проектов в области науки и техники [22]. В Новосибирске действуют две совместные лаборатории, ведутся постоянные обмены аспирантами и учеными, именно с Шэньянским отделением Китайской академии наук работают делегации Сибирского, Уральского и Дальневосточного отделения РАН. Томские контакты с Шэньяном как партнером по сотрудничеству в научной сфере были одними из первых в регионе. С определенной периодичностью российские ученые ТНЦ СО РАН, университетов и некоторых НИИ уезжают из Томска в Шэньян по линии научного обмена, некоторые из них получают выгодные условия для постоянной работы и остаются в Китае. Еще чаще осуществляется обмен научными делегациями между двумя городами в целях переговоров по научно-техническому сотрудничеству, участия в совместных научных выставках и т.д. [23] Очевидно, что за 20 лет такого тесного сотрудничества в качестве результата можно было бы увидеть ряд совместно реализованных научных проектов. Однако ни одного совместного проекта в сфере науки и технологий официально реализовано не было ни с одной научной организацией Томска. Несмотря на то, что на презентациях проектов, которыми занимались томские ученые, были много раз представлены научные разработки в тех областях, в которых были крайне заинтересованы инвесторы из КНР [24], дальше стадии переговоров процесс сотрудничества не пошел, и ни один проект не получил финансирования с китайской стороны. Помимо вышеописанного парадокса, в 2020 г. произошло событие, которое ставит под сомнение изначальные намерения китайской стороны развивать открытое и взаимовыгодное сотрудничество в сфере науки и технологий. 30 сентября по подозрению в государственной измене, а именно - за передачу китайской стороне сведений, составляющих государственную тайну (о разработках, связанных с альтернативными источниками питания), был арестован сотрудник Института физики прочности и материаловедения СО РАН А.А. Луканин [25]. Данное событие стало вторым делом о государственной измене в пользу КНР за четыре месяца после ареста и предъявления таких же обвинений президенту Арктической академии наук В.Б. Митько [26]. Согласно биографической информации А.А. Луканин был приглашен на работу именно в политехнический университет Шэньяна [25]. Суммируя факты отсутствия реализованных на официальном уровне научно-технических проектов между Томском и Шэньяном при непрекращающихся более 20 лет тесных контактах в этой сфере, а также потенциальный прецедент государственной измены в пользу КНР со стороны томского ученого через университет Шэньяна, можно предположить, что цели поддержания китайской стороной научных контактов заключаются не в поиске путей установления сотрудничества в сфере науки, но в поиске альтернативных путей получения засекреченных технологий. При этом взаимные обмены делегациями и участие в научных выставках являются не чем иным, как предлогом продолжения контактов. Это предположение подтверждается и тем, что многие члены делегаций, приезжающих в регион из Шэньяна, состоят в дружеских отношениях с некоторыми учеными, ранее работавшими в Китае [27], а предоставление томским ученым информации о работе в Шэньяне и первоначальные личные переговоры вне официального протокола могли происходить только в период работы в рамках приемов научных делегаций или же участия в научных выставках. При анализе возможных последствий подобных действий, а именно предложений работы в Китае ученым - инициаторам научных проектов вместо инвестирования в эти проекты на территории РФ, очевидна односторонняя выгода китайской стороны. Ее представители получают перспективные российские технологии, при этом экономят большое количество финансовых ресурсов. По этой причине - наличия мотивационной составляющей - предположения о подобных намерениях китайской стороны получают сильную аргументационную базу. А, это в свою очередь, указывает на то, что нельзя отрицать их, основываясь только на принципах добрососедства и взаимной выгоды, характерных для двустороннего международного режима. В пользу таких предположений говорит факт большого количества рабочих соглашений, заключенных между бывшими научными работниками из России и научно-техническими компаниями в Китае [28]. Несмотря на то, что данные кейсы отличаются от прецедента А.А. Луканина отсутствием в рабочем процессе сведений, составляющих государственную тайну РФ, они напрямую связаны с потенциально инновационными технологиями двойного назначения. В некоторых случаях для заключения такого соглашения ученый регистрирует общество с ограниченной ответственностью, которое в последующем выступает в качестве стороны-исполнителя контракта, а именно осуществ- Теория международных режимов 97 ляет производство перспективных российских технологий на территории КНР. При этом ученый фактически сам выполняет все технологические работы для китайской стороны, равно как и осуществляет продажу своей интеллектуальной собственности, поскольку требования представителей КНР в большинстве случаев включают в себя передачу им технологий производства. В качестве примеров таких соглашений можно привести следующие: 1. Соглашение 2019 г. между компанией Sun Hawk (Henan) Aviation Industry Co., Ltd. и ООО «Центр Инновационных Технологий “Туполев”» о производстве и реализации на территории КНР беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового типа, сконструированных по технологии В.С. Туполева, применяемых для решения сельскохозяйственных, картографических и военных целей. Китайской стороне предоставлялось исключительное право контролировать процесс производства и сбыта БПЛА. 2. Сублицензионный договор 2016 г. о предоставлении права использования секрета производства (ноу-хау) между ООО «ЯмалАэроТранс» и компанией CCAC-AVIC о передаче китайской стороне технологий производства аэросаней-амфибии, сконструированных по технологии В.С. Туполева, а также исключительного права использования ноу-хау для производства и сбыта на территории КНР указанного изделия. Аэросани-амфибия - летательный аппарат нового типа, предназначенный для перевозки людей и грузов по снегу, льду, водным поверхностям. 3. Договор 2013 г. между Туполевым Валерием Станиславовичем и отделением Китайской Государственной Авиационной Корпорации (AVIC) в г. Хэйхэ об оказании технологических услуг по производству на территории КНР вездеходов на колесах сверхнизкого давления. 4. Контракт 2015 г. между Компанией Аварийноспасательных технологий Чжонмин и ООО «Авиационно-технической компанией “Туполев”» о производстве и реализации на территории КНР малых гидросамолетов-амфибий, кораблей на подводных крыльях, экранопланов, произведенных по технологии В.С. Туполева. 5. Контракт 2019 г. между Компанией Аварийноспасательных технологий Фушунь-фуюнь и Туполевым Валерием Станиславовичем о производстве и реализации на территории КНР аэролодки на воздушной подушке КВ-300, произведенной по технологии В.С. Туполева. 6. Контракт 2018 г. между Авиационной компанией Sun Hawk и Туполевым Валерием Станиславовичем о производстве и реализации на территории КНР автожиров транспортного, спасательного и разведывательного назначения, произведенных по технологии В.С. Туполева. 7. Трехстороннее соглашение 2020 г. между ООО «Центр Инновационных Технологий “Туполев”» ПАО «Научно-производственное предприятие «Аэросила» и отделением Китайской Государственной Авиационной Корпорации (AVIC) в провинции Сычуань об организации производства на базе авиакластера города Чэнду усовершенствованных вспомогательных силовых установок для крупных самолетов. Из указанных выше примеров видно, что научнотехническое сотрудничество между РФ и КНР ведется не только на региональном уровне или уровне научных организаций, но и на индивидуальном уровне самими учеными, перспективные научные разработки которых на протяжении как минимум 10 лет реализуются в Китае. Уровень личностного сотрудничества в сфере высоких технологий является уникальным для КНР именно в контексте двусторонних отношений с Россией, поскольку подобных примеров в научно -техническом сотрудничестве с другими государствами у КНР не имеется [29]. Оценивая выгодополучение данного уровня сотрудничества для российской и китайской сторон, очевидно, что все непосредственные его участники являются выгодоприобретателями. Однако в контексте межгосударственного уровня двусторонних отношений в сфере науки и технологий единственным бенефициаром является КНР, в то время как российской науке и российской экономике, как федеральной, так и региональной, наносится ощутимый урон. Помимо этого, в отдельных случаях определенный ущерб наносится и безопасности государства, поскольку отсутствие государственного контроля за оборотом перспективных технологий на уровне отдельных индивидов приводит к прецедентам попыток передачи китайской стороне научных разработок, сведения о которых являются государственной тайной РФ. Исходя из данной оценки, можно сделать вывод о том, что личностный уровень двустороннего сотрудничества в сфере технологий является, скорее, негативным фактором для межгосударственного взаимодействия. Также, как видно из приведенных примеров взаимодействия двух сторон, на этом уровне происходит деградация принципов и норм двустороннего международного режима. В перспективе развития отношений на этом уровне дальнейшее существование режима в целом может быть поставлено под угрозу. История российско-китайских отношений уже проходила через крах сложившегося двустороннего международного режима в последнем десятилетии правления Мао Цзэдуна. Последствия этого краха характеризовались охлаждением отношений, территориальными претензиями КНР к СССР и в конечном итоге - вооруженным конфликтом на границе двух государств, в котором потери советской стороны насчитывали несколько тысяч человек. Примечательно, что сам международный режим в сфере научно-технического сотрудничества, продлившийся с 1949 г. до середины 1960-х гг., как уже отмечалось ранее, был основан на одностороннем получении выгоды китайской стороной, что схоже с исторической ситуацией, сложившейся во втором десятилетии XXI в. Принципиальное отличие заключается в том, что в рамках международного режима 50-60-х гг. XX в. этот дисбаланс происходил по инициативе советской стороны на межгосударственном уровне с целью удержания сильного государства в статусе союзника по советскому блоку. В нынешнее же время двусторонний международный А.Н. Зарубин, Е.В. Савкович 98 режим предполагает взаимное выгодоприобретение путем обмена имеющимися ресурсами, а именно технологиями с российской стороны, инвестициями -с китайской. Наличие в рамках режима научно-технического сотрудничества теневого коммерческого сектора, пусть и на самом низком уровне взаимодействия, неизбежно приводит к нарушению основных правил и норм режима - взаимной открытости и взаимного доверия. Крах режима может создать цепную реакцию и привести к ухудшению двусторонних отношений между государствами в целом, что, как показывает история, способно спровоцировать негативные последствия для обоих государств. При этом подавляющее большинство китайских исследователей игнорируют данный растущий дисбаланс в двусторонних отношениях и всецело нацелены на научное обоснование дальнейшего форсирования активной научно-технической интеграции КНР не только на межгосударственном, но и на межрегиональном уровне [30]. По совокупности описанных выше фактов можно сделать вывод, что в противоположность официальным политическим заявлениям, которые китайская сторона делает в большом количестве на различных площадках, фактически ее заинтересованность во взаимовыгодном развитии науки и создании инновационных технологий нивелируется ее собственными интересами как в сфере экономики, так и в сфере безопасности. Тем не менее потенциал сотрудничества в сфере технологий между Россией и Китаем все еще очень велик. Российские фундаментальные научные исследования создают прочную основу для инновационного развития в самых различных сферах [Там же]. Китайский обширный рынок и огромные возможности по трансферу научных достижений вкупе с многолетним опытом создания особых зон по промышленному освоению высоких технологий являются прочным фундаментом, на котором Россия и Китай могут продолжать объединение своих преимуществ для укрепления научно-технического сотрудничества и существующего двустороннего режима в целом [8]. Однако реализация этого потенциала возможна только при том условии, что все уровни технологического сотрудничества между Россией и Китаем, от межгосударственного до межличностного, будут находиться под постоянным и стабильным контролем со стороны государственных институтов. Учитывая влияние высоких технологий и на ситуацию в экономике государства, и на его инновационное развитие, и на степень государственной безопасности, очевидной становится большая степень влияния рассматриваемой сферы на двусторонние отношения двух государ
Горский М. Модели инновационного развития: SSI и DDI. 2013. 17.12. URL: https://polit.ru/article/2013/12/17/ps_innov_1/(дата обращения: 09.11.2020).
Цуй Чжэн. Механизмы и модели российско-китайского научно-технического сотрудничества // Материалы XVI междунар. конф. молодых ученых гуманитарных факультетов МГУ им. М.В. Ломоносова. М., 2014. С. 5-13.
Цуй Чжэн. Соразвитие и научно-техническое сотрудничество Дальнего Востока России и Северо-Восточного региона Китая // Гуманитар ные, социально-экономические и общественные науки. 2013. № 4. С. 319-322.
Научно-технический прогресс в Китае // Посольство КНР в Республике Беларусь. URL: http://by.china-embassy.org/rus/zgxx/kj/t221080.htm (дата обращения: 10.11.2020).
Цуй Чжэн. Российско-китайское и советско-китайское научно-техническое сотрудничество: становление и развитие // Научное обозрение. Сер. 2. Гуманитарные науки. 2013.№ 5. С. 16-22.
Леонов С.Н., Домнич Е.Л. Государственная инновационная политика пореформенного Китая: содержание, периодизация, масштабы. URL: http://www.khstu.ru/vestnik/articles/407.pdf (дата обращения: 10.11.2020).
Цуй Чжэн. Научно-техническое сотрудничество РФ и КНР в контексте инновационного развития стран БРИКС : автореф. дис.. канд. полит. наук. М., 2015. 32 с.
Чэн Гуаньсинь. Предложения для содействия китайско-российскому научно-техническому сотрудничеству в новый период // Научно техническая информатика. 2010. № 23. С. 5.
От дружественного союза Китая и СССР до китайско-российского партнерства стратегического взаимодействия. URL: http://russian.china.org.cn/international/archive/china-russian/txt/2009-04/08/content_17571995.htm (дата обращения: 12.11.2020).
Установление дипломатических отношений между КНР и СССР. URL: http://russian.people.com.cn/31857/97676/97802/6740909.html (дата обращения: 12.11.2020).
Россия и Китай расширяют сотрудничество по всем направлениям. URL: http://annews.ru/news/detail.php?ID=48364 (дата обращения: 24.11.2020).
Перская В.В. «Сделано в Китае 2025»: китайский опыт обеспечения задач национального развития // Азия и Африка сегодня. 2020. № 7. С. 19 - 25.
Петровский В.Е. Российско-китайское сотрудничество в сфере науки, техники и инноваций: международный контекст, теория, алгоритмы и институты : тез. докл. на заседании Координационного совета по изучению инновационного развития Китая и российско-китайского сотрудничества Отделения глобальных проблем и международных отношений РАН. 2020. URL: https://www.imemo.ru/files/File/ru/events/2020/04032020/Tez_Petrovsky.pdf (дата обращения: 12.11.2020).
Шанин А.А. Международный политический режим как элемент современной «Планетарной политической системы» // Актуальные проблемы российского права. 2008. № 4. С. 408-411.
Ши Чуньян. Исследования и предложения по укреплению российско-китайского научно-технического сотрудничества в новый путинский период // Внешняя экономика и торговля. 2010. № 10. С. 44-45.
Действующие международные соглашения о научно-техническом сотрудничестве. URL: http://mon.gov.ru/files/materials/6668/msnts.pd (дата обращения: 15.11.2020).
Россия займется развитием нанотехнологий совместно с Китаем. URL: http://science.compulenta.ru/377763/ (дата обращения: 17.11.2020).
Россия и Китай расширяют сотрудничество по всем направлениям. URL: http://annews.ru/news/detail.php?ID=48364 (дата обращения: 17.11.2020).
Совместное Российско-Китайское заявление об итогах встречи на высшем уровне в Москве. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/58 (дата обращения: 17.11.2020).
Путеводитель для инвестора по Томской области. 2017. URL: http://news.kremlin.ru/ref_notes/58 (дата обращения: 22.11.2020).
Сырямкин В.И., Янь Бо, Ваганова Е.В. Опыт регионального сотрудничества с Китаем на примере взаимодействия ассоциации сибирских и дальневосточных городов и северо-восточных провинций Китая // Проблемы учета и финансов. 2011. № 3. С. 49-58.
Иркутская область - провинция Ляонин. Побратимские связи дают Иркутской области огромные преимущества и шанс участвовать в реконструкции промышленности Северо-Востока Китая. URL: http://www.pribaikal.ru/oblents/article/3336.html (дата обращения: 22.11.2020).
Зона внедрения. Томская наука прочно прописалась в северо-восточном Китае. URL: http://www.tomskinest.ru/bulletin.php?command=details&mapD=950&item D=250 (дата обращения: 22.11.2020).
Протоколы совместных переговоров руководства бизнес-парка TusPark научного парка университета Цинхуа (филиал города Шэньян) с руководителями и научными сотрудниками Института оптики атмосферы Томского научного центра Сибирского отделения Российской Академии Наук. Томск, 2018. 2 с.
Источник: суд Томска арестовал ученого Луканина по делу о госизмене в пользу Китая // ТАСС. 2020. 3 окт. URL: https://tass.ru/proisshestviya/9618095 (дата обращения: 25.11.2020).
Президента Арктической академии наук обвинили в госизмене в пользу Китая // Интерфакс. 2020. 15 июня. URL: https://www.interfax.ru/russia/713117 (дата обращения: 25.11.2020).
Интервью с главой делегации бизнес-парка TusPark научного парка университета Цинхуа (филиал города Шэньян), Мао Шоу, 05.06.2018 // Личный архив автора.
Соглашение между компанией Sun Hawk (Henan) Aviation Industry Co., Ltd. и ООО «Центр Инновационных Технологий “Туполев”» о производстве и реализации на территории КНР беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) нового типа, сконструированных по технологии Туполева В.С., применяемых для решения сельскохозяйственных, картографических и военных задач. Рязань, 2019. 3 с.
Цуй Чжэн. Российско-китайское научно-техническое сотрудничество и проблемы интеллектуальной собственности // Инновации и инвестиции. 2013. № 7. С. 165-169.
Вань Цзин. Краткий анализ о взаимообусловленных факторах китайско-российского научно-технического сотрудничества // Этнографический вестник Хэйлунцзян. 2001. № 2. С. 115.
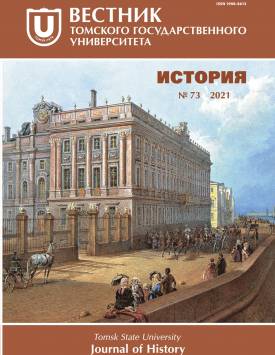

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью