Представлен профиль современной рефлексии о взаимосвязи истории и памяти. Показаны основные теоретические ракурсы memory studies, направленные на проблему формирования и трансформации коллективных представлений о прошлом. В качестве примера конкретно-исторического исследования, выполненного при помощи подходов memory studies, рассмотрен «кейс» памяти о первых колонистах Новой Англии - отцах-пилигримах -в публичном дискурсе США периода Гражданской войны между Севером и Югом 1861-1865 гг.
The national imaginary as a historical and cultural practice of memory: images of the pilgrim fathers in the rhetoric of.pdf Одним из наиболее востребованных и плодотворных гуманитарных подходов современности являются мемориальные исследования (memory studies). Это направление имеет глубоко междисциплинарную основу, поскольку сосредоточено на изучении повседневной памяти отдельных общественных групп и индивидов, пространства политики памяти, ностальгии и травм прошлого и, шире, - современных медийных воздействий на динамику конфигураций памяти, всегда связанных с процессами индивидуальной и коллективной самоидентификации. Целями предлагаемой статьи являются, с одной стороны, определение основной теоретической рамки современной рефлексии, проясняющей связь истории и памяти, а с другой -применение этих теоретических подходов в практике конкретно-исторического исследования, в данном случае - на примере «кейса» памяти об отцах-пилигримах в публичной риторике эпохи Гражданской войны в США. Одним из центральных вопросов memory studies остается выявление взаимосвязи в групповых представлениях о пережитом опыте индивидуального и коллективного начал. Современные гуманитарные науки не имеют ясного представления о том, как именно формируется феномен коллективной памяти и уместна ли здесь в принципе аналогия с памятью отдельного человека, чье восприятие прошлого базируется на личных переживаниях. Коллективные виды памяти апеллируют к свидетельствам прошлого, как и профессиональная историческая наука, которая к тому же имеет куда более надежные методы сохранения и изучения источников. Зачем тогда «множить сущности» и вводить само понятие коллективной памяти? «Конвенциональная» основа современных memory studies образована изысканиями М. Альбвакса, датируемыми еще 1920-ми гг.: индивидуальные воспоминания структурированы рамкой общего социального опыта и базируются на несущей конструкции определенных концептуальных ориентиров (иногда имеющих четкие корреляты во времени), широко превосходящие формат личного опыта [1]. Тем самым память сообщает индивидам не только содержательное, но и ценностно-нормативное измерение, которое влияет на те решения, которые мы принимаем в настоящем. Современный исследователь Р. Пул преломляет этот вывод сквозь призму рассуждений о социальной ответственности и обязательствах, канализируемых коллективной памятью. Именно в памяти осмысляются последствия совершенных некогда поступков и наступает ответственность потомков за деяния прошлого или как минимум необходимость принимать в расчет совершенное в прошлом, чтобы жить в настоящем, производить перевод «ответственности за прошлое в волю для действий в настоящем». К рассудочным операциям следует добавить и аффекты эмоциональной памяти, которая поддерживает палитру человеческих чувств и дает нам моральные обязательства и ощущение перспективы [2. P. 153-154]. Р. Пул отмечает нерациональный и ангажированный уклад коллективной памяти: она претендует на истину, но всегда испытывает определенные политические принуждения, непрерывно меняется и переформатируется, формируя перспективы будущего. Память отличается от истории тем, что интегрирует воспоминания «от первого лица» в виде основы групповой идентичности, а не рациональных представлений о прошлом вообще, часто опирается на «белые пятна» истории, фиксирует, подобно памяти индивидуальной, лишь наиболее драматичные провалы или триумфы, из которых следует исходить в настоящем: «Из-за того, что я делал или не делал определенные вещи в прошлом, теперь я обязан действовать определенным образом» [Ibid. P. 158]. Автор полемизирует с концепцией памяти французского историка П. Нора, опровергая его представление о том, что коллективная память - это связь с «вечно настоящим». Восстановление события в памяти - точка «попадания в историю» - является, скорее, моментом разрыва с настоящим: пока есть живая память, событие не уходит до конца в прошлое. Однако проект национальной истории в версии «Мест памяти» больше апеллирует к памяти, чем собственно к истории, Более того, у П. Нора память-нация - последний момент единения истории и памяти, который И.Е. Рогаева, Н.В. Трубникова 134 слишком драматизируется, превращая память в некий ностальгический миф. Знаменитую «битву немецких историков» и проблему релятивизации преступлений нацизма, поднятую Э. Нольте, автор предлагает рассматривать не в контексте исторической науки, а в контексте памяти: исследователь фашизма стремился нормализовать национальную идентичность немцев и облегчить им «груз вины» и ответственности за содеянное предками. Проблема состоит в том, что память формирует нравственную повестку для общества, история лишь выравнивает ее перекосы, рационализирует. Приняв на себя груз коллективной памяти, историк Нольте нарушил свой «контракт истины», предписывающий принцип научной объективности. Таким образом, коллективная память - это способ принимать и соблюдать взятые на себя долговременные обязательства со стороны общностей и институтов, отдельных групп. Оправдание прошлого - это оправдание существования самих этих групп. Человек выбирает быть частью общей памяти, потому что в ином случае он не может быть частью общего опыта и общей жизни [2. P. 161-163]. Другой аспект современных теоретических размышлений о коллективной памяти восходит к публикациям Я. и А. Ассман, исследующих ее культурные аспекты [3, 4]. Культурное понимание памяти рассматривает ее не как бережно передаваемую реликвию, но, скорее, как объект непрерывной трансформации, испытывающий на себе многослойные противоречивые воздействия информационной среды современности. Если можно представить коллективную память как в потенциале безграничный архив данных, то любая ее актуальная конфигурация является избирательной, полюса забвения или возвышения каких-либо событий в ней относительны и подчиняются современным конъюнктурным воздействиям. Память становится коллективной в процессе совместного использования, у нее есть ресурсы актуализации, каналы передачи и культурные формы, в которых события прошлого наделяются смыслами. В данном ракурсе оживает популярная дихотомия памяти и мифа как двух разных форм олицетворения исторического опыта. Э. Ригни в недавней статье рассматривает современные культурные практики памяти, которые, в отличие от мифа, помогают «переопределить социальные рамки и налаживать связи между ранее не связанными воображаемыми сообществами» [5. Р. 240]. В своих рассуждениях о специфике «практики памяти» автор отталкивается от книги Э. Смита «Миф и память о Нации» [6], исходным тезисом которой является аксиома о том, что любую логику национального политогенеза предваряет память об общем происхождении, исключающая всех остальных. Но этот вариант является непригодным для полиэтничных наций, следовательно, нужно превзойти этот устоявшийся мифологизированный канон, для того чтобы дать надежду всем беженцам и отверженным на счастливую жизнь в обществе. Если понятие мифа у Смита является семантически совершенно ясным (под мифом он имеет в виду глубоко укорененные нарративы идентичности, которые, как некие вневременные истины, можно ис пользовать снова и снова в любой ситуации), то «память» остается непроясненной. Э. Ригни рассматривает задачи исследований памяти, скорее, сквозь призму подходов Ассман, где реконструируется роль публичных нарративов в формировании понимания прошлого, а также значение медиасферы для передачи и распространения этих нарративов, способных приобретать сторонников и оказывать сильное эмоциональное воздействие. В качестве культурной практики память интересна именно с точки зрения создания смысла или «вспоминания» произошедшего, зачастую превосходя силу воздействия национальных мифов. «Память - это активный принцип, с помощью которого мифы не просто воспроизводятся, но и медленно реконфигурируются. Память - особенно память о последних событиях - может работать против силы, которую приобрели мифы в течение гораздо более длительных периодов времени. Различие между мифом и памятью часто коррелирует с разницей во временном масштабе (мифы глубоко укоренены во времени, а память относится к более недавнему прошлому), но решающее различие здесь заключается в пластичности» [5. Р. 242-243]. Автор подчеркивает непрерывность изменения коллективной памяти, невзирая на архетипы, чаще всего - под воздействием травмирующего события. Драматическое воздействие на культурные и когнитивные формы трансмиссии смыслов обеспечивает искажение в запоминании. Запоминаемость не является чертой самих событий, это часть способности людей облекать их в приемлемую и переносимую форму, специфичную для каждого поколения. Некоторые события запоминаются лучше потому, что легче запечатлеваются в существующей системе мировоззрения. Таким образом, память формируется не воздействием отдельных медиаресурсов - она живет в постоянном повторении, но подвергается постоянным повседневным изменением. Антагонизм соперничающих версий прошлого также является структурным признаком процесса созидания памяти. Флуктуацию различных волн памяти ярко выражают столь же изменчивые практики коммеморации. Э. Смит в упомянутой книге писал о ключевых моделях этнической идентичности, характерных для Западной Европы. До Первой мировой войны характерной чертой исторических юбилеев был акцент на прославлении триумфа, победы, личного героизма. После Первой мировой установилась «политика сожаления», вдохновляемая эмоциями жертвенности, трагизма и траура. Вторая мировая война лишь усиливает эту тенденцию: наша история по-прежнему концентрируется «там, где больно»: скульптурный монументализм замещается эстетикой минимализма, на место памятникам приходят мемориалы. Язык поминовения павших постепенно приобретает транснациональный характер. Одни культурные фильтры постепенно вытесняются другими, стало быть, именно в практиках коммеморации мы можем вычленить основные черты мемориальной культуры того или иного периода [Ibid. P. 244-245]. Другим важным акцентом современных мемориальных исследований является изучение неразрывной Национальное воображаемое как историко-культурная практика памяти 135 связи процессов памяти и забвения во всем диапазоне проявлений коллективной амнезии: от простых «фигур умолчания» до активного уничтожения архивных свидетельств. Важно также отслеживать поворотные моменты памяти, когда доминирующие ранее нарративы подвергаются сомнению и воскрешаются ранее забытые, альтернативные трактовки событий. Иногда в отношении не столь удаленного прошлого развертываются настоящие «войны памяти» или, напротив, нарождающимся дискурсам памяти противостоит безразличие большинства: так, по мнению Э. Ригни, тема европейского колониализма по сей день является своеобразной «афазией памяти» - неспособностью понять структурный, а отнюдь не случайный, характер связи колониального насилия и его современного наследия. Неспособность помнить - это, по сути, неспособность представить другие сценарии, кроме укоренившихся мифов. Специфическим образом в эпоху «политики сожаления» измененный дискурс о Холокосте как системном явлении помог формированию постколониального дискурса, интегрирующего самые географически рассредоточенные «участки страдания». Впервые в истории памяти начал подниматься и вопрос о роли колониальных солдат в мировых войнах. Возрастающее количество свидетельств и разнородных публикаций мемориальной направленности постепенно меняют сложившуюся конфигурацию памяти и доминирующие исторические нарративы [5. P. 246-248]. Под воздействием дрейфа памяти происходит и трансформация юридических оснований коллективной памяти. За последние 30 лет Евросоюз в целом и ряд европейских стран по отдельности отмечены принятием серии мемориальных законов, регламентирующих связи прошлого и настоящего. Понятие до конца не устоялось, одни из них имеют чисто символическое значение, другие имеют юридическую силу наказания за «неуважение» в отношении определенных исторических умозаключений и даже предполагают возмещение ущерба жертвам преступлений в широком (от нескольких десятилетий до столетий) временном диапазоне [7. Р. 17-18]. Таким образом, по словам Э. Ригни, коллективная память помогает «натурализации воображаемого родства через рассказывание историй» [5. Р. 248]. Мемориальные исследования способствуют пониманию структурных основ современных национальных и транснациональных форматов общественного сознания, складывающихся не только и не столько на основе устойчивых исторических мифов, но, в еще большей степени, благодаря динамичным трансформациям коллективной памяти. Для историка потенциал исследований памяти заключается не только в возможности анализа исторических репрезентаций современников, но и в потенциале исследования своего рода «мемориальных срезов», которые характеризуют в ретроспективе, с позиции исследователя, знающего исторические исходы, устойчивые представления о прошлом, эффекты которого для национальной памяти уже состоялись. Ниже с позиций мемориальных исследований представлен опыт анализа уже состоявшейся историко-культурной практики использования образов отцов-пилигримов в публичных дискурсах эпохи Гражданской войны в США. Гражданская война 1861-1865 гг. стала для Соединенных Штатов Америки не только самым кровопролитным столкновением в истории - этот конфликт явился кульминацией противостояния двух общественных укладов, сосуществовавших на территории государства с момента возникновения на ней первых европейских поселений. Конфликт Севера и Юга, начавшийся со споров о рабстве, представлял собой борьбу двух регионов за гегемонию: экономическую, политическую, а также идеологическую. Борьба за лояльность жителей разделенного государства выразилась в том числе и в борьбе за память нации. В раскаленной атмосфере межсекционной вражды решающим средством в формировании общественного мнения стали не факты национальной истории, а их интерпретация в угоду интересам противоборствующих сторон. Громкие фразы и стереотипы, транслируемые стремительно развивавшейся прессой, не только актуализировали память о прошлом, но и способствовали ее трансформации для легитимации настоящего. Гражданская война в США началась 12 апреля 1861 г., но пропагандистские кампании Севера и Юга стартовали более чем на десятилетие раньше. Дебаты о статусе рабства в США «взорвали» общественный дискурс страны после завершения американо-мексиканской войны в 1848 г., когда к государству были присоединены колоссальные территории на западе, и достигли своего пика в 1850 г. с принятием закона о беглых рабах. Северные штаты были издавна известны антирабовладельческими настроениями. В борьбе за влияние на приобретенных территориях и распространение на них «истинно американского» образа жизни сообщество Севера искало опору в прошлом, обратившись к своим первым шагам на этом континенте. Отцы-пилигримы, основавшие в XVII в. первое устойчивое поселение в Новой Англии, выступили в качестве символических предков северян. Их прибытие в Новый Свет в 1620 г. было провозглашено точкой отсчета американской истории, задавшей импульс к дальнейшему демократическому развитию государства. В повествовании о пионерах Нового Плимута жители Новой Англии традиционно укореняли свою идентичность, определяя эту группу колонистов как первых «истинных американцев», а себя - как их потомков и наследников. Как известно, отцы-пилигримы представляли собой общину религиозных и политических беженцев из Старого Света, которые прибыли в Северную Америку в 1620 г. на корабле «Мэйфлауэр» в поисках свободы для своих убеждений и дали начало колонии Новый Плимут. Аболиционисты взывали к образам новоанглийских пионеров, видя в их убеждениях основу будущей идеологии гражданской свободы. По мере усиления межсекционных противоречий церковнослужители Севера все более явно демонстрировали антирабовладельческую риторику. В частности, историк Э.У. Абрамс приводит слова преподобного Р.Б. Холла, прозвучавшие в 1854 г. на торжестве в память об отцах- И.Е. Рогаева, Н.В. Трубникова 136 пилигримах. Холл в своей проповеди призывал к борьбе против южного рабства, чтобы «...искоренить из доброго наследия, которое даровали нам наши отцы, это гноящееся зло» [8. Р. 195]. Для протестантских деноминаций Новой Англии обращение к образам плимутских патриархов было традиционным способом сплотить паству. Подхваченные прессой слова проповедников стали орудием в борьбе за контроль над национальным воображением. Американский исследователь А. Гудхард в работе о начальном этапе Гражданской войны [9] на примере риторики молодежного аболиционистского движения Wide Awakes показал тот же определяющий аспект коллективной памяти, который отметил Р. Пул - ее ангажированность потребностями настоящего. Несмотря на то, что не существовало свидетельств о том, что основатели Нового Плимута когда-либо хоть как-то выражали свое отношение к рабовладению и работорговле, в число призывов, звучавших на митингах и маршах Wide Awakes, вошел лозунг «Пилигримы не создавали империю для рабства» [Ibid. P. 52]. Отсутствие сведений о взглядах пионеров Новой Англии на вопрос о рабстве не помешало тем, кто называл себя их потомками, использовать отсылки к авторитету колонистов для оправдания своих убеждений или для порицания предполагаемого зла. В то же время, по мнению сторонников национального консенсуса, фанатичная пропаганда аболиционистов лишь вредила благополучию США, ставя под угрозу союз северных и южных штатов. Перевернув доводы противников рабства, они отстаивали идею необходимости сохранения Союза через обращение ко все той же истории пионеров Новой Англии. Как отмечал политик, сенатор и госсекретарь Д. Вэбстер [10], именно эти суровые, истово верующие протестанты из прошлого могли послужить эталоном умеренности и согласия в настоящем. В речи, произнесенной сенатором по случаю фестиваля пилигримов в Нью-Йорке в 1850 г., он напомнил собравшимся о том, что первые колонисты Новой Англии дали обязательство соблюдать Мэйфлауэрский договор - документ, не только определивший основы существования Плимутского поселения, но и считавшийся предтечей Конституции США. Таким образом, клятва предков наложила на их потомков ответственность за сохранение целостности наследия пилигримов. Действительно, как отмечает историк Д.У. Смит до сецессии Юга для американцев «.за исключением нескольких идеалистов, сострадательный интерес к чернокожим был недостаточным стимулом для того, чтобы рисковать жизнями белых на поле битвы; но даже те жители Севера, которые высмеивали аболиционизм, отождествляли права и процветание белой расы с “северными институтами”» [11. P. 26]. Призыв Вэбстера сохранить Союз и не отрывать «.одно американское сердце от другого» [10. P. 527] был эффективен до провозглашения независимости Конфедерацией южных штатов. Факт отделения части прежде единого государства поставил под угрозу само существование Севера и его идеалов: свободного труда, прав человека, демократии, коммунализма, прогресса. На пороге Гражданской войны образы отцов-пилигримов стали олицетворением «исконных американских ценностей» и опорой политической пропаганды Союза против Конфедерации. Буря, вызванная отделением южных штатов, вылилась в волну ненависти со стороны северян. А. Гутхарт приводит цитату из письма преподавателя Хайрем колледжа Б. Хинстейла, адресованного его учителю -Д.А. Гарфилду, который позднее стал двадцатым президентом США. Письмо датировано февралем 1861 г. -временем сецессии Юга. Хинсдейл писал, что у истоков Америки, с одной стороны, были добродетельные и стремящиеся к равенству пуритане, основавшие Плимут на севере, а с другой - надменные, деспотичные кавалеры, основавшие Джеймстаун на юге: «.мы не пришли к соглашению вначале, мы не смогли найти общий язык позднее, и, я не думаю, что мы сможем прийти к нему когда-либо еще» [9. P. 113]. Эту же идею разделяет туже упоминаемая выше Э.У. Абрамс, резюмируя, что с началом боевых действий единственной идеей, с которой могли бы согласиться обе враждующие стороны, было утверждение, о том, что «.Север и Юг оставались объединенными под ложным предлогом на протяжении 80 лет» [8. P. 235]. Пропаганда Союза стала примером искажения смыслов в процессе воспоминания, описанного Э. Ригни. Апеллируя к концепциям патриотизма и защиты оказавшейся в опасности родины, северная пропаганда черпала вдохновение в легенде об отцах-пилигримах. Культовые элементы этого мифа были привлечены на защиту идеологии Севера. Одним из них был корабль «Мэйфлауэр», на борту которого странники пересекли Атлантику на пути в Новый Свет. Образ «Мэйфлауэ-ра» - хрупкого цветка свободы - тиражировался печатными изданиями Союза, которые помещали его даже на почтовые конверты. Конверты, украшенные патриотическими изображениями, использовались практически в каждой из войн, которые вели США с тех пор, как в 1853 г. был выдан патент на первый из них [12. P. 223]. Однако в контексте Гражданской войны образ «Мэйфлауэр» был прочитан еще одним, чрезвычайно любопытным образом. Н. Хоторн - один из первых мастеров американской литературы, автор знаменитого романа «Алая буква», в котором писатель отобразил нравственный облик пуритан середины XVII в., - в своей колонке на станицах газеты The Atlantic затронул проблему, которая дала Союзу сильнейший аргумент для борьбы с Конфедерацией. «Существует историческое обстоятельство, известное немногим, которое связывает детей пуритан с вирджинскими африканцами необычным образом, - писал Хоторн. - Они наши братья как прямые потомки Мэйфлауэр. В своем первом путешествии утроба этого корабля была обречена доставить пилигримов к Плимутской скале, а во втором - породить рабов на южных землях. Чудовищное рождение, но с ним у нас есть инстинктивное чувство родства, и потому мы испытываем непреодолимое желание их спасти, даже ценой собственной крови и разорения» [13]. В действительности история Хоторна - о том, что первых поселенцев Плимута и первых рабов Вирджинии яко- Национальное воображаемое как историко-культурная практика памяти 137 бы доставил в Северную Америку один и тот же корабль, - была лишь историческим анекдотом. Идея о близости двух противоположностей - черного и белого начал Америки - должна была послужить метафорой сочувствия, вдохновлявшей на развитие борьбы с рабством. Однако даже мысль о том, что северяне, возможно, имеют больше общего с порабощенными чернокожими Юга, нежели с их владельцами, подрывала идею о национальном примирении в обозримом будущем. Материальным воплощением тех идей, «за которые стояли отцы-пилигримы», стала Плимутская скала -легендарное место высадки пионеров Новой Англии, политическая икона республиканцев. Плимутская скала - это некогда гигантский валун, след движения древнего ледника. Малая его часть (менее 5% от первоначального размера) заключена в своеобразную гробницу на набережной Нового Плимута [14. C. 159]. Поэтический образ скалы фигурировал в песнях военных лет, призванный вдохновить идеей твердости и несгибаемости перед лицом обстоятельств сынов пилигримов, «...чье дело живет и никогда не умрет» [15], или, ощетинившись пушками, грозил смертью предателям Союза с агитационных плакатов. Тесно связанным с образом Плимутской скалы был ежегодный День предков, выступавший в качестве главной цитадели пилигримов, с которой транслировались идеи в защиту институтов Союза. На Севере торжество в честь основателей Плимута по своей значимости было сопоставимо с 4 июля - Днем независимости. Торжества в честь Дня предков предоставляли широкие возможности для публичных выступлений, в которых через апелляции к авторитету колонистов политики проводили свои идеи, вновь и вновь подчеркивая значимость наследия пилигримов для республики. Речи, лившиеся с трибуны Дня предков, в годы национального конфликта были проникнуты горячими и воинственными заявлениями, публикуемыми на страницах еженедельных газет. Российский историк Т.В. Алентьева сообщает о том, что нью-йоркская пресса в 1850-1860-е гг. главенствовала в масштабе всей страны. The New York Times, ежедневный тираж которой составлял 35 тыс. экз. [16], размещала заметки о поминовении пилигримов, в подробностях публикуя речи, звучавшие на празднестве. В 1861 г. The New York Times разместила речь, в которой президент Общества Новой Англии У. Эвартс выражал убежденность в том, что «.пламя войны было зажжено духом пилигримов», чья «добродетель и сила служат опорой для их потомков и на благо всего человечества» [17]. В статье 1863 г. звучали слова преподобного Хичкока: «.8 миллионов человек на этом континенте выросли из потомков первых пилигримов», отличительная черта которых - «.бояться Бога и не знать другого страха» [18]. Но, пожалуй, одним из самых ярких и горячих выступлений, размещенных в The New York Times, стала речь преподобного Т.Л. Кайлера, пастора пресвитерианской церкви Бруклина, произнесенная в 1864 г. [19]. В ней Кайлер обращал внимание публики на пропасть между двумя конкурирующими общественными укладами, названными им «системой Плимутской скалы» и «системой Джеймстауна». Первая представлена свободным трудом, бесплатными школами Севера, его колледжами, промышленностью, церквями и «.тысячей миссионеров, посланных по всему миру». Второй системой управляет олигархия рабовладельцев, и представить себя она могла лишь южным деспотизмом и неоплачиваемым трудом 4 миллионов рабов. Кайлер сообщал собравшимся, что наследие пилигримов не только не забыто - они сами мистическим образом воплотились в героях Гражданской войны: так, дух воинственного пилигрима М. Стэндиша отозвался в генерале Гранте, а плимутский старейшина У. Брюстер мог бы в годы войны работать в Христианской комиссии - гуманитарной организации Союза. Призывая на помощь образы из легенды об отцах-пилигримах, Кайлер искусно продемонстрировал слушателям моральный упадок предателей-южан, «...оставивших великолепную старую Вирджинию в руинах». В то же время, по мере накопления усталости от конфликта, происходила постепенная смена акцентов и интонаций в дискурсе пилигримов, что выразилось в запуске процесса трансформации коммеморативной практики, связанной с основателями Нового Плимута. На страницах широко распространенных дамских журналов к середине Гражданской войны возник символ нации, стремящейся к умиротворению и утешению, торжество, признанное напомнить воюющим сторонам о семейных ценностях, - День Благодарения. Это событие, базирующееся на легенде о взаимном согласии между переселенцами из Старого Света и индейцами, которые разделили с ними пищу и помогли выжить в их первую американскую зиму, понималось как особое, исключительно американское торжество. Оно было нацелено, с одной стороны, на укрепление социальных связей, а с другой - стало отражением протестантской культуры Севера, внушая идеи простого домашнего быта, трудолюбия, кооперации, взаимовыручки. Этим День благодарения противопоставлялся стереотипному представлению о жизни южных плантаторов: праздных, пресыщенных, изнеженных руками рабов. В 1863 г. президент США Авраам Линкольн провозгласил первый общенациональный День благодарения. С завершением войны этот обычай закрепился. После победы Союза в Гражданской войне «дух пилигримов» распространился на всю территорию государства. Основатели Нового Плимута повсеместно утвердились в качестве истинных предков воссоединившейся нации. Провозглашение Авраамом Линкольном Дня Благодарения как национального праздника помогло ускорить и закрепить процесс распространения легенды о новоанглийских корнях нации от океана до океана. Миф о пилигримах вошел в когорту символов американского патриотизма, а региональная идентичность Новой Англии как ядра Севера США была экстраполирована на все пространство национального воображаемого, постепенно вытеснив из него «рыцарскую» культуру довоенного Юга. Таким образом, опыт изучения репрезентаций от-цов-пилигримов в период Гражданской войны в США как один из «срезов» коллективной памяти демонстрирует аналитические возможности, открывающиеся И.Е. Рогаева, Н.В. Трубникова 138 историку при использовании теоретических подходов, которые сложились в области мемориальных исследований к настоящему времени. Инструменты memory studies, примененные в пространстве конкретно-исторического исследования, показывают пластичность воспоминаний под влиянием актуальных запросов современности. Гражданская война стала для США травмирующим событием, запустившим процесс трансформации представлений о пионерах Нового Плимута в национальном воображаемом. Реконфигурация памяти о «первых ис тинных американцах» в драматичный период истории Соединенных Штатов проявилась в публичном дискурсе в двух аспектах: как инструмент легитимации аболиционистской позиции Союза и как проводник его ценностей в символическое пространство воображаемого побежденной Конфедерации. Дальнейшее изучение отдельных «эпизодов» историко-культурных практик памяти способно расширить наше понимание процессов, ведущих к отбору воспоминаний и их закреплению в сфере коллективных представлений о прошлом.
Хальбвакс М. Социальные рамки памяти. М. : Новое изд-во, 2007. 348 с.
Pool R. Memory, history and the claims of the past // Memory Studies. 2008. Vol. 1 (2). Р. 149-166.
Ассман Я. Культурная память. Письмо, память о прошлом и политическая идентичность в высоких культурах древности. М. : Языки сла вянской культуры, 2004. 368 с.
Ассман А. Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая политика. М. : Новое литературное обозрение, 2014. 328 с.
Rigney A. Remembrance as remaking: memories of the nation revisited // Nations and Nationalism. 2018. Vol. 24 (2). P. 240-257.
Smith A.D. Myths and Memories of the Nation. Oxford : Oxford University Press, 1999. 298 р.
Ledou S. Introduction. Normer le passe au present. Genealogie des lois memorielles europeennes // Parlement[s], Revue d'histoire politique. 2020. № 3. P. 11-20.
Abrams A.U. The Pilgrims and Pocahontas. Rival myth of American origin. Boulder, CO : Westview Press, 1999. 400 p.
Goodheart A. 1861: The Civil War awakening. New York : Vintage Books, 2012. 481 p.
Webster D. Pilgrim Festival at New York in 1850 // The Works of Daniel Webster. Boston : C.C. Little and J. Brown, 1851. Vol. II. P. 517-529.
Smith G.W. Union Propaganda in the American Civil War // The Social Studies. 1944. Vol. 35, № 1. P. 26.
Fabre M. Popular Civil War Propaganda: the Case of Patriotic Covers // Journal of American Culture. Vol. 3, is. 2. Р. 223-237.
Hawthorne N. Chiefly about War Matters. URL: https://www.theatlantic.com/magazine/archive/1862/07/chiefly-about-war-matters/306159/(accessed: 11.10.2020).
Рогаева И.Е. Отыскать «прошлое как настоящее»: место отцов-пилигримов в памяти американской нации // Вестник Томского государственного университета. История. 2020. № 66. С. 157-163.
The rock of liberty. URL: https://www.loc.gov/resource/amss.sb40479bLstMext (accessed: 15.10.2020).
Алентьева Т.В. Общественное мнение северян в отношении сецессии Юга в зеркале прессы Нью-Йорка. URL: http://america-xix.org.ru/library/alentieva-secession/ (дата обращения: 27.10.2020).
Addresses by W. M. Evarts // New York Times. 1861. Dec. 24. P. 8. URL: https://www.nytimes.com/1861/12/24/archives/the-sons-oe-newengland-anniversary-dinner-at-the-astor-house-a.html?searchResultPosition=6 (accessed: 27.10.2020).
Anniversary of the Landing of the Pilgrims. Speech by Rev. Dr. Hitchcock // The New York Times. 1863. Dec. 23. P. 8. URL: https://www.nytimes.com/1863/12/23/archives/annual-newengland-dinner-anniversary-of-the-landing-of-the-pilgrims.html?searchResultPosition=3 (accessed: 27.10.2020).
Cuyler T.L. God's Justice and Humanity against the Rebel Confederacy // The New York Times. 1864. 8 Nov. 27. P. 3. URL: https://www.nytimes.com/1864/11/27/archives/rev-tl-cuylers-discourse-gods-justice-and-humanity-against-the.htmLsearchResultPositionM0 (accessed: 27.10.2020).
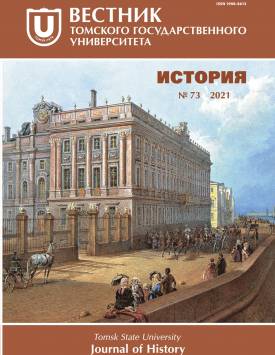

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью