Стефан Кирович Кузнецов - этнограф, археолог и библиофил: томские годы
Пореформенные годы в России стали временем поколения, в котором внутренняя свобода соединилась с чувством ответственности и желанием деятельности на общее благо. С.К. Кузнецов был одним их ярких представителей генерации исследователей финно-угорских народов России, работавших на рубеже XIX-XX вв. Восемнадцать лет являясь библиотекарем Томского университета, он изучал духовную и материальную культуру марийского и удмуртского населения Камско-Вятского региона, руководствуясь здравым смыслом и гуманистическими принципами.
Stefan Kirovich Kuznetsov - ethnographer, archaeologist and bibliophile: the Tomsk years.pdf Стефан (Степан) Кирович Кузнецов (1854-1913) родился в русской крестьянской семье Пахотной слободы близ уездного г. Малмыжа Вятской губернии, где звуки иной - марийской, татарской и удмуртской -речи, крой и краски одежды соседей не казались чем-то необыкновенным и в то же время будили пытливый ум1. Умение слушать и запоминать услышанное пригодится подающему надежды юноше в Казани, куда он приедет в 1870 г., поступив на «казенный кошт» в третий класс I Казанской гимназии [2. С. 102]. Три года спустя С.К. Кузнецов стал студентом Императорского Казанского университета [3. С. 6]. Чем объясним выбор, сделанный им в пользу углубленного изучения классических языков, однозначно сказать сложно. Известно только, что, нуждаясь в средствах, он зарабатывал уроками древнегреческого языка [4. С. 257]. В 1877 г., окончив историко-филологический факультет в числе лучших, Кузнецов был оставлен при кафедре римской словесности для приготовления к профессорскому званию. Однако в душе молодого человека уже зрел конфликт. Годом ранее его избрали в члены-сотрудники Отделения этнографии Императорского Русского Географического Общества (ИРГО) [5. С. 101-102]. На летних каникулах он пробует себя в качестве археолога, раскапывая могильник у с. Черемисский Малмыж [6]. Еще больше кандидата филологии растревожил IV археологический съезд, проходивший в начале августа 1877 г. в Казани. В 1879 г. С.К. Кузнецов принимает на себя обязанности хранителя университетского Музея этнографии, древностей и изящных искусств [7. С. 323]. В следующем году он проходит процедуры, необходимые для получения звания приват-доцента и вступает в Общество истории, археологии и этнографии при Казанском университете (ОАИЭ) [8. С. 12]. В новом статусе он совершает этнографические «экскурсии» в инородческие селения края, общаясь с языческими жрецами, муллами и православными миссионерами [9. С. 63]. Каждое лето он работает на памятниках археологии, местонахождение которых часто подсказывается народными преданиями [10]. Обладатель хорошего слога и навыка живого письма, Кузнецов продолжает начатые им в гимназические годы опыты этнографической журналистики [11-13]. На собраниях ОАИЭ он заявляет о себе как о самостоятельном и, что важно, критически мыслящем исследователе. В 1883 г. коллеги избирают С.К. Кузнецова секретарем ОАИЭ, рассчитывая на его аккуратность и организаторские таланты [14. С. 137]. Расширяется круг его общения, так как Казань традиционно была «окном на Восток» для ориенталистов и финно-угроведов. В эти годы зримо проявляется его интерес к разработке темы дохристианских культов и связанных с ними форм социальной организации марийцев и удмуртов [15. С. 62-63]. Казалось, все у него складывалось в позитивном ключе, хотя было что-то, не позволявшее Кузнецову быть до конца уверенным в безошибочности избранного пути. В августе 1885 г. С.К. Кузнецов переезжает в Томск, куда его, по всей видимости, пригласил В.М. Флоринский - профессор Казанского университета и попечитель Западно-Сибирского учебного округа [16. С. 140]. Ему нужны были доверенные люди, которым можно было поручить ту или иную институцию в создаваемом университете2. Таковым он, очевидно, посчитал секретаря ОАИЭ, чьи энергичные действия мог наблюдать как член Совета Общества, поручив коллеге создание университетской библиотеки. По мысли попечителя, библиотека должна была стать сердцем всего университета, куда стекались бы передовые научные идеи, заключенные в книжный переплет, и откуда растекалось по умам знание, рождающее открытия и усовершенствования [18. C. 122]. Но обнаружились серьезные расхождения в подходах к библиотечному делу самих главных интересантов, усугубленные разницей в темпераментах3. Кузнецов писал: «...и тут же понял, что В.М. [Флоринский] любит скоро, как скоро - другой вопрос, с одним условием, чтобы по его было» [14. C. 138]. Споры и недовольство друг другом, однако, не помешали им организовать образцовый порядок в книгохранилище, каталогизируя и систематизируя собрание, только к моменту открытия насчитывавшее около ста тысяч томов [19. C. 76]. Вопрос тем не менее остается открытым: что Стефан Кирович Кузнецов - этнограф, археолог и библиофил 163 подвигло Кузнецова закапсулироваться в библиотеке, только ли любовь к книгам и / или желание обрести некую стабильность? Впрочем, его деятельная натура недолго пребывала в самоизоляции4. Пространная статья С.К. Кузнецова, посвященная текущему состоянию марийской языческой веры, была отмечена серебряной медалью ИРГО [21; 22. С. 181]. Помня о навыках проведения раскопок и опираясь на контакты в археологических кругах, он пробует себя в «сибирском поле» [23. С. 38-39, 55, 5759]. По поручению Совета университета летом 1889 г. Кузнецов обследует археологическое наследие окрестностей Томска. Убеждаясь в его богатстве и перспективах изучения, он негодует по поводу низкого качества ранее выполненных работ на открытом в 1887 г. Томском могильнике5. Продолжением стала неприятная история с третейским судом с археологом А.В. Адриановым в оспаривании первенства открытия и права на проведение натурных изысканий [25]. В сложившейся нервозной обстановке ухудшается состояние здоровья Кузнецова, слабеет зрение, мучает ревматизм. Несмотря на недуги, он ведет археологические поиски на широком горизонте, вплоть до Южной Сибири, заботясь в том числе о сохранении культурного наследия от расхитителей и недобросовестных исследователей [26, 27]. Выступая в томской печати как специалист по ранним периодам истории края, он не избегал острых полемических тем, придерживаясь редакционной политики «Сибирского вестника» [28. С. 95]. Остается неясным, почему состоявшийся этнограф, оказавшись в таком этнически благодатном месте, как Западная Сибирь, не занялся изучением народов региона? Хотя кое-что из сибирской этнографии С.К. Кузнецова интриговало, например сюжет, связанный с погребальными масками, затем развитый им в специальной статье [29]. Небольшая заметка о сибирском русском фольклоре указывает на полиморфный характер его тогдашних интересов [30]. Тем не менее авторитет Кузнецова как знатока финно-угорской этнографии был по-прежнему высок. Неудивительно, что он был первым, к кому обратился приехавший в Томск летом 1898 г. в свою первую обско-угорскую экспедицию финский этнограф У.Т. Сирелиус, в будущем первый профессор финно-угорской этнографии Хельсинкского университета6. Он всегда выражал благодарность Кузнецову за помощь в знакомстве с обширнейшей этнографической литературой по интересующему предмету [32. S. 57]. В том же 1898 г. состоялась встреча Кузнецова с возвращавшимся из поездки к хантам и манси венгерским этнографом Я. Янко. Общение завершилось «удачной сделкой», в результате фонд Венгерского этнографического музея пополнился коллекцией из 34 марийских вещей и авторским описанием входящих в нее предметов [33]. Оставаясь благодарным ОАИЭ, Кузнецов передал его музею коллекцию из 27 хантыйских предметов с р. Вах, состоящую из модели чума, летней юрты, нарт, стрел, охотничьего снаряжения, элементов костюма, бытовой утвари и предметов культа. Также музею была передана небольшая коллекция из 6 вещей, приобретенных у хантов Березовского округа «одним купцом» и подаренных С.К. Кузнецову [34. C. 102]. Несколькими годами ранее его авторитет как финно-угроведа прошел жесткую проверку во время так называемого Мултанского судебного процесса, ставшего для отечественной этнографии одним из испытаний на научную зрелость. Драма, разыгравшаяся, точнее разыгранная, в 1892-1896 гг. в трех заседаниях суда в уездных городах Малмыже, Елабуге и Мама-дыше, получила резонанс по всей России, писали о ней и за рубежом [35]. Шокирующая новость о том, что удмурты с. Старый Мултан Малмыжского уезда принесли в жертву языческим богам нищего К. Матюнина (русского) была тиражирована в прессе и обросла слухами, создав негативный фон еще до завершения следственных действий [36]. Важным было то, что в судебных разбирательствах весомая роль отводилась этнографическим экспертизам. Экспертом стороны обвинения был определен профессор Казанского университета И.Н. Смирнов, автор ряда работ по этнографии восточно-финских народов [37, 38]. Ему неофициально оппонировал московский этнограф П.М. Богаевский, безусловно, честный ученый, но недостаточно знающий край и особенности взаимоотношений его жителей [39]. Многие понимали, что самым сведущим исследователем дохристианского культа удмуртов был С.К. Кузнецов. Он и сам стремился в родные места, но сдерживала однозначно обвинительная позиция попечителя учебного округа7. Выступая в печати и в научных обществах, Кузнецов говорил о безосновательности обвинений, выдвинутых против удмуртов (к тому же православных), о надуманности аргументации эксперта Смирнова [40, 41]. Он готовился прибыть по приглашению защиты на третье заседание суда, которое должно было состояться 28 мая 1896 г. в г. Мамадыше. Суд отказал С.К. Кузнецову в допуске к экспертному свидетельствованию, что, наверняка, больно затронуло его профессиональное самолюбие, заставляя не раз обращаться к «мултанской теме» [42. C. 102103]. Вот что писал ему общественный защитник удмуртов писатель В.Г. Короленко: «Многоуважаемый Степан Кирович. Вам, вероятно, уже известно из газет, что в просьбе защиты о вызове экспертов и свидетелей по мултанскому делу - вновь отказано. Это, разумеется, равносильно отказу в правосудии для бедных вотяков; еще неизвестно, чем это кончится, но все-таки делаем усилия, чтобы и при самых неблагоприятных условиях доказать невинность этих жертв полицейского усердия и псевдоученого профессорского честолюбия. Не будете ли добры дать защите несколько добрых советов по этнографической части. Что было бы важно прочитать и на что обратить особенное внимание? Я уже кое-что собрал, но, будучи уверен в Вашем участии, я не так заботился обо всем этом, как это необходимо теперь... Я глубоко убежден, что нам удастся спасти не только вотяков, но и суд от этой позорной травли заведомо для всякого образованного человека невинных людей» [43. C. 107]. По итогам восьмидневного заседания присяжные вынесли оправдательный приговор. А.Е. Загребин, Р.В. Зворыгин 164 В причинах случившегося Кузнецов видел давнее печальное состояние миссионерского дела, кроме того, оставшегося без опеки директора Казанской учительской (инородческой) семинарии Н.И. Ильминского, и сугубо формальное, порой корыстное отношение чиновничества к нерусским народам края. Выслужив в 1903 г. положенный срок и выйдя в отставку статским советником, С.К. Кузнецов передал в надежные руки университетскую библиотеку и переехал в Москву. Сохраняя теплое чувство к Томску и Сибири в целом, он ведет кружок сибирской библиографии при Русском Библиографическом Обществе Московского университета, где со студентами-сибиряками собирает историографический свод данных об истории края [4. С. 258]. За время, проведенное в археолого-этнографическом поле и библиотеке, им было накоплено много интересного материала, пришло время преподавать и публиковать. В московский период жизни С.К. Кузнецов сблизился с этнографами, входившими в Императорское Общество любителей естествознания, антропологии и этнографии при Московском университете (ИОЛЕАЭ). Неслучайно большая часть его работ того периода выходила в журнале Этнографического отдела ИОЛЕАЭ «Этнографическое обозрение» [44-48]. В 1907 г. он вошел в число учредителей Московского археологического института, определяя образовательные стратегии будущих археологов и археографов. Курс, прочи-тайный в 1907/1908 учебном году, Кузнецов посвятил финноязычному населению северо-восточной Руси [49]. Чувствуя перспективы начатого, он шел дальше на восток, к мордве [50]. Возможно, в его планах был еще более широкий исследовательский горизонт, но продолжало подводить здоровье. В 1912 г. ощущая, что силы его слабеют, С.К. Кузнецов покидает Москву. Он стремился в Малмыж, чьи пределы никогда не покидал надолго8. В родной город он перевез немалую часть своей библиотеки и этнографических собраний, надеясь, что накопленные «богатства» пригодятся землякам. Пройдет пять лет с его смерти, закончится одна война и начнется новая, и в Малмыже возникнет Историческое Общество9. Книги и мысли профессора Кузнецова еще долго будут служить его ученикам и продолжателям. ПРИМЕЧАНИЯ 1 С.К. Кузнецов писал: «Еще в детстве, болтая у дедушки на пчельнике со сторожем Павлом (черемисином завятской стороны), я понемногу выспрашивал его о всякой всячине и учился у него по-черемисски» (т.е. марийскому языку). В своих воспоминаниях Кузнецов также упоминает волостного заседателя Филиппа Трифонова (природного вотяка. -А.З., Р.З.), учившего его в детстве удмуртскому языку [1. С. 29, 31]. 2 Профессор В.М. Флоринский (1834-1899) был известным врачом и высокопоставленным чиновником Министерства народного просвещения, а также археологом-любителем, придерживавшимся идеи существования «большого славянского мира» в древности. Еще в первые годы существования ОАИЭ он выступил с проектом создания в Казани публичного историко-этнографического музея [17]. 3 Описывая взаимоотношения с попечителем учебного округа, С.К. Кузнецов признавался: «Моя стрелецкая кровь частенько бурлит от таких фантазий... Душевно сознаю, что, может быть, не всегда умел соблюсти правила субординации: может, сгрубил иногда» [14. С. 139]. 4 Не имея возможности выехать из Томска на Общее собрание ИРГО, на котором должен был прозвучать его доклад, С.К. Кузнецов мог надеяться только на товарищей и не ошибался: «...Ф.М. Истомин, секретарь Отделения Этнографии, прочел выдержки из составленного членом сотрудником С.К. Кузнецовым описания остатков язычества черемис» [20. С. 555]. 5 С.К. Кузнецов писал: «Посетив заброшенные с 1887 г. раскопки г. Адрианова на правом мысу в первых числах июня прошлого года совместно с доцентом Гельсингфорского университета, д-ром филос. А.О. Гейкелем, мы невольно обратили внимание на это обстоятельство. Когда же мы принялись рассматривать и слегка разрывать руками отвал земли, вынутой г. Адриановым из центра малого кургана, то нашли бронзовую бусу, точильный брусок из песчаника и обломок кольцеобразного предмета из неизвестного твердого сплава (но не бронзы).» [24. С. 58]. 6 У.Т. Сирелиус вспоминал, что по приезде в Томск он побывал в доме С.К. Кузнецова, и они весь вечер, почти до утра, проговорили о проблемах антропологии [31. S. 59]. 7 С.К. Кузнецов сожалел: «При участии некоторых лиц собрал я постепенно всю газетную и журнальную литературу о мултанском жертвоприношении, но по разным причинам не успел написать и опубликовать своей статьи ранее вторичного разбирательства. С моей стороны это было тяжкое этнографическое преступление, но совершено оно было в силу отдаленности моей службы от театра действий и еще - главным образом -потому, что тогдашний попечитель учебного округа Флоринский, сам семинарист. был за обвинение несчастных вотяков. Не мудрено, что я вынужден был молчать, хотя и мог сказать больше других» [1. С. 34-35]. 8 «Еще с 1873 года началось изучение древностей Малмыжского уезда и в течение 40 лет малмыжский уроженец, профессор Московского археологического института Степан Кирович Кузнецов собирал сведения о прошлом нашего родного края. Каждый год, приезжая летом в Малмыж, Степан Кирович совершал. поездки по уезду, собирал коллекции древностей и национальных костюмов, записывал предания и изучал язык, обычаи и верования местных вотяков и черемис. Население привыкло к тому, что есть человек, который интересуется стариной, собирает древности и предания. О старине начинали говорить, невольно припоминали забытые легенды и во многих, может быть, вспыхивал интерес к прошедшим векам, ярким светом разгоралась искра, тлевшая прежде в глубине души» [51]. 9 «Нам остается пожалеть, что Степану Кировичу не пришлось дожить до основания Исторического Общества и что мысль об открытии в Малмыже этого Общества возникла как раз в то время, когда он уже умирал. Впервые слова о том, что малмыжане должны изучать свою историю, в которой есть много интересного и поучительного, эти слова открыто раздались лишь над раскрытой могилой покойного профессора, во время его похорон 14 августа 1913 года. Но дело покойного Степана Кировича не умерло вместе с ним» [52. C. 2].
Ключевые слова
этнография,
археология,
С.К. Кузнецов,
Томск,
финно-угорские народыАвторы
| Загребин Алексей Егорович | Коми Научный центр УрО РАН | доктор исторических наук, профессор РАН, главный научный сотрудник Института языка, литературы и истории | zagreb72@izh.com |
| Зворыгин Роман Викторович | Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова; Московский финансово-промышленный университет «Синергия» | аспирант кафедры управления в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений факультета государственного управления; старший преподаватель кафедры государственного и муниципального управления факультета управления | vatmana3@inbox.ru |
Всего: 2
Ссылки
Кузнецов С.К. Из воспоминаний этнографа // Этнографическое обозрение. 1906. Кн. 68-69, № 1-2. С. 29-51.
Забудский О. Некоторые данные к биографии археолога Ст. Кир. Кузнецова // Труды Малмыжского музея местного края. 1925. Июльсентябрь. Вып. 9. С. 101-103 / Малмыжский краеведческий музей. Ед. хр. 7685. Рукопись.
Семибратов В.К. О жизни и творчестве С.К. Кузнецова // С.К. Кузнецов. Святыни. Культ предков. Древняя история. Йошкар-Ола : Марийск. кн. изд-во, 2009. С. 5-15.
Иваск У.Г. Некролог С.К. Кузнецова // Библиографические известия. 1913. № 3. С. 257-258.
Журнал заседания Отделения этнографии - 22 апреля 1877 г. // Известия Императорского Русского Географического Общества. 1877. Т. 13. С. 101-103.
Кузнецов С.К. Атамановы кости: Могильник бронзовой эпохи близ села Черемисского Малмыжа и деревни Ахпая, в Малмыжском уезде Вятской губернии // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1884. Т. 3. С. 394-410.
Богданов В.В. С.К. Кузнецов // Этнографическое обозрение. 1913. Кн. 96-97, № 1-2. С. 323-324.
Протокол XVI заседания Совета, 1 апреля 1880 года // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1885. Т. 4. С. 11-12.
Протокол XIX Общего Собрания, 28 апреля 1881 года // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университе те. 1885. Т. 4. С. 59-63.
Кузнецов С.К. Предварительное сообщение о результатах раскопок над Ройским истоком на границе Уржумского и Малмыжского уездов Вятской губернии, произведенных летом 1881 г. // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1884. Т. 3. С. 326-329.
Кузнецов С.К. Черемисские мольбища, жреческая иерархия и жертвенные пиры // Вятские губернские ведомости. 1882. № 84.
Кузнецов С.К. Поминки у черемис // Вятские губернские ведомости. 1884. № 12.
Кузнецов С.К. Загробные верования черемис // Казанские губернские ведомости. 1884. № 24.
Смирнов А.С. Стефан Кирович Кузнецов - член Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 2017. Т. 37, № 4. С. 134-155.
Попов Н. Вклад С.К. Кузнецова в изучение традиций марийцев и удмуртов // Финно-угроведение. 2005. № 1. С. 58-78.
Сеченова А.А. Василий Маркович Флоринский - первый попечитель Западно-Сибирского учебного округа // Вестник Томского государственного педагогического университета. 2009. № 12. С. 139-141.
Проект Публичного историко-этнографического музея, составлен проф. В.М. Флоринским // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1878. Т. 1. С. 126-140.
Коршунова (Толстова) А.А. Библиотека Императорского Томского университета в дореволюционный период // Вестник Томского государственного университета. 2012. № 4. С. 121-126.
Есипова В.А. Кузнецов Степан (Стефан) Кирович // Народы и культуры Томско-Нарымского Приобья : материалы к энциклопедии Томской области / ред. Э.И. Черняк. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2001. С. 76-78.
Журнал Общего собрания Императорского РГО - 2 октября 1885 года // Известия Императорского Русского Географического Общества. 1885. Т. 21. С. 555.
Кузнецов С.К. Остатки язычества у черемис (с рис. г. Рейнгольма и введением Ф.М. Истомина) // Известия Императорского Русского Географического Общества. 1885. Т. 21. С. 449-479.
Алфавитный список лиц, удостоенных наград Императорского Русского Географического Общества. СПб., 1905-1907.
Матющенко В.И. 300 лет сибирской археологии. Омск : Омский гос. ун-т., 2001. Т. 1. 179 с.
Кузнецов С.К. Отчет об археологических разысканиях в окрестностях г. Томска, произведенных летом 1889 года: с картою, планом и четыремя таблицами рисунков и чертежей. Томск : Типо-лит. В.В. Михайлова и П.И. Макушина, 1890. 78 с.
Смирнов А.С. Третейский суд о Томском могильнике // Вестник Томского государственного университета. 2013. № 369. С. 96-103.
Кузнецов С.К. К вопросу об охране древностей от истребления // Сибирский вестник. 1894. № 114.
Кузнецов С.К. Ложная ученость. Томск : Тип. «Сибирского вестника», 1888. 16 с.
Жилякова Н.В. Книжные проекты редакций сибирских газет (на примере томской «Сибирской газеты» 1880-е гг.) // Текст. Книга. Книгоиздание. 2012. № 1. С. 89-97.
Кузнецов С.К. Погребальные маски, их употребление и значение // Известия Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете. 1906. Т. 22. С. 75-118.
Кузнецов С.К. Из сибирской народной сатиры // Этнографическое обозрение. 1906. Кн. 67, № 4. С. 118-119.
Lehtonen J.U.E. U.T. Sirelius ja kansatiede. Helsinki : Suomen muinaismuistoyhdistys, 1972. 303 s.
Sirelius U.T. S.K. Kuznecov // Finnisch-Ugrische Forschungen. 1913. Bd. 13, Heft 1-3, Anzeiger. S. 57-58.
Kerezsi A. A Kuznecov-gyujtemeny. A Neprajzi Miizeum legregebi mari targyai // Neprajzi Ertesito. 2006. Vol. 87. Ol. 99-116.
Гущина Е.Г. Этнографическое собрание Императорского Казанского университета: история формирования и развития. Казань : КФУ, 2019. 252 с.
Луппов П.Н. Библиография по Мултанскому делу // Записки УдНИИ. 1936. Вып. 5. С. 120-134.
Логинова И.В. Отношение российской общественности и власти к мултанскому делу в конце XIX века : дис.. канд. ист. наук. Н. Новгород, 2002. 251 с.
Смирнов И.Н. Следы человеческих жертвоприношений в поэзии и религиозных обрядов приволжских финнов : публичная лекция, читанная 31 марта 1889 года в пользу Общества археологии, истории и этнографии. Казань : тип. Казан. бирж. листка, 1889. 22 с.
Смирнов И.Н. Вотяки : историко-этнографический очерк. Казань : тип. Императорского университета, 1890. 356 с.
Богаевский П.М. Мултанское моление вотяков в свете этнографических данных. М. : Изд. кн. магазина Гросман и Кнебель, 1896. 112 с.
Кузнецов С.К. Мнимое человеческое жертвоприношение // Казанский биржевой листок. 1895. № 204.
Кузнецов С.К. О мултанском деле // Сибирский вестник. 1895. № 173, 175, 176.
Кузнецов С.К. Успехи этнологии в деле изучения финнов Поволжья за последние тридцать лет // Этнографическое обозрение. 1910. Кн. 84-85, № 1-2. С. 102-103.
Короленко В.Г. Кузнецову С.К., 30 апреля 1896 г. // Короленко В.Г. Собр. соч. М. : Гослитиздат, 1956. Т. 10.
Кузнецов С.К. Культ умерших и загробные верования луговых черемис // Этнографическое обозрение. 1904. Кн. 60. С. 67-90; Кн. 61. С. 56-109.
Кузнецов С.К. Общинные порядки у вотяков Мамадышского уезда Казанской губернии // Этнографическое обозрение. 1904. Кн. 63. С. 24-49.
Кузнецов С.К. Поездка к древней черемисской святыне, известной со времен Олеария // Этнографическое Обозрение. 1905. Кн. 64, № 1. С.129-157.
Кузнецов С.К. К вопросу о Биармии. Обзор исторических, археологических и этнографических данных // Этнографическое обозрение. 1905. Кн. 65-66. С. 1-95.
Кузнецов С.К. Черемисская секта Кугу Сорта // Этнографическое обозрение. 1908. Кн. 79, № 4. С. 1-59.
Кузнецов С.К. Русская историческая география : курс лекций, читанных в Московском археологическом институте в 1907-1908 г. М. : Моск. археологический ин-т, 1910. Вып. 1 (меря, мещера, мурома, весь). 202 с.
Кузнецов С.К. Русская историческая география : курс лекций, читанных в Московском археологическом институте в 1908-1909 г. М. : Моск. археологический ин-т, 1912. Вып. 2 (мордва). 73 с.
Предшественник Малмыжского Исторического Общества // Малмыжский краеведческий музей. Ед. хр. 308.
Возникновение Малмыжского Исторического Общества // Малмыжский краеведческий музей. Ед. хр. 308.
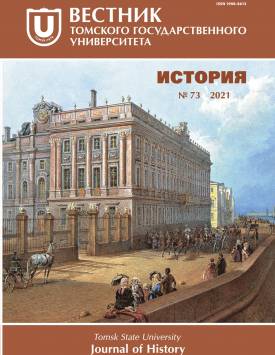

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью