Публикация посвящена анализу недавно вышедшей коллективной монографии «Место и природа: эссе по российской экологической истории» под редакцией Д. Муна, Н.Б. Брейфогла и А.В. Бекасовой. Обобщается содержание всех статей и отмечаются удачный выбор исследовательских подходов и широта привлекаемых источников. Сильной стороной монографии нужно также признать внимание к локальному и конкретному, а также умение авторов помещать свои исследовательские кейсы в глобальный контекст.
Review: Place and nature: essays in Russian environmental history / ed. D. Moon, N.B. Breyfogle, A. Bekasova. Knapwell: .pdf Экологическая история становится одним из важнейших направлений в историографии XIX-XX вв. Исследования того, как менялись экосистемы Восточной Европы, Урала, Сибири и Дальнего Востока из-за развития современной индустрии и модерного государства, позволяют переосмыслить многие страницы истории Российской Империи и Советского Союза. Важной вехой в этом историографическом поле стала недавно вышедшая коллективная монография «Место и природа: эссе по российской экологической истории» под редакцией Д. Муна, Н.Б. Брейфогла и А.В. Бекасовой. Монография стала результатом работы исследовательской сети под названием «Исследуя экологическую историю и историю природных ресурсов России». Работа этого междисциплинарного коллектива ученых из России, США и Великобритании была поддержана Леверхульм трастом и включала в себя серию исследовательских поездок на Соловецкие острова, озеро Байкал, Урал, а также ряд мероприятий в Санкт-Петербурге в 2013-2016 гг. Важной установкой, объединившей участников коллектива, стал следующий тезис: «Чтобы писать полноценную историю, историки должны интегрироваться в места и среды, которые они изучают... получить представление, как эти места выглядят, звучат, пахнут, какие они на вкус и на ощупь» [1. С. 1]. Соответственно, понятие «место» становится для авторов монографии одной из ключевых аналитических рамок. «Место» описывается как конкретное и культурно нагруженное и противопоставляется абстрактному, широкому и гомогенному «пространству». Похожим образом определяется вторая важнейшая для авторов дихотомия «природа - окружающая среда». Если природа не нуждается в человеке, то среда формируется там, где человек вступает в осознанные отношения с окружающим миром [Ibid. С. 2-3, 38]. Соответственно, авторы отдельных глав монографии прослеживают, как освоение Русского Севера, Урала, Сибири превращало пространства в конкретные места, а природу -в пригодную для проживания окружающую среду. Основная часть монографии открывается разделом, посвященным Русскому Северу и Северо-Западу. Г лава, написанная А.В. Крайковским и Ю.А. Лайус, демонстрирует сразу несколько воплощений Соловецких островов в российской культуре последних нескольких веков: как сакральное пространство в православной традиции, место паломничества и ссылки, а также как объект природного и культурного наследия одновременно. Э. Бруно в своем тексте, посвященном экологической истории озера Имандра на Кольском полуострове, доказывает, что фокус на конкретном природном объекте может разрешить конфликт между глобальным измерением эпохи антропоцена и вниманием к локальному и конкретному. Так, хотя глобальная экологическая нагрузка во второй половине XX в. росла по экспоненте, пример озера Имандра представляет более сложную картину: уровень его загрязнения рос до середины 1980-х, а потом стал сокращаться, во многом благодаря экономическому коллапсу из-за распада СССР. История Водлозерского национального парка, которую А. Ро рассказывает через призму биографии одного из его создателей - О.В. Червякова, -еще один важнейший сюжет для понимания судьбы Русского Севера во второй половине XX в. Ключевым отличием национальных парков от традиционных для отечественного природоохранного движения заповедников является их открытость для туристов. Если на заповедной территории была запрещена любая хозяйственная деятельность, то парки одновременно с защитой памятников природы обещали оживление Рецензия: Place and nature: essays in Russian environmental history 187 экономического климата в регионе и вписывались в концепцию устойчивого развития. «Однако парк не мог был быть создан в более неподходящее время -незадолго до распада СССР... [поэтому] лесная и деревообрабатывающая промышленность до сих пор остается крупнейшим сектором экономики Карелии» [1. С. 93, 115]. Петербургские наводнения 1824 и 1924 гг. находятся в фокусе статьи Р. Дэйла, которая закрывает собой первую часть монографии. Эти два крупнейших катаклизма позволили автору показать, как за сто лет изменились паттерны взаимодействия города с окружающей средой. Вторая часть коллективной монографии представляет собой серию визуальных эссе, в которых исследователи осмысляют не только исторические материалы, но и свой собственный опыт пребывания в изучаемых ими местах. Первое из них возвращает нас на Соловецкие острова. Н.Б. Брейфогл, одна из замечательных фотографий которого помещена на обложку издания, повествует в своем эссе о взаимодействии со средой архипелага - как с природной (водой и лесом, воздухом и скалами), так и с искусственной (каналами и дорогами, лодками и пристанями, садами и лабиринтами). Также в этой части монографии перепечатывается заметка К. Евтуховой «Открытка с Уральских гор», в которой она рассказывает о своей поездке в 2016 г. по городам этого региона, выступавшего драйвером индустриального развития страны в XVIII-XX вв. Эссе Б. Стюарта показывает читателю озеро Байкал глазами специалиста по биологии моря. В нем он делится впечатлениями о посещении бани, красоте озера, хрупкости его экосистемы, а также некоторых уникальных видах животных. По его словам, «нерпы -единственные в мире пресноводные котики и, пожалуй, самые милые» [Ibid. С. 187]. Раздел завершается еще одним взглядом на озеро Байкал. Историк Д. Мун описывает поездку группы исследователей в Баргу-зинский заповедник - место настолько суровое, что «даже медведям там непросто выжить» [Ibid. С. 198]. Одновременно с опытом переживания величественной природной красоты Д. Мун и другие участники группы стали свидетелями удручающего зрелища: дым от лесных пожаров затянул небо над озером и стал напоминанием о том, какую угрозу несет глобальное изменение климата таким уникальным экосистемам? как прибайкальская тайга. В заключительной части книги авторы возвращаются к более традиционному жанру исследовательских статей. Три из пяти текстов этого раздела так или иначе посвящены Байкалу, один представляет собой произведение в жанре истории мобильности и сфокусирован на дореволюционных путеводителях по Сибири, и еще один анализирует проблемы охоты и охраны животного мира на Дальнем Востоке. А.В. Бекасова и Е.А. Калеменева в своей статье изучают ландшафты транспорта, возникшие с развитием современных средств передвижения в конце XIX в. Авторы вводят понятие «ландшафтов транспорта», чтобы показать, что железная дорога является средством конструирования определенного взгляда на окружающий мир, она определяет, что путешественники должны видеть и что не должны, а также постепенно превращает природные объекты из предметов восхищения в товар. Если Сибирь традиционно рассматривалась как суровый и неприветливый край и ассоциировалась с местом каторги и ссылки, то путеводители, которые стали массово публиковаться в первые годы XX в., постепенно создавали образ «страны чудес с множеством достопримечательностей, минеральных курортов и экскурсионных возможностей, ждущих открытия» [Ibid. С. 219]. Путеводители по Сибири ярко воплотили в себе процесс превращения природы в окружающую среду. В следующем тексте А.Д. и Т.П. Калихман исследуют влияние хозяйственной деятельности человека на экосистемы Байкала, а также меры по их защите. Авторы показывают, что наибольший ущерб озеру нанесло сооружение в конце 1950-х гг. Иркутской ГЭС, которое вызвало подъем уровня воды в нем примерно на метр, а также деятельность Байкальского целлюлозно-бумажного комбината. Последний прекратил свою деятельность в 2013 г., однако до сих пор не решена проблема с утилизацией огромного количества токсичных отходов, хранящихся в шламонакопителях в непосредственной близи от озера. Глава, написанная А.Д. и Т.П. Калихманами, - это не только глубокая экологическая история озера Байкал. Авторы также дают возможность читателю познакомиться с интереснейшим проектом, который в начале 1990-х гг. объединил исследователей из СССР / России, США и Канады для экспедиций на байдарках вокруг озер Байкал и Верхнее в Северной Америке и изучения этих двух крупнейших пресноводных водоемов. Мы снова видим, какую важную роль придают авторы монографии физическому присутствию в исследуемых локусах, непосредственной причастности к судьбе исследуемых экосистем. Развивая байкальскую тему, Н.Б. Брейфогл рассказывает в своей главе историю старейшего в России Баргузинского заповедника. Важным исследовательским подходом Н.Б. Брейфогла стало смещение фокуса с интеллектуальной истории заповедников к более пристальному вниманию к нечеловеческим акторам. Он показывает, что «местная топография, ландшафты, гидрология, флора, фауна и экология», а также поведение и физические характеристики соболя сыграли важную роль в принятии решения о создании заповедника и в его истории [Ibid. С. 269]. Байкал как место столкновения интересов и логик индустриальных и научных институтов в 1950-1990-е гг. стал темой статьи Е.А. Кочетковой. Для Госстроя, который ставил своей целью соорудить два крупных предприятия на берегах Байкала, огромные запасы чистой пресной воды были важным экономическим ресурсом. Внимание ученых, с самого начала игравших важнейшую роль в становлении системы заповедников и формировании природоохранного движения в стране, также было приковано к байкальским водам, но для них Байкал был ценен как «первозданное творение природы» [Ibid. С. 293]. Завершающей главой коллективной монографии стала статья М. Сокольски, переносящая читателя на Р.Р. Гильминтинов 188 Дальний Восток. Важнейшей частью образа региона является тигр. По мнению автора, сохранившаяся до наших дней популяция амурского тигра может рассматриваться как одно из достижений советской системы охраны природы - по ту сторону границы с Китаем этих животных почти не осталось. Однако история, которую рассказывается М. Сокольски в своем тексте, показывает, что основой системы заповедников в регионе стал вовсе не интерес к тиграм или экосистемам в целом. Важнейшую роль сыграли охотничьи общества, в которые входили русские купцы, дворяне и представители колониальной администрации - их куда больше интересовали японский олень, изюбрь и амурский горал как объекты «благородной охоты». Они стремились защитить эти виды от китайских мигрантов и других «некультурных» поселенцев. Несмотря на то, что такие установки противоречили идеологии новой власти, М. Сокольски пишет, что в раннесоветский период старые подходы оставались актуальными и лишь значительно позднее сформировалась всесторонняя система заповедников. Подводя итог, следует заметить, что «Место и природа» задает чрезвычайно высокую планку в области отечественной экологической истории. Будучи результатом хорошо организованного исследовательского проекта, этот коллективный труд опирается на глубокое осмысление теоретических понятий, широчайший набор исторических источников и делает важное высказывание в современной литературе. Однако, как и любое талантливое исследование, данная монография не ставит точку, а обозначает новые темы для изучения. Пожалуй, наиболее конструктивным шагом, который исследователи могли бы сделать, опираясь на наработки монографии «Место и природа», - это расширение спектра мест, пространств, экосистем, достойных изучения. Авторы пишут во введении: «Как экологические историки мы прежде всего изучаем места, известные своей особой природной ценностью: заповедники, где “дикая” природа или редкие виды находятся под защитой; места и регионы, природная красота которых приобрела культурную значимость в течение веков любования и присвоения... и где эта культурная и природная значимость считается находящейся под угрозой из-за экономической деятельности человека» [1. С. 3]. Представляется, что поле экологической истории могло бы сделать значительный шаг вперед за счет большего внимания к локусам, в которых преобразование природы в окружающую среду вполне завершилось, которые не имеют особого культурного или юридического статуса, но являются домом для человеческих и нечеловеческих сообществ.
| Гильминтинов Роман Радиевич | Тюменский государственный университет; Дюкский университет | кандидат исторических наук, научный сотрудник сетевого центра «Человек, природа, технологии»; докторант факультета истории | rg214@duke.edu |
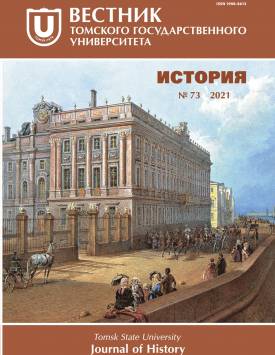

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью