Рассматриваются основные этапы и факторы формирования федерализма и взаимоотношений между федеральным центром и регионами в 1990-2000-е гг. в России. Особый акцент делается на выявлении возможности связки четырех понятий - «федерализм», «регионализм», «либерализм» и «трансграничность». Актуальность данной темы в настоящее время обусловлена наличием противоречий между центро-периферийной (авторитарной) моделью и ренессансом регионализма или либерализма, воспринимающимся региональными сообществами как начало региональной идентификации и поляризованного автономного регионального развития.
Phenomenon of regionalism and regional identification in Russia in the 1990-2000s.pdf После распада СССР руководство РСФСР столкнулось с рядом проблем, главной из которых был выбор форм дальнейшего существования «новой» страны. Сложившаяся политическая ситуация в начале 1990-х гг. способствовала возрождению региональных интересов, дроблению политической власти и формированию локальных идентичностей, что в конечном счете привело к актуализации вопроса о формировании «новой» модели отношений между федеральным центром и регионами. Также нельзя было не учитывать тот факт, что регионализм всегда считался одним из основополагающих признаков федерализма, а федерализм, в свою очередь, до сих пор считается основным элементом либеральной демократии как политического режима или либерализма как идеологии. Современный регионализм (не сепаратизм) подразумевает, что интересы региона ставятся превыше интересов федерального центра, и означает, что ни федеральная, ни региональная власть не может принять решение, которое противоречит интересам основных акторов регионального политического процесса. Под акторами регионального политического процесса подразумеваются региональная элита, население региона и региональная власть. Данное базовое противоречие в системе отношений «центр-периферия» неразрывно связано с другим противоречием современного мира - глобализацией и регионализацией (локальностью). С одной стороны, экономическая и политическая глобализация делает необратимой культурную и языковую интеграцию, с другой - все чаще она сопровождается неприятием национальных, этнических и конфессиональных элит [1. С. 28-29]. В России как государстве с федеративным устройством этот ценностный конфликт усиливается разрывом между центро-периферийной (авторитарной) моделью управления и стремлением региональных сообществ отстаивать свои интересы и «право на идентичность». Таким образом, актуальность предлагаемого исследования обусловлена наличием противоречий между современной центро-периферийной (авторитарной) моделью, навязываемой федеральным центром, с ее ориентацией на сбалансированное социально-экономическое развитие субъектов РФ и ренессансом регионализма или либерализма, воспринимающимся региональными сообществами как начало региональной идентификации и поляризованного автономного регионального развития. Если несколько десятилетий назад эти процессы затрагивали прежде всего территории, которые принято называть фронтирными и «национальными», то сегодня, возможно, вслед за европейскими странами, они проявляют себя в регионах со срединным геополитическим положением, где воздействие глобализации может считаться косвенным и очаговым. Кроме этого, в настоящее время периферий-ность перестала рассматриваться как характеристика культурной отсталости, напротив, удаленные от центра регионы анализируются как обладающие дополнительными возможностями экономического и социокультурного развития [2]. Такой подход к феномену трансграничности и регионализма в современной России в какой-то степени переосмысливает национальный историко-культурный контекст и создает свой уникальный региональный дискурс. Цель данного исследования состоит в выявлении основных этапов и факторов формирования и трансформации такого явления, как регионализм, в 1990-2000-е гг. в России. В исследовательской литературе существует два базовых подхода к понятию «регионализм»: рассмотрение его как политической идеологии и как социокультурного явления [3. С. 14-16]. В первом случае под регионализмом подразумевается исторический или политический процесс, трансформирующий существующее пространство, - дробление суверенных государств на множество региональных единиц разного масштаба (так называемая «региональная дифференциация» [4]), где одной из основных действующих сил могут стать как региональные элиты, так и федеральная власть. С точки зрения второго подхода регионализм используется для обозначения ряда внутренних региональных социокультурных процессов, выражен- В.С. Воробьева 26 ных, как правило, в максимальной свободе культурного развития, что, по мнению некоторых авторов, может запустить процесс формирования новых региональных идентичностей и тем самым создать угрозу для социокультурного единства российского общества [3. С. 15; 5]. Оба этих подхода основаны на синтезе теорий «старого» и «нового» регионализма [6], в соответствии с которыми регионы формируются под воздействием множества факторов и условий и с помощью различных акторов политического или иного процесса. В данной статье регионализм будет пониматься как процесс возрастания субъектности регионов (региональной политической идентификации) на основании учета потребностей заинтересованных акторов. Понятие «регион», в свою очередь, исходя из специфики построения федерализма в 1990-2000-е гг. в России, будет трактоваться как пространственная единица, обладающая правом самоуправления и регионального участия на федеральном уровне в пределах того объема полномочий, которое определено Конституцией, федеральным законодательством и индивидуальными соглашениями между федеральными и региональными органами власти. Происходившие в России в конце 1980-х - начале 1990-х гг. процессы, связанные с реформированием российского общества, существенно изменили социально-экономическую и политическую ситуацию как в масштабах государства в целом, так и в регионах в частности. «Второе пришествие либерализма» в Россию в конце XX в. продемонстрировало актуализацию либеральных идей в условиях системного кризиса, что, в свою очередь, открыло возможность для ускоренного процесса регионализации страны. Получив право «брать столько суверенитета, сколько можно проглотить», как высказался Б.Н. Ельцин в Казани в 1990 г., региональные лидеры стали формировать собственную правовую, политическую и экономическую систему внутри отдельно взятого региона, входившего тогда в состав РСФСР. В то же время Б.Н. Ельцин предпринял ряд шагов по снятию угрозы для территориальной целостности страны, в числе которых: - подписание в марте 1992 г. федеративного договора [7], распространившего федеративные отношения на все регионы и закрепившего их положение в качестве 87 субъектов Федерации (договор не подписали Республики Татарстан и Чечня. - В.В.); - принятие в декабре 1993 г. Конституции РФ [8], заложившей основы российского федерализма. Отныне федеративное устройство страны было закреплено на законодательном уровне и основано на государственной целостности, единстве системы государственной власти, разграничении предметов ведения и полномочий и равноправии самоопределения народов в РФ; - прямые выборы в 1993 г. состава обеих палат нового парламента - Федерального Собрания, что за счет политического плюрализма способствовало дроблению политических сил; - подписание внутри федеральных договоров индивидуальных договоров о разграничении предметов ведения и взаимном делегировании полномочий между органами государственной власти РФ и субъекта федерации, что являлось признаком индивидуализации отношений и попыткой обеспечить элитный консенсус. Кроме этого, с целью фиксации сформировавшейся политической ситуации федеральные власти предложили политическим партиям и движениям (в том числе и региональным) подписать Договор об общественном согласии [9]. В нем содержался призыв достигнуть политической стабильности в обществе на основе соблюдения Конституции, уважения прав и свобод человека, принципов демократического государства, упрочить федеративное устройство, включая национальные отношения, преодолеть социально-экономический кризис и т.д. [Там же]. Эти шаги, с одной стороны, позволили достичь компромисса между центром и регионами, сместив баланс отношений в сторону последних, с другой -узаконили асимметричный характер федерализма, разделив субъекты РФ на неравные группы по объему политических и экономических прав. Такой федерализм некоторые исследователи называют «обособленным регионализмом», приведшим к юридической и экономической раздробленности страны [10.]. Можно выделить следующие факторы, способствующие появлению такого регионализма: 1) «двойственный федерализм», основанный на советской системе этнофедерализма, когда пространственная структура государства формируется одновременно и по национальному, и по территориально-административному принципу; 2) слабость центральной российской власти и существование большого разнообразия типов региональных политических режимов, некоторые из которых принимали все более авторитарные формы; 3) слабость и неразвитость автономного плюрализма в данной общественной системе, понимаемые как незрелость гражданского общества, которая привела к усилению автономии региональных лидеров; 4) появление региональных политико-экономических блоков, представленных различными комбинациями руководителей бывших государственных предприятий, представителей новых деловых кругов, аграрного сектора и сферы малого и среднего предпринимательства [Там же]. К этим факторам, по мнению автора данной статьи, необходимо еще добавить тот факт, что, несмотря на отсутствие в России «естественной среды» для либерализма, все же были проведены реформы, имевшие некую либеральную составляющую. Именно эти особые условия возникновения и развития либерализма в 1990-е гг. определили специфику становления и трансформации федерализма как формы государственного устройства. Поэтому связь федерализма (и одного из его признаков - регионализма) как процесса региональной идентификации и либерализма как политической идеологии прослеживается не только в сходстве идеологических принципов, основанных на свободе действий, приоритете интересов и самостоятельности субъектов. Несмотря на некоторые идеологические различия между либеральными партиями того времени -ДВР, «Яблока» и «Союза правых сил», - их позиции Феномен регионализма и региональной идентификации в России 27 в принципиальных вопросах государственного строительства совпадали: все три политических объединения выступали сторонниками «небольшого и эффективного государства», децентрализации власти на основе принципов реального федерализма и разделения властей [11, 12]. Это говорит о том, что именно либеральные партии и их сторонники стали главными популяризаторами «истинного» федерализма и регионализма. Таким образом, в 1990-е гг. Россия пережила первый процесс регионализации, когда на базе единого народнохозяйственного комплекса и однородного государственно-правового пространства возникло 89 субъектов федерации, каждый из которых получил в ведение большую часть экономических объектов, расположенных на его территории, сформировал собственную политическую и правовую систему. В итоге получилась ассиметричная федерация, которая характеризовалась разностатусностью ее субъектов, что в дальнейшем усугубило дисбаланс территориального развития страны. Кроме того, предоставив регионам значительную политическую и экономическую самостоятельность и позволив в ситуации «правового вакуума» самим решать различные политические и социально-экономические вопросы, первый Президент России сформировал модель, при которой центр всегда шел на уступки и делился своими полномочиями в обмен на политическую лояльность региональных элит. Для стабилизации политической и экономической обстановки и укрепления федерализма в России в 2000-е гг. президенту В.В. Путину необходимо было принимать решения относительно трансформации той модели отношений, которая складывалась на протяжении 1990-х гг., в сторону усиления федерального центра и ослабления региональных элит. Среди этих решений можно отметить следующие: - создание федеральных округов и введение института полномочных представителей, которые в пределах соответствующего федерального округа обеспечивают реализацию конституционных полномочий главы государства [13]. Полпреды стали своеобразными «контролерами» региональной ситуации; - введение института федерального вмешательства в регионах, прописанного в федеральном законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» [14]. Данный закон впервые вводил ответственность органов государственной власти субъектов федерации за нарушение Конституции РФ и федерального законодательства, а также означал демонтаж практики договорных индивидуальных отношений с регионами и введение единого стандарта по созданию органов государственной власти; - реформа Совета Федерации, которая значительно ограничила возможности губернаторов влиять на федеральное законодательство и «вернула» их обратно в регион. Взамен в качестве совещательных органов были созданы Г осударственный Совет для глав регионов и Совет законодателей для глав региональных парламентов; - приведение регионального законодательства в соответствие с федеральным, подразумевавшее восстановление единого конституционного пространства и выравнивание статусных различий между субъектами федерации; - реформа партийной системы, которая поспособствовала укреплению партии власти и фактическому исчезновению региональных партий; - изменение порядка формирования органов власти, включающее введение так называемого «мягкого назначения» глав регионов и на недолгое время переход к пропорциональной избирательной системе. В целом данные путинские реформы преследовали цель ослабления региональных элит и концентрации ресурсов в руках Федерального центра, что естественным образом способствовало стабилизации политической и социально-экономической обстановки, а также «выравниванию» статусов субъектов Федерации и наделению их ответственностью за нарушение федерального законодательства. Но, с другой стороны, регионы практически утратили возможности дальнейшего самоопределения, формирования региональной идентичности и принятия релевантных их интересам политических и социально-экономических решений. Такой федерализм некоторыми исследователями называется «управляемым федерализмом» [4], который основан прежде всего на экономической и политической целесообразности. Отдельного внимания заслуживает реформа по укрупнению регионов, в результате которой шесть автономных округов были включены в другие субъекты РФ. В региональных исследованиях существует четыре доминирующих модели формирования регионов [15. С. 51]: 1) средневропейская модель (регионы формируются в территориальных границах и социокультурных пространствах бывших феодальных земель); 2) североамериканская модель (регионы формировались в процессе заселения и при достижении определенной численности населения); 3) латиноамериканская модель (оформление региональных территорий путем установления границ между бывшими колониями европейских стран); 4) афро-азиатская модель (симбиоз границ бывших колониальных владений с административно-территориальным делением образовавшихся независимых государств). Если рассматривать историю административно-территориального устройства России, то сформированная модель, возможно, будет синтезом всех представленных. Также стоит учитывать феномен этнофедерализ-ма, который был упомянут выше, поскольку формирование на основании какой-либо титульной нации или нескольких наций является одним из главных принципов формирования федерализма в России и главным «ядром» регионализма. В настоящее время, помимо официального разделения нашей страны на 85 субъектов, пространство в соответствии с различными стратегическими документами [16] и федеральными законами разделяется на федеральные округа, экономические районы (а также их части внутри каждого региона) и макрорегионы, некоторые из которых не совпадают по границам. В.С. Воробьева 28 Необходимость «искусственной нарезки» страны на более крупные формирования, чем субъекты федерации, обусловлена различными целями, касающимися национальной безопасности, экономической целесообразности, оптимизации управления и возможности горизонтальной интеграции. Последний процесс подразумевает отсутствие границ и барьеров при решении различных актуальных для нескольких близлежащих регионов вопросов и реализации межрегиональных проектов В современной России интеграция может складываться разными путями: интеграция «снизу» для преодоления социально-экономической депрессивности и / или лоббирования региональных интересов в федеральном центре (в качестве примера можно привести «Сибирское Соглашение», которое создавалось еще в 1990-е гг., или «Енисейскую Сибирь», которая возникла три года назад) и интеграция «сверху» для укрупнения вертикали власти и институционализации взаимоотношений. Кроме того, в качестве целей пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 г. определены обеспечение устойчивого и сбалансированного пространственного развития Российской Федерации, направленного на сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни населения, ускорение темпов экономического роста и технологического развития, а также обеспечение национальной безопасности страны [17]. Данные приоритеты указывают на наличие проблем, связанных с фактическим неравенством социально-экономических условий проживания при юридическом равенстве субъектов федерации. Исходя из этого понимания, автором данной статьи все субъекты РФ были схематично разделены на следующие типы: - «проблемные регионы» и «регионы особого внимания (геостратегические)», где федеральным центром проводится выравнивающая региональная политика, направленная на снижение социально-экономических диспропорций, устранение дефицитов и защиту национальных интересов в основном за счет межбюджетных трансфертов и принятия специальных территориально -ориентированных решений относительно отдельно взятых групп регионов; региональная власть при этом безынициативна; - «локомотивы развития» и «опорные регионы», где региональная политика проводится преимущественно федеральным центром и состоит в создании особых условий для диверсификации или развития экономики с учетом, как правило, интересов государства и госкорпораций (производство и переработка сырья); в таких регионах часто возникают региональные конфликты по линии «власть-общество»; - «регионы - полюса роста», где проводится поляризованная селективная политика, основанная на интересах и конкурентных преимуществах самих регионов. Такие регионы четко осознают свои цели, потребности и возможности и имеют стратегию развития, которая содержит проекты и мероприятия, направленные на устойчивое социально-экономическое развитие и повышение благосостояния жителей. Федеральный центр в этом случае заинтересован в концентрации ресурсов в этих регионах, в создании территорий особой функциональной ориентации или территорий с особыми режимами хозяйствования и внешнеэкономической деятельности, но при этом региональная политика отдана полностью в руки региональной элиты. Данные три модели отношений «федеральный центр - регионы» при проведении региональной политики сформировались еще в 1990-е гг., однако тогда и выравнивающая, и поляризованная политика применялись ко всем регионам, а не как сейчас - к отдельным группам регионов. С одной стороны, политика бюджетного выравнивания усугубила социально-экономическую дифференциацию регионов, что повлекло за собой политическую слабость и безынициативность «бедных» регионов, а с другой - политика поляризованного развития заставила регионы конкурировать между собой за ресурсы и федеральные преференции. В настоящее время в связи с влиянием пандемии анализ региональной политики сводится лишь к экономической составляющей, а именно к обоснованию стабилизационной политики как основного фактора роста экономики, эффективности и повышения производительности труда. Однако те регионы, которые уже добились высокого социального и экономического благополучия, и те регионы, в которых региональная общественность «берет власть в свои руки», меняют свои приоритеты в сторону все большей активизации внутреннего политического развития, основанного уже на иной модели отношений, в чем-то похожей на модель «обособленного регионализма». Именно «регионы - полюса роста», где проводилась поляризованная селективная политика, основанная на интересах и конкурентных преимуществах регионов, с точки зрения либеральной теории способны перезапустить процесс регионализации, остановившийся в середине 2000-х гг. Решение этих задач предполагает обращение к еще одному феномену - «эндогеннму развитию», включающему в себя такие понятия, как «региональный потенциал», «факторы внутренней среды» и «региональная конкурентоспособность». В настоящее время эти термины используются преимущественно в экономической научной литературе, поэтому исследователи связывают феномен «эндогенного развития» с региональными экономическими интересами, уровнем развития региональных социально-экономических институтов и стратегиями социально-экономического развития регионов. Иной - исторический и политологический -взгляд на данные процессы позволит выявить региональные особенности политической (управленческой) модели развития, целевые установки и приоритеты акторов региональной политики, потребность и возможность регионов к повышению субъектности и самоидентификации. Необходимо принять во внимание также и то, что в настоящее время изменился подход к пониманию термина «регион». В 1990-2000-е гг., исходя из специфики становления федерализма в России, данный термин был тождествен субъекту федерации (административной единице первого порядка). Сейчас значение данного термина существенно усложнилось, и вместо Феномен регионализма и региональной идентификации в России 29 описания границ конкретной территории он объясняет свойства, функции, деятельность, сущность пространства. Кроме того, термины «регион» и «регионализм» напрямую связаны с феноменом трансграничности как определенного состояния / качества пространства, его экономических, социокультурных либо исторических связей [18], поскольку их интерпретация движется в сторону «размывания» и так называемой «проницаемости» границ [1, 2]. Такой подход не означает, что речь идет про очередную волну дезинтеграции, напротив, проводимая федеральным центром политика относительно деления пространства страны нацелена на укрупнение и интеграцию регионов, основанные на принципах политической и экономической целесообразности. Это дает шанс возникновению «сильных» макрорегионов, способных на изменение конфигурации взаимоотношений «центр-регионы» в современной России в сторону регионализации.
Демешкина Т.А., Дутчак Е.Е. Социокоммуникативное пространство трансграничья: модель реконструкции культурно-языкового ландшафта Сибири // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2020. № 67. С. 28-44.
Кучинская Т.Н. Трансграничный регион как форма социокультурного пространства: в поисках когнитивной модели исследования // Совре менные проблемы науки и образования. 2011. № 6. URL: https://science-education.ru/ru/article/view?id=5045 (дата обращения: 10.10.2021).
Щипков В.А. Регионализм как идеология глобализма. М. : МГИМО-Университет, 2017. 188 с.
Туровский Р.Ф. Политическая регионалистика. М. : Изд. дом ГУ-ВШЭ, 2006. 792 с.
Ионин Л.Г. Восстание меньшинств. СПб. : Университетская книга, 2013. 237 с.
Schmitt-Egner P. The concept of “region”: theoretical and methodological notes on its reconstruction // European Integration. 2002. Vol. 24, № 3. P. 179-200.
Федеративный договор (Москва, 31 марта 1992 г.) // Сайт Конституции Российской Федерации. URL: http://constitution.garant.ru/act/federative/170280/ (дата обращения: 10.10.2021).
Конституция Российской Федерации : (принята всенар. голосованием 12 дек. 1993 г.) // Сайт Конституции Российской Федерации. URL: http://constitution.garant.ru/ (дата обращения: 10.10.2021).
Об общественном согласии : договор от 28.04.1994 // Кодификация РФ. URL: https://rulaws.ru/acts/Dogovor-ot-28.04.1994/(дата обращения: 10.10.2021).
Саква Р. Российский федерализм на перепутье // Сравнительное конституционное обозрение. 2005. № 1 (50). С. 173-182.
Малинова О.Ю. Либерализм в политическом спектре России. URL: http://www.yabloko.ru/Publ/Liber/olga.html (дата обращения 15.10.2021).
Российский либеральный манифест 2001 г. // Фракция СПС в Государственной Думе : архивный сайт. URL: http://www.duma-sps.ru (дата обращения: 15.10.2021).
О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе : указ Президента РФ от 13.05.2000 № 849 (ред. от 04.02.2021) // КонсультантПлюс : справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_23329/ (дата обращения: 10.10.2021).
Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации : федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ // КонсультантПлюс : справ. правовая система. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_14058/ (дата обращения: 10.10.2021).
Доленко Д.В. Территориальное устройство общества и политическая власть : дис.. д-ра полит. наук. М., 1995. 241 с.
Документы стратегического планирования // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/strateg_planirovanie/dokumenty_strategicheskogo_planirovaniya/(дата обращения 15.10.2021).
Стратегия пространственного развития Российской Федерации на период до 2025 года // Министерство экономического развития Российской Федерации. URL: https://www.economy.gov.ru/material/directions/regionalnoe_razvitie/strategicheskoe_planirovanie_prostranstvennogo_razvitiya/strategiya_prostranstvennogo_razvitiya_rossiyskoy_federacii_na_period_do_2025_goda/(дата обращения 15.10.2021).
Трансграничный регион: понятие, сущность, форма / науч. ред. П.Я. Бакланов, М.Ю. Шинковский. Владивосток : Дальнаука, 2010. 276 с.
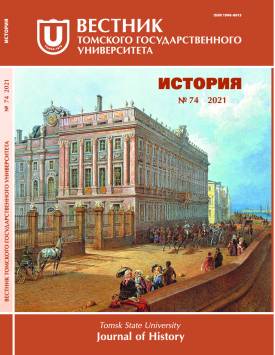

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью