На основе исследовательской литературы решаются теоретические и практические проблемы третьей роли высшей школы. Подчеркивается, что по мере развития вузов г. Томска происходило постепенное смещение акцентов проявления третьей роли от городского пространства к региональному и макрорегиональному. Делается вывод о том, что выполнение третьей роли томскими вузами в рассматриваемый период позволило им стать неотъемлемой частью процессов культурного и промышленного развития края.
Theory and practice of historical research of the third role of higher education (on the example of universities in Toms.pdf Введение На сегодняшний день подавляющее большинство исследователей высшей школы признают, что вузы функционируют в условиях изменившейся реальности и уже не могут ограничиться теми ролями, которые они играли 50 лет назад. Часть ученых (преимущественно экономисты и управленцы) считают, что на этапе расширения цифровой экономики и стремительного роста конкуренции за ресурсы вузы должны следовать за рынком, активно развивая предпринимательскую составляющую [1-3]. Другие исследователи (по большей части представители социальных и гуманитарных наук) ставят вопрос шире и говорят о кризисе самой идентичности университета, размывании его ценностного ядра [4-5]. Констатируя это, некоторые представители высшей школы ностальгируют по традиции автономной университетской корпорации, другие же высказывают мысли о переформатировании университета в некое иное пространство, в котором, например, «мышление является совместным процессом, не предполагающим ни идентичность, ни единство» (в плане принадлежности индивида к национальной культуре) [6. С. 247]. Взаимосвязь указанных проблем можно выразить следующим вопросом: как высшему учебному заведению (в особенности - университету) успешно функционировать и конкурировать в современном обществе не разрушив при этом собственное «ценностное ядро»? Решению этой проблемы был посвящен ряд исследований, в частности работа Я.И. Кузьминова [7]. Проблема поиска высшей школой ответов на вызовы времени имеет прямое отношение к дискуссии о сущности третьей роли вузов, под которой разные исследователи подразумевают далеко не одинаковые смыслы. Их объединяет, впрочем, понимание ее как роли, выходящей за пределы преподавания и производства научных исследований, и как роли, имеющей региональный характер [8]. Региональный акцент третьей роли характерен и для отечественной науки. Ведущие исследователи в этой области Н.А. Медушевский и О.В. Перфильева отмечают: «...исходя из вариативности национальных практик развития университетского образования, можно предположить, что выделение единой статичной модели “третьей роли” в деятельности университетов в принципе невозможно, и она всегда будет характеризоваться выраженной “локальной” спецификой» [9]. Разделяя указанную оценку, отметим, что локальность научно -образовательного пространства имеет историческое измерение и должна изучаться методами исторической науки для более полного понимания ее особенностей. Помимо исследований третьей роли высшей школы на современном этапе, многие авторы предпринимали попытки изучения данного феномена на различных кейсах (отдельные вузы, конкретные исторические периоды). Наиболее комплексным, но не исчерпывающим, стало изучение аспектов и форм реализации третьей роли в дореволюционных университетах России. Так, на материале четырех университетов (Санкт-Петербургского, Московского, Казанского и Юрьевского) в коллективной монографии «Университет и город в России в начале ХХ века» авторами была предпринята попытка изучения влияния университетов на города и городские сообщества в начале XX в. [10]. С.И. Посохов на материалах Московского, Казанского и Харьковского университетов с середины XVIII до середины XIX в. рассмотрел различные форматы и модели связей между университетом и городом через механизмы саморепрезентации университета, иссле- Теория и практика исторического исследования третьей роли высшей школы 67 довал взаимоотношения университета с местным обществом, а также участие университета в формировании нового облика города [11]. Отметим также, что история эволюции третьей роли региональных вузов в современной отечественной историографии практически не разработана, за исключением ряда исследований. Причина этого заключается в том, что история высших учебных заведений писалась историками вне учета значимости третьей роли как отдельной, заслуживающей пристального внимания формы деятельности. Отсутствие данного акцента, однако, отчасти было нивелировано комплексностью исследований, когда историки писали о любой деятельности представителей высшей школы. В данной статье предпринимается попытка исследования третьей роли учреждений крупного регионального научно-образовательного комплекса России - вузов г. Томска. Несмотря на трудности, с которыми им пришлось столкнуться в 1990-е гг., они смогли не только относительно успешно адаптироваться к новым политическим и экономическим реалиям, но и участвовать в реализации ряда инновационных программ развития региона в конце 1990-х - начале 2000-х гг., в том числе Томской особой экономической зоны технико-внедренческого типа. Это обусловливает привлекательность изучения истории томских вузов в попытке найти объяснение их успеху на современном этапе. В фокусе работы - дореволюционный и советский периоды истории вузов г. Томска. Нижняя хронологическая граница исследования датирована в 1878 г. -годом образования Императорского Томского университета - первого университета в азиатской части Российской империи. Верхняя хронологическая граница исследования обозначена 1945 г., за рубежом которого начинается новый этап развития мировой и сибирской науки. Исторический акцент проблематики позволит проследить генезис и эволюцию форм, подходящих под определение третьей роли высшей школы. Исходя из вышесказанного, целью данного исследования являются выявление и интерпретация проявлений третьей роли томских вузов в конце XIX - первый половине XX в. Предметом исследования стали действия представителей учебных заведений г. Томска, имевших статус высших в рассматриваемый период: Томского государственного университета, Томского политехнического университета, Сибирского государственного медицинского университета, Томского государственного педагогического университета. Приведенные названия являются современными и даны исключительно ради удобства формулировки предмета исследования. Каждое из указанных учреждений на разных этапах истории носило разные наименования. Далее в тексте в наряду с историческими наименованиями в скобках будут указываться современные. Данная работа в значительной степени базируется на уже имеющихся исследованиях и скорее переносит исследовательские акценты, инкорпорируя полученные результаты в теоретическую модель, нежели преследует своей целью введение в научный оборот новых источников. Ввиду этого данное исследование во многом носит обзорный характер. В то же время новизна исследования видится не только в выявлении ряда аспектов исследования третьей роли (например, разбор самого понятия третьей роли применительно к истории высшей школы), но и в теоретическом обобщении богатого эмпирического материала. Работа состоит из теоретической и практической частей. В первой дается авторское понимание третьей роли в истории высшей школы, а также предлагается теоретическая матрица по интерпретации действий, попадающих под заявленное авторами определение третье роли и ее форм. Вторая часть ориентирована на выявление действий в области третьей роли томских вузов в рассматриваемый период на конкретном историческом материале. Понятие третьей роли применительно к истории высшей школы Как уже было сказано ранее, в исследовательской литературе имеется множество определений третьей роли высшей школы. Само возникновение термина в западной социологии стало признанием в интеллектуальных кругах усложнения системы взаимоотношений между вузом, государством, бизнес-структурами и обществом, а также необходимости развития этой системы. Однако историк вынужден искать проявления третьей роли в прошлом, где этого понятия еще не существовало как такового. Поэтому во избежание модернизации предмета исследования историки говорят о социально-значимых функциях высшей школы, истоки которых они обнаруживают даже в Средневековье [9. С. 19]. На разных этапах истории эти функции были различными, а взаимосвязь между прошлым и настоящим носила в таком случае условный характер. В процессе работы перед историками неизбежно встает дилемма о правильной трактовке действий представителей высшей школы. Широкая трактовка подразумевает, что к третьей роли относится практически любое действие, ориентированное на региональное и / или национальное развитие (например, участие профессора в местном самоуправлении, в военных действиях и др.). В таком случае работа на историческом материале вызывает неизбежные трудности, так как у исследователя всегда будет соблазн включить в третью роль как можно больше действий, чтобы оправдать значимость предмета своего исследования. С другой стороны, придерживающийся такой трактовки исследователь быстро обнаружит, что каждый человек в обществе может играть свою третью роль, поскольку он так или иначе может работать на благо национального и локального. В результате широкая трактовка размывает привязку третьей роли непосредственно как роли высшего учебного заведения. Поэтому, на наш взгляд, более приемлемой является узкая трактовка третьей роли высшей школы, включающая в нее действия, непосредственно вытекающие из характерных только для нее ролей: образования и науки. Отсюда мы будем понимать под третьей ролью высшего учебного заведения ориентированную на национальное и региональное развитие совокуп- В.В. Расколец, А.Н. Сорокин 68 ность форм деятельности его профессорско-преподавательского и научного составов, выходящую за пределы преподавания и научной работы, но опосредованную ими. При определении действий, относящихся к третьей роли, мы используем простое деление по формам: экспертно-консультационная, идейно-просветительская, меценатско-благотворительная, образовательная (связанная с различными курсами). Такая классификация представляется одинаково справедливой и для дореволюционного, и для советского периода. «Первородцы» Сибири. «Мессианский» характер деятельности томских вузов в условиях «культурного фронтира» С момента основания первого университета за Уралом в 1878 г. Томск позиционировал себя в качестве города высших учебных заведений и центра сибирского просвещения. Так его позиционировали и современники извне, дав городу название, удачно отражавшее его самоидентичность вплоть до сегодняшнего дня, - «Сибирские Афины». «Первородцем» высшего образования и науки Томска стал Императорский Томский университет (ИТУ) -первый университет в Азиатской части России и одиннадцатый на просторах Российской империи. Уже в речи его устроителя Ф.М. Флоринского отразилась несомненная важность университета для сибирского края, далеко выходящая за пределы его прямых обязанностей - обучения студентов и проведения научных исследований: "...университет, - отмечал он, - есть великая нравственная сила, питомник разума, источник умственного света, разливающегося на страну. Это духовное солнце, восходящее над холодной Сибирью и долженствующее согреть и оживить ее, разбудить дремлющие силы» [12. С. 13]. Концепт «дремлющих сил» Сибири «красной нитью» проходит сквозь дискурсы томских ученых, профессоров и преподавателей, отчетливо проступая в наиболее сложные периоды истории государства. Последующие за Томским университетом высшие учебные заведения также полагали, что они являются первыми. Основанный в 1896 г. Томский технологический институт (современный Томский политехнический университет) справедливо считал себя первым высшим техническим заведением за Уралом, а выделившийся из ТГУ в 1930 г. Томский медицинский институт -первым медицинским учреждением в области высшего образования. «Первородство» томских вузов во многом обусловливало присущее представителям высшей школы Томска «просветительское мессианство», ставшее частью корпоративной идентичности вузовской корпорации. Все это рождало ощущение не только особого места Томска в научно-образовательном пространстве Российской империи, но и положения города в качестве центра сибирского просвещения (по отношению к огромной территории Сибири) и одновременно в качестве «культурного фронтира» (с точки зрения центр-периферийных отношений). И тот и другой аспект имеют важное значение для понимания третьей роли высших учебных заведений города. В наибольшей степени «просветительское мессианство» было характерно для Императорского Томского университета, образованного по типу модели В. Гумбольдта. С приходом советской власти миссия вузовского сообщества Томска претерпевает определенную трансформацию, связанную в первую очередь с индустриализацией и вовлечением региональных вузов в масштабный проект советской модернизации догоняющего типа. Мы согласны с выводом А.О. Степнова, согласно которому начиная с 1920-х гг. в среде томского научного сообщества и вузов города шел процесс перехода от «идеологии науки», ориентированной на просветительскую миссию, к технологизации его предназначения (неслучайно в связи с этим появление метафор «кузница кадров» и «мастерская работников»). Профессорско-преподавательский состав и научные работники стали видеть себя в новом социальном качестве - носителями идеи служения промышленному покорению региона. Кульминацией этого пафоса стала Великая Отечественная война, когда вузовское сообщество взяло на себя миссию «Хранителей Северной Азии» [13. С. 32]. Тогда же часть сообщества окончательно примиряется с властью, и «долгая Гражданская война» в умах томской интеллигенции подходит к своему завершению. Описанные нами явления не повлияли на формы проявления третьей роли томских вузов, которые, как нам кажется, вполне могут иметь место и в других вузах, однако оказали влияние на степень их вовлечения в территориальное развитие. Формы проявления третьей роли вузов г. Томска в 1888-1914 гг. По мнению исследователя дореволюционных университетов Российской Империи М.Г. Грибовского, «именно город и горожане стали объектом приложения усилий университетского сообщества, которые... к концу XIX в. приобрели ряд устойчивых форм» [14. С. 448]. М.В. Грибовский посвятил свое исследование императорским университетам, однако выводы, полученные им, правомерно распространять и на другие высшие учебные заведения (в нашем случае - Томский технологический институт, ТТИ), поскольку выделенные им формы взаимодействия университета и города не отличаются какой-либо спецификой, обусловленной сущностью классического университета: университет, с одной стороны, являлся феноменом городской культуры, с другой - согласно уставам (1835 г. и последующим) университеты переставали играть роль центров учебных округов, которые могли охватывать и несколько губерний. Применительно к провинциальным городам, коим являлся и Томск, роль университетского сообщества для развития города усиливалась. Власть здесь не располагала значительными административными, экономическими, людскими и интеллектуальными ресурсами. В таких условиях авторитет профессора-ученого приобретал особую значимость, он становился не просто «распространителем наук», но приобретал каче- Теория и практика исторического исследования третьей роли высшей школы 69 ственно новые социальные роли, становясь экспертом, общественным деятелем, благотворителем и др. Этому способствовала специфика периода конца XIX - начала XX в., когда в Российской империи усилились низовые формы самоорганизации общества, расширилась инициатива распространения просветительской деятельности и популяризации научного знания. Экспертно-консультационная деятельность представителей Томского университета, образованного первоначально в составе одного медицинского факультета, имела соответствующий уклон. Для медиков ИТУ (а впоследствии и ТМИ) научная работа тесно соприкасалась с консультационной, когда, например, в ходе проведения экспедиций и экскурсий ученые не только добывали клинический материал для своих исследований, но и давали рекомендации больным, назначая лечение и т.д. На практике это выразилось в участии представителей ИТУ (в разные годы работали профессора Ф.А. Ерофеев и С.В. Лобанов, ординаторы факультетской клиники Н.Л. Троицкий, А.П. Вла-дыченский и В.М. Остроумов) на протяжении ряда лет (1894, 1906-1908, 1910) в работе Окулистических отрядов Попечительства императрицы Марии Александровны о слепых. Работа этих отрядов охватывала обширную территорию Томской губернии, включавшей на тот момент территории Кемеровской и Новосибирской областей, Алтайского края и Республики Алтай. В ходе работы этих отрядов проводились глазные операции, оперативные пособия, а население обеспечивалось лекарствами [15. С. 421-427]. В похожей ситуации находились терапевты ИТУ, усилия которых на протяжении долгих десятилетий были направлены на изучение сибирских курортов, однако это относились к научной стороне дела. На практике же медики (П.В. Буржинский, М.Г. Курлов, П.П. Орлов, позднее Н.В. Вершинин) не только вели исследования, например химического состава вод и грязей на курортах, но и активно разрабатывали вопросы по их рациональному обустройству с целью широкой доступности основной массе населения и в конечном итоге создания альтернативы дорогостоящим европейским курортам. Эта работа была настолько востребованной, что развивалась и в годы Гражданской война и в последующий советский период. Сотрудники Томского технологического института активно консультировали сибирскую промышленность, в особенности горную и железоделательную. Постоянными консультантами были талантливые сотрудники ТТИ геологи В.А. Обручев, М.А. Усов, П.П. Гудков, металловеды Н.В. Гутовский, Н.П. Чижевский, В.Я. Мостович, Н.С. Пенн и др. Например, геолог П.П. Гудков в декабре 1910 г. по поручению Русского золотопромышленного общества участвовал в проведении геологической экспертизы группы Мариинских золотых рудников Томского горного округа, летом 1911 г. - группы Берикульских, Сараильских приисков Ачинского горного округа. В июне 1912 г. по поручению того же общества совместно с М.А. Усовым он провел исследование и экспертизу рудников Оренбургского горного округа. По поручению Акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей с 1914 г. по 1917 г. П.П. Гудков ежегодно выезжал для исследования Тельбесских железорудных месторождений. Консультантом Акционерного общества Кузнецких каменноугольных копей с 1913 г. являлся Н.В. Гутов-ский. По поручению этого общества он изучал возможность создания в Сибири крупного завода по производству черных металлов и вел необходимые подготовительные работы. В 1915 г. он выбрал так называемую Горбуновскую площадку, где впоследствии и был построен Кузнецкий металлургический комбинат. Известный геолог ТТИ М.А. Усов совместно с В.А. Обручевым участвовал в экспертизе Ононского и Илинского золотых рудников в Забайкалье. В январе 1914 г. М.А. Усов произвел геологическое обследование золотых рудников акционерного общества «Колчедан» в районе Челябинска, а летом того же года по поручению акционерного общества «Монголор» исследовал Кентайские золотоносные месторождения в Северной Монголии [16. С. 262]. Просветительская работа представителей вузов проявлялась многоаспектно. Преподаватели ИТУ читали публичные лекции в университете и за его пределами (например, в театрах). Тематика лекций при этом зависела не только от научных интересов профессоров и преподавателей, но и, например, от их увлечений (музыка, изобразительное искусство и т.д.), а также диктовалась обстоятельствами времени (например, русско-японской войной, Первой мировой войной). Специфика публичных лекций заключалась зачастую в их региональном (краевом) характере, на что обратил внимание в своих исследованиях С.А. Некрылов. В частности, он привел в пример публичные лекции на сибирские темы профессоров Н.Ф. Кащенко («О плодоводстве в Томском крае», «О гадах Томского края», «Некоторые сведения о климате Томска»), В.В. Сапожникова («Русский Алтай», «Монгольский Алтай»), И.А. Малиновского («Ссылка в Сибирь»), Э.А. Лемана («О минеральных водах Томской губернии») и др. Для организации лекций регулярно организовывались сибирские вечера, на которых выступали профессора ИТУ (М.Н. Соболев, М.И. Боголепов, М.А. Рейснер и др.) [15. C. 231, 270]. Помимо устных выступлений профессора и преподаватели неоднократно выступали в печати, писали заметки просветительского и образовательного характера. Представители вузов Томска широко участвовали в акциях благотворительности и сами выступали в качестве меценатов, хотя не все из них относились к состоятельной прослойке населения. Они оказывали материальную помощь студентам своих вузов, вносили средства на укрепление материальной базы кафедр и лабораторий, принимали участие в пополнении фондов вузовских музеев и библиотек, финансировали за свой счет научно-исследовательские экспедиции и экскурсии студентов, работали в составе благотворительных обществ (например, в Томском отделении Российского общества Красного Креста). Так, профессор ИТУ С.И. Коржинский безвозмездно передал музеям коллекцию паразитных грибков для Ботанического музея (гербария), приват-доцент П.П. Пилипенко - В.В. Расколец, А.Н. Сорокин 70 3 208 образцов горных пород с Западного Алтая для Минералогического музея, профессор Э.Г. Салищев (по своему завещанию) - 975 томов книг университетской библиотеке. Большим успехом в университетских городах пользовались благотворительные вечера, проводившиеся с участием профессуры, которые проходили в виде публичных лекций, концертов и др. М.Г. Грибовский писал о празднике, проводившемся каждый год 22 октября: «...в день торжественного университетского акта проводились так называемые Студенческие вечера. Профессора получали почетные билеты и являлись на торжество вместе с женами и взрослыми дочерьми. По воспоминаниям современников, обычно зал был переполнен так, что публика стояла даже в проходах. Вечер начинался с выступления студенческого хора, который исполнял Gaudeamus. Затем начинался концерт. В антрактах профессорские дамы вели благотворительную торговлю шампанским, чаем, фруктами, цветами. Популярные среди студенчества профессора -М.Г. Курлов, Э.Г. Салищев, А.Е. Смирнов, В.В. Сапожников, М.Н. Соболев и другие - произносили речи. Средства, собранные на подобных вечерах, шли на благотворительные цели» [14. C. 477]. Формы проявления третьей роли вузов г. Томска в 1914-1921 гг. Годы Первой мировой войны, революции и Гражданской войны оказали местами благоприятное, но в целом достаточно разрушительное влияние на высшую школу и вузовское сообщество. Правительство Николая II, не рассматривавшего развитие высшего образования и науки в качестве ключевого приоритета развития мировой державы, было вынуждено пересмотреть свою политику уже через год после начала мировой войны, когда была создана Комиссия по изучению естественных производительных сил России (КЕПС). Последующее падение империи и приход к власти РСДРП(б), несмотря на социально-экономический кризис, способствовали дальнейшему пересмотру политики в области организации науки и доступности высшего образования для широких слоев населения. Внешнеполитические и внутриполитические конфликты привели к развалу экономики и хозяйства страны, а следовательно, ухудшили положение высшего образования, традиционно зависящего от материальной поддержки государства. Томские вузы почувствовали ухудшение своего положения особенно сильно с началом Гражданской войны, когда территория Сибири стала театром военных действий. Наиболее мощный удар пришелся по интеллигенции, материальное положение которой не особенно заботило воющие стороны. Однако перечисленные выше события привели к тому, что вузовское сообщество выработало собственные адаптивные стратегии выживания в условиях чрезвычайного времени. На практике это вело к организации новых высших учебных заведений, возникновению новых форм координации научных исследований, усилению тенденций взаимодействия между государственными институтами, экономическими агентами, общественностью и высшей школой. Приведенный выше пассаж необходим для констатации простого вывода - Первая мировая война и последующие за ней события перевернули представление о роли высшего образования и науки в стране в благоприятную сторону. Развитие этих сфер стало рассматриваться как неотъемлемая составляющая успешного национального возрождения и развития. В особенности это относится к Сибири, интеллигенция которой, осознавая потенциал сибирского края, давно вынашивала планы по развитию его культурных сил. С началом Первой мировой войны третья роль высшей школы значительно окрепла. Представители вузов в сфере точных и естественных наук стали постоянными консультантами при воюющих правительствах, представители гуманитарных и общественных стали играть большую роль в качестве идеологов войны. И те и другие активно участвовали в повышении квалификации кадров и переподготовке специалистов. Так, в городе был создан Комитет преподавателей высших учебных заведений города Томска по устройству лекций на нужды, вызванные военным временем. В начале 1915 г. комитет организовал серию публичных лекций, в частности профессоров ИТУ Г.Г. Тель-берга («Россия и проливы»), С.И. Солнцева («Война и народное хозяйство»), Н.Н. Топоркова («Война и психические заболевания») и др. В большей же степени учреждения Томска занимались не консультированием правительства, а работали в области организации узконаправленных научных исследований. На практике это выразилось в создании весьма эффективной Комиссии по вопросу об изыскании способов применения удушливых газов и о борьбе с ними. При Томском учительском институте (ныне ТГПУ) по инициативе Министерства народного просвещения в начале мая 1916 г. были организованы курсы по ускоренной подготовке преподавателей начальных и высших начальных училищ. Набор слушателей на курсы составлял до 60 человек. Учителей готовили по трем специальностям: естественно-географической, физико-математической и историко-филологической. К числу дисциплин теоретического цикла курсов относились такие, как педагогика, закон Божий, методика всех предметов курса, а также подробное знакомство с программами курсов высших начальных училищ. Практические занятия заключались в посещении высших начальных училищ, организации пробных уроков, проведении экскурсий и др.[17. С. 111-112]. Недельная нагрузка составляла около 24 часов изучения теоретических дисциплин и 4 часов практической работы. Что касается функции просвещения населения, то томские вузы не утратили ее даже с началом Гражданской войны. Вот как, например, выглядела тематика лекций, которые читались представителями ИТУ и ТТИ с 31 марта по 14 апреля 1918 г.: профессор С.И. Протасова - «Экономическое развитие древнего мира» (3 лекции); профессор С.П. Мокринский - «Основы уголовной политики»; профессор Э.В. Диль - «По Элладе: картины античной жизни»; профессор Н.И. Ле-порский - «Физиологическое значение овощей в пита- Теория и практика исторического исследования третьей роли высшей школы 71 нии»; профессор С.И. Гессен - «Идея демократии»; профессор В.В. Сапожников - География Сибири» (2 лекции); профессор А.Д. Григорьев - «Русские былины». Одну из лекций «Г еология Сибири» прочел и.д. ординарного профессора ТТИ М.А. Усов [15. С. 413]. Наряду с этим в аудиториях и актовом зале университетской библиотеки читались лекции для населения Томска. Профессор А.П. Поспелов прочитал лекцию на тему «Телеграфирование без провод» с демонстрацией новейших моделей, профессор С.И. Гессен - лекцию «Свобода как философская проблема», сборы с которой шли в пользу слушательниц Сибирских высших женских курсов. Профессора ИТУ работали и на укрепление престижа Российского правительства А.В. Колчака, участвуя в работе краткосрочных курсов для югославских и чешских воинских частей в г. Томске, организованных в середине июня 1919 г. Кроме того, представители гуманитарных наук ИТУ участвовали в организации краткосрочных курсов информаторов и агитаторов «противобольшевистского характера». Интеллигенция Томска оказала поддержку делу организации Народного университета, меценатом и идейным вдохновителем которого стал П.И. Макушин. Подобные народные университеты работали к тому времени во многих крупных городах России, обладавших научным и культурным потенциалом. Университет разместился в специально построенном для него здании (ныне - Дом науки им. П.И. Макушина). В 1919 г. это здание было передано эвакуированной в Томск Академии генерального штаба, а университет почти два года был вынужден ютиться по разным помещениям Томского университета и Томского технологического института. Здесь свои лекции читали сотрудники историко-филологического факультета. Тематика была весьма актуальной и тесно переплеталась с событиями, происходившими в России и за ее пределами. Профессор С.И. Гессен прочитал цикл лекций «Социализм, анархизм и коммунизм», профессор Пермского и приват-доцент Томского университета А.П. Дьяконов читал лекции на тему «Византизм как культурно -историческое явление». Профессор Э.В. Диль прочитал курс лекций по истории Эллады. Профессор П.Г. Любомиров выступил с двумя лекциями: «Смутное время на Руси» и «История русского освободительного движения». С установлением советской власти работа Народного университета в начале 1920 г. была прекращена. В годы революции и Гражданской войны в России общественность Сибири сумела реализовать идею о создании учреждения, призванного осуществлять научно-теоретические и научно-практические исследования в масштабах всего сибирского края. Оно получило характерное наименование - Институт исследования Сибири (ИИС). Совет ИИС полностью состоял из профессоров Томского университета и Томского технологического института, определявших его деятельность. С этой точки зрения ИИС можно рассматривать как проект, где ученые томских вузов получили возможность реализовать свои научные наработки, а также осуществлять деятельность, попадающую под определение третьей роли вышей школы. При этом на реализацию этих ролей работал потенциал не только представителей вузов Томска, но и исследователей, оказавшихся в Томске в результате событий Гражданской войны. ИИС удалось аккумулировать потенциал лучших умов Сибири, ученых европейской части России, государственных ведомств, общественных организаций, части сибирской промышленности и торговли. Третья роль ИИС воплотилась в ряде инициатив. Задача подготовки кадров наряду с задачами исследовательского характера была прописана в Положении об организации ИИС и в условиях многолетних военных действий и хозяйственной разрухи представлялась чрезвычайно злободневной. В этом контексте при институте были организованы курсы по подготовке исследователей природы С.С. Неуструева, направленные на интенсивное обучение сотрудников для проведения комплексных научных экспедиций и последующей обработки результатов. Члены отделов ИИС читали публичные лекции для населения и вели просветительскую работу. 9 октября 1919 г. с готовностью выступить со своими работами заявили Б.П. Вейнберг («Сводка определений магнитных склонений Сибири», «Магнитные исследования вообще и в Сибири в частности»), М.А. Великанов («Об исследованиях р. Томи», «О задачах гидрологического отдела», «Проект гидрологической лаборатории»), Я.И. Николин («Обзор материалов по исследованию грунтовых и почвенных вод в Сибири») и др. В.В. Сапожников прочитал лекцию о севере западной Сибири по материалам Обской экспедиции 1919 г., И.И. Подпера - лекции «Сибирские элементы во флоре Западной Евразии» и «Новейшие воззрения в систематике и морфологии бриофтов», С.С. Неустру-ев - «О задачах почвенных исследований Сибири» [18. C. 184]. Историко-этнологический отдел ИИС работал на благо сохранения культурного наследия Сибири, что выразилось в экспедициях и последующих заметках в сибирских газетах Б.П. Денике, посвященных деревянному зодчеству Сибири и вопросам его сохранения, а также в создании комиссии по охране томских архивов (председатель Н.Н. Бакай) и т.д. Сотрудники географического и промышленно-технического отделов ИИС осуществляли консультативную работу. Например, Н.П. Чижевский занимался химико-технологическим анализом каменного угля из Судженского месторождения для постановки и производства кокса. Члены географического отдела ИИС организовали при ТТИ службу времени, учреждение которой представлялась актуальным в связи с намеченным переходом к зональному времени [19. С. 148]. Упразднение ИИС летом 1920 г. помешало учреждению развернуть интенсивную программу по подъему производительных и культурных сил Сибири. Однако сам факт его основания отразил готовность представителей высшей школы в учреждении новых организационных форм, призванных работать на благо развития сибирского края. В.В. Расколец, А.Н. Сорокин 72 Формы проявления третьей роли вузов г. Томска в 1921-1941 гг. Установление советской власти на большей части территории Российской Империи ознаменовало начало нового этапа развития высшей школы. Советская идеология не отрицала необходимости развития образования и науки, рассматривавшихся в качестве важных сил на пути построения общества будущего. Однако дореволюционные учебные учреждения, где бал правила преимущественно консервативная и либеральная профессура, рассматривались новой властью враждебно. Часть политиков требовала полной ликвидации существующих университетов. Однако возобладала более умеренная точка зрения, сторонники которой настаивали на радикальном обновлении классового состава вначале студенчества, а затем и преподавателей. Начался переходный период 1920-х гг., когда вузы стали полем многочисленных организационно -структурных и идео лого-педагогических экспериментов. Тогда же наметились тенденции, характерные для сталинского периода развития высшей школы. Мы в целом солидарны с мнением ряда исследователей, выделивших в качестве основополагающих принципов советской системы высшей школы ее дисциплинарнопрофильное узковедомственное подчинение органам власти, ориентацию на удовлетворение нужд плановой экономики и индустриализации, исполнение преимущественно образовательной и частично научной роли при почти полном отсутствии влияния на «территориальное или культурное развитие» [20. С. 1415; 21. С. 25]. Кроме того, все вузы работали на правильное идеологическое воспитание и обеспечение «правильной» классовой и этнической репрезентации и мобильности. Томские вузы не стали исключением из описанных выше процессов. Однако даже беглый обзор развития третьей роли этих вузов позволяет выдвинуть возражение на тезис о том, что они, подобно другим высшим учебным заведениям, не оказывали ощутимого влияния на территориальное или культурное развитие. Впрочем, это развитие, как будет показано далее, находилось под влиянием задач, поставленных государством в области строительства народного хозяйства, а также культурных и идеологических аспектов создания «советского человека». Наглядно это влияние отразилось на идейно -просветительской работе томских вузов. Радикально изменилась ее тематика, которая уже не зависела от интересов преподавателей вузов, как это имело место в дореволюционный период. Например, в начале 1920-х гг. профессор А.П. Поспелов читал лекции на тему «Что такое электрификация РСФСР, ее задачи и будущность», профессор А.А. Кулябко - цикл лекций для студентов и учащихся средних школ о научной организации умственного труда, профессор Б.П. Вейнберг - лекцию «Есть ли предел материальному прогрессу человечества» [22. C. 64]. Консультационная и научно-просветительская работа Томского университета в 1920-е гг. велась в рамках крупных научных и научно-учебных подразделе ний университета: Ботанического сада и Гербария, музеев истории материальной культуры, зоологического, почвенного, минералогического и палеонтологического. Эти учреждения во второй половине 1920-х -1930-е гг. принимали многочисленные экскурсии школьников, учащихся техникумов и студентов вузов, а также трудящихся. С приходом советской власти деятельность представителей вузов не замкнулась на городе. Ученые медицинского факультета Томского университета в 1920-е гг. неоднократно выезжали в Кузбасс, где читали лекции и доклады о борьбе с туберкулезом, раком и другими болезнями и, пользуясь случаем, проводили профилактические консультации в лечебных учреждениях. Вклад преподавателей университета был признан в 1929 г., когда профессора П.Н. Крылов и М.Г. Курлов были избраны почетными шахтера
Иковиц Г. Модель тройной спирали // Инновации. 2011. № 4 (150). С. 5-10.
Галажинский Э.В. Третья роль университетов, или Роль вузов в региональном развитии // Социально-гуманитарные молодежные проекты университетов местному сообществу : материалы Всерос. науч.-практ. конф. с междунар. участием, 25-26 октября 2012 г. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2013. С. 54-59.
Видревич М.Б. Третья миссия университетов: какой мы ее видим? // Высшее образование в российских регионах: вызовы XXI века : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. (17 сентября 2018 г., УрФУ, Екатеринбург). Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2018. С. 88-95.
Иглтон Т. Медленная смерть университета. URL: https://scepsis.net/library/id_3672.html. (дата обращения: 30.08.2021).
Борисов С.В. «Миссия университета»: миф или реальность // Философия и наука. 2017. № 16. С. 37-47.
Ридингс Б. Университет в руинах / пер. с англ. А.М. Корбута; под общ. ред. М.А. Гусавского. Минск : Белорус. гос. ун-т, 2009. 248 с.
Кузьминов Я.И. Наши университеты // Экономика образования. 2008. № 4. С. 37-46.
Бенневорт П., Сандерсон А. Участие университетов в региональном развитии: создание потенциала в условиях малоинновационной среды // Вестник международных организаций. 2012. № 1 (36). С. 172-188.
Медушевский Н.А., Перфильева О.В. Интерпретация третьей роли вузов на современном этапе // Вестник РГГУ. Сер. Политология. Исто рия. Международные отношения. 2016. № 3. С. 19-31.
Университет и город в России в начале ХХ века / под ред. Т. Маурер, А. Дмитриева. М. : Новое литературное обозрение, 2009. 784 с.
Посохов С.И. Университет и город в Российской империи (вторая половина XVIII первая половина XIX вв.). Харьков : Харьковский нац. ун-т им. В. Н. Каразина, 2014. 364 с.
Флоринский Ф.М. Описание празднества, бывшего в г. Томске 26 и 27 августа 1880 года, по случаю закладки Сибирского университета. Томск : Тип. и литогр. Михайлова и Макушина, 1880. 226 с.
Степнов А.О. Научное сообщество Томска в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : дис. магистра ист. наук. Томск, 2017. 133 с.
Грибовский М.В. Профессорско-преподавательский корпус императорских университетов как социально-профессиональная группа российского общества. 1884 г. - февраль 1917 г. : дис.. д-ра ист. наук. Томск, 2018. 804 с.
Некрылов С.А. Томский университет первый научный центр в азиатской части России (середина 1870 х гг. - 1919 г.). Томск : Изд-во Том. ун-та, 2011. Т. 2. 598 с.
Профессора Томского политехнического университета : биогр. справочник / авт.-сост. А.В. Гагарин. Томск : Изд-во НТЛ, 2000. Т. 1. 300 с.
Войтеховская М.П., Кочурина С.А. Томский учительский институт: возвращенная история. 1902-1920 годы. Томск : Изд-во Том. гос. пед. ун-та, 2002. 239 с.
Расколец В. В. Организация и деятельность Института исследования Сибири (1917-1921 гг.) : дис.. канд. ист. наук. Томск, 2018. 347 с.
Расколец В.В., Сорокин А.Н. Деятельность географического отдела Института исследования Сибири и его вклад в развитие геодезии, геофизики и гидрологии сибирского края (июль 1919 г. - июнь 1920 г.) // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 425. С.147-155.
Кузьминов Я.И., Семенов Д.С., Фрумин И.Д. Структура вузовской сети: от советского к российскому «мастер-плану» // Вопросы образования. 2013. № 4. С. 8-69.
Лешуков О.В., Фрумин И.Д. Флагманские университеты: от советского опыта к поиску новой модели // Университетское управление: практика и анализ. 2017. Т. 21 , № 4. С. 22-29.
Литвинов А.В. Образование и наука в Томском государственном университете в 20-30-е гг. XX в. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2006. 156 с.
Томский политехнический университет. 1896-1996 : исторический очерк / под ред. А.В. Гагарина. Томск : Изд-во ТПУ, 1996. 448 с.
Фоминых С.Ф., Некрылов С.А., Литвинов А.В. и др. Томский комитет ученых во время Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.: исторический очерк // Томский комитет ученых в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. : документы и материалы / отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск : Изд. Дом ТГУ, 2015. С. 9-39.
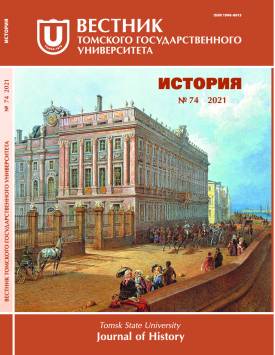

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью