Князь Е.Н. Трубецкой и решение «университетского вопроса»
Проанализирована эволюция взглядов князя Евгения Николаевича Трубецкого по «университетскому вопросу». На основе архивных документов и материалов периодической печати рассмотрено его участие в обсуждении различных проектов университетского устава в начале XX в., в период активного сопротивления профессуры и студенчества государственной политике в области высшего образования. Показано, что его публицистические статьи получили широкий общественный резонанс, особенно среди студентов.
Prince E.N. Trubetskoy and the decision of the “university question”.pdf Изучение творческого наследия Е.Н. Трубецкого (рис. 1) сфокусировано в основном на его философскорелигиозных воззрениях [1-4]. Общественно-политической деятельности ученого посвящено лишь несколько работ отечественных историков [5-7]. Исследователями выделен и описан период его политической активности, который пришелся на 1906-1910 гг., когда Е.Н. Трубецкой участвовал в работе Партии мирного обновления и противодействовал революционным настроениям, считая, что государство должно развиваться эволюционным путем. Участие ученого-юриста в решении университетского вопроса осталось за пределами области внимания историков, хотя его яркие выступления в прессе имели большой резонанс среди современников. Эту сторону его деятельности даже изобразили в карикатуре «Одобрение, обвинение и защита» (рис. 2) [8]. На рисунке мы видим три фигуры князя Е.Н. Трубецкого с непропорционально большой головой (этот прием часто использовали карикатуристы) на фоне людей, которые значительно меньше главного героя, что придает ему значимость и обращает особое внимание зрителей. Автор иронизирует над князем, опубликовавшим в «Русских ведомостях» открытое письмо о проекте университетского устава, а именно над преувеличением собственных заслуг в защите университетской автономии. Что является в рисунке исторической достоверностью, а что мифом, попробуем выяснить, рассмотрев деятельность Е.Н. Трубецкого в решении пресловутого университетского вопроса на фоне социальнополитических преобразований в России начала XX в. Рис. 1. Князь Евгений Николаевич Трубецкой (1863-1920) Рис. 2. Карикатура на Е.Н. Трубецкого [Там же] По своему образованию Е.Н. Трубецкой был юристом. Он окончил в 1885 г. Императорский Московский университет со степенью кандидата права, после чего преподавал юридические дисциплины в Демидовском юридическом лицее (Ярославль) в 1886-1892 гг., в Киевском (1892-1906) и Московском университетах (1906-1910). Кроме правоведения его интересовали вопросы религиозной философии и богословия. Он связал принципы христианства с правовой культурой, которая сложилась в различных церковных традициях. Анализу религиозно-философских воззрений Западной Европы были посвящены его диссертации: в 1892 г. он защитил магистерскую диссертацию [9], а в 1897 г. -докторскую [10]. Зная изнутри проблемы высшей школы, Е.Н. Трубецкой принимал активное участие в обсуждении проектов университетских уставов. К началу XX в. в обществе назрела острая необходимость в демократизации высшего образования. Университеты работали еще по Уставу 1884 г., который уже устарел и требовал существенной доработки. Николай II был настроен категорически против всякого рода уступок университетской корпорации. В.П. Яковлев отмечал, что последний российский император в отношении университетов был полной противоположностью первому российскому императору - Петру I, который всячески способствовал становлению и процветанию науки и образования [11]. Николай II часто уклонялся от участия в решении су- Р.А. Фандо 80 деб российских университетов, сократил их финансирование и ужесточил надзор за свободолюбивым студенчеством. В 1899 г. состоялась первая всероссийская студенческая забастовка, которая изменила ход университетской жизни в России. В аудиториях разбрасывались прокламации, происходили сходки, которые начинались и оканчивались лозунгами за свержение верховной власти и пением революционных песен. Профессоров часто просто выставляли из аудиторий, срывались учебные занятия, причем иногда на длительное время. Революционно настроенная молодежь требовала срочных перемен в укладе университетской жизни и расширения прав студентов. В 1901 г. произошло громкое убийство Министра народного просвещения Н.П. Боголепова, которого сменил на министерском посту 80-летний П.С. Ванновский. Новый министр издал Временные правила о студенческой организации, согласно которым она могла быть создана только под контролем администрации учебного заведения. Одновременно он начал работу по подготовке нового университетского устава, поэтому обратился к университетским советам с просьбой вносить предложения по основным пунктам представленного документа. Университетские советы и попечители учебных округов высылали свои соображения по основным пунктам нового устава. Бурную реакцию с их стороны вызвали предложенные министром изменения в деятельности университетской инспекции. Большинство попечителей и представителей университетских советов считали, что функция инспекций, регламентированная Уставом 1884 г., не соответствует ее назначению и основным задачам. Томский университет видел в университетской инспекции плод правительственного недоверия к университетам, на что указывали факты слежки за студентами со стороны посторонних университету лиц. В этом замечании Томский университет поддержали советы Варшавского и Новороссийского университетов [12]. Деятельность инспекций, по мнению многих профессоров, была недостаточно организована. Согласно ст. 46 Устава 1884 г. инспектор студентов должен был определяться на должность Министром народного просвещения по представлению попечителя учебного округа. Кроме того, ст. 47 того же устава гласила, что инспектор, хотя и подчиняется в своих действиях ректору, тем не менее состоит под непосредственным начальством попечителя [13]. Таким образом, инспектор был поставлен в независимое положение, так как мог ходить к попечителю учебного округа самостоятельно с докладом, минуя ректорат. В работе университетов сложилось двоевластие: ректоры и инспекторы часто не могли найти общего решения по ряду злободневных проблем. На ситуацию ослабления власти ректора проявлением самостоятельных действий со стороны университетской инспекции указывали советы Петербургского, Киевского, Юрьевского и Харьковского университетов. Согласно ст. 40 устава кроме ректора и деканов всех факультетов в состав правления университетов должны были входить инспекторы и, соответственно, принимать участие в решении студенческих, образовательных и хозяйственных вопросов. Правление выполняло также судейские функции по отношению к студентам [Там же]. В результате инспекторы являлись одновременно и следователями, и обвинителями, и судьями. Недостатки университетских инспекций еще больше усугублялись невыполнением на практике ст. 30 (§ III, п. 13) устава, согласно которой совету университета принадлежало право обсуждения проектов инструкций для инспекций [Там же]. Большое недовольство со стороны студентов вызывало поведение инспекторов, что часто приводило к волнениям и беспорядкам среди учащейся молодежи. Вместо сдерживания конфликтов инспекция зачастую их провоцировала. В докладе комиссии, избранной на совещании профессоров Казанского университета 15 марта 1901 г., было сказано, что «инспекция во время волнений оказывается бессильной обнаружить истинных виновников беспорядков; в списки студентов, представляемых к увольнению и исключению, инспекция нередко включает лиц, или вовсе не принимавших участия в сходках, или же явившихся туда с целью протестования против беспорядков» [12. Л. 4]. В докладах советов Петербургского, Киевского и Харьковского университетов было множество указаний на враждебное отношение между инспекциями и студентами. В докладе совета Новороссийского университета говорилось, что инспекция мелочностью и строгостью своих правил пыталась искоренить индивидуальность студентов, сформировавшуюся в результате воспитания внутри отдельной семьи [12]. Кадровый состав инспекторов также оставлял желать лучшего: в основном это были люди, закончившие свою служебную карьеру в гимназиях, имеющие опыт воспитания детей и подростков, но не имевшие дела с юношами университетского возраста. Отсюда возникал неуважительный менторский тон со стороны сотрудников инспекции к уже сформировавшимся личностям, что вызывало ответную негативную реакцию со стороны последних. По мнению совета Юрьевского университета, назначенные на должность инспекторов бывшие директора средних школ привносят в университет непригодные приемы работы, в частности сыска и опеки, чем и объясняется крайняя их непопулярность [Там же. Л. 4 об.]. Обстановка была накалена до предела, поэтому все университетские советы и почти все попечители признали необходимым подвергнуть серьезным изменениям положения действующего устава в отношении надзора за студентами. Существовало несколько предложений по решению данного вопроса. Попечитель Рижского учебного округа тайный советник А.Н. Шварц высказался за уничтожение инспекции, так как университет не должен осуществлять полицейский надзор [12]. Кстати, Рижский политехнический институт, в котором на тот момент обучались около 2 тыс. студентов, никогда не имел инспекций, при этом в вузе сохранялся порядок. Было также предложено заменить надзор инспекции надзором должностных лиц, избираемых из про- Князь Е.Н. Трубецкой и решение «университетского вопроса» 81 фессорской среды. Совет Варшавского университета предлагал заменить институт инспекции Правлением по студенческим делам, составленным только из профессоров. Совет Московского университета указал на то, что институт инспекции разросся до небывалых размеров, имел собственную канцелярию и делопроизводство, хотя не выполнял возложенных на него функций по усмирению студенческих беспорядков [14]. Профессор Московского университета Д.Н. Анучин предложил вместо инспекции возложить функции обеспечения правопорядка в университетах на проректора, выбираемого из профессоров. В помощь проректору можно было бы привлечь попечителей отдельных курсов, профессоров и работников канцелярии [15. С. 9]. В.И. Вернадский в поддержку данного предложения отметил: «Институту инспекции нет места в университетской жизни. Он должен быть уничтожен. Надзор за порядком должен быть предоставлен выборному из профессоров проректору, университетскому суду и студенческой корпорации» [Там же. С. 17]. Советы всех университетов, кроме Варшавского и Московского, предлагали сохранить институт инспекции с возможным изменением его названия, а во главе его поставить проректора или товарища ректора. Таким образом, инспекция из надзорного органа должна была превратиться в структуру, осуществляющую управленческую и воспитательную функции деятельности учебного заведения [12]. Наиболее консервативными оказались предложения ряда попечителей учебных округов и профессоров не менять структуру инспекций, но при необходимости вносить изменения в ее работу. Хвалебным по отношению к инспекции оказался отзыв Одесского попечителя Т.С. Сольского. Томские профессора Д.Н. Беликов, Ф.А. Ерофеев, Н.А. Рогович и Н.И. Грамматикати ратовали за минимальные преобразования в работе университетских инспекций. Инспектор Юрьевского округа Н.И. Тихомиров возражал против привлечения к инспекторской работе проректоров, так как обязанности по надзору за студентами, особенно во время волнений и беспорядков, отвлекали бы проректора от науки и снизили бы его профессорский престиж [Там же]. Князь Е.Н. Трубецкой, будучи профессором Киевского университета Святого Владимира, также принял участие в обсуждении вопроса о судьбе университетской инспекции. Он считал, что упразднять институт инспекции нельзя, так как профессора не смогут осуществлять надзор за поведением студентов. Трубецкой предложил избирать инспекторов на университетских советах, для этого нужно было вернуть ст.ст. 63 и 67 Устава 1863 г. и отменить ст. 47 Устава 1884 г., устанавливающую непосредственное подчинение инспектора попечителю учебного округа. По его мнению, университетские советы должны будут разрабатывать инструкции для инспекторов, но право утверждения этих документов должно оставаться за министром и попечителем [16. С. 10]. В отношении правления университета Трубецкой замечал, что в состав этой структуры должны входить ректор, деканы всех факультетов и проректор, но ни в коем случае не инспектор. Инспектора можно приглашать на совет только для решения студенческих вопросов, и то лишь в том случае, если он обладает полномочиями, эквивалентными проректору. По мнению Трубецкого, число помощников инспектора или проректора (в зависимости от штатных структур учебных заведений) должно быть в значительной мере уменьшено, хотя бы до пяти, по числу факультетов. При этом если инспекторы и проректоры должны утверждаться министерством, то их помощники - университетским советом или попечителем учебного округа. Относительно функций университетской инспекции Трубецкой считал, что их необходимо сузить до надзора над студентами в стенах учебного заведения, запретив внешние наблюдения за слушателями [Там же. С. 11]. В 1902 г. П.С. Ванновского сменил новый руководитель ведомства - Г.Е. Зенгер, который создал Комиссию по разработке нового университетского устава, но дело опять притормозилось, а студенческие волнения, наоборот, усилились. В связи с этим в 1904 г. министр был отправлен в отставку, а его пост занял генерал В.Г. Глазов. В июне 1905 г. было проведено совещание по пересмотру университетских уставов, где было решено разработать вопрос об университетском самоуправлении. Очередной проект устава, вышедший из руководимого Глазовым ведомства, не поддержали все университетские советы. В августе 1905 г. были приняты «Временные правила по управлению высшими учебными заведениями Министерства народного просвещения», согласно которым вводились выборы ректоров и деканов и расширялись права университетских советов, но старый Устав 1884 г. еще продолжал быть правоустанавливающим документом для российских университетов. С.Ю. Витте при формировании кабинета министров пригласил на пост министра народного просвещения князя Е.Н. Трубецкого, но тот отказался, так как в 1905 г. вступил в конституционно-демократическую партию (позднее трансформировалась в партию кадетов), программа которой отличалась от настроений нового правительства. Пришедший в октябре 1905 г. на пост министра просвещения И.И. Толстой был человеком либеральных взглядов и продолжил начатую его предшественниками работу по разработке проекта нового устава. Очередная версия устава снимала все запреты на получение высшего образования по половым, национальным, религиозным и сословным признакам и давала автономию университетским советам [17]. Естественно, что в период массового студенческого антиправительственного движения данный законопроект не был принят. В октябре 1906 г. по стране прокатилась волна стачек в связи с годовщиной «Манифеста 17 октября 1905 г.». Активисты социал-демократического студенчества обратились к ректору Московского университета А.А. Ману-илову с просьбой разрешить им сходку 18, 19 и 20 октября во внеучебное время. Ректор отказал им в просьбе, в результате чего студентами на эти дни была объявлена забастовка, счтуденты в большинстве своем откликнулись на призыв бойкотировать учебные занятия. Лишь небольшие группы студентов по 5-10 человек, игнорировавшие революционную часть учащейся Р.А. Фандо 82 молодежи, заняли места в аудиториях в ожидании лекций. В связи со сложившейся ситуацией ректором было принято решение закрыть университет до 30 октября, до наведения порядка в учебном заведении [18]. Студенты требовали скорейшего начала занятий, и администрация пошла на уступки: учебный процесс в университете возобновился уже 26 октября 1906 г. Князь Е.Н. Трубецкой выступил в газете «Московские ведомости» (№ 255) по поводу октябрьских выступлений студентов Московского университета. Он отметил, что в прошедших событиях нельзя усматривать конфликт между университетской администрацией и студенчеством; напротив, профессорская корпорация солидарна с большинством студентов. По мнению Е.Н. Трубецкого, в конфликте участвовало большинство, состоящее из профессоров и основной части студенчества, и меньшинство, которое стремилось всеми правдами и неправдами прекратить занятия в университете на три дня. «Царство кулака в Университете на другой день после годовщины Манифеста! Какой глубокий символизм в этом событии! Нужно ли искать лучшего предлога для тех, кто хочет, чтобы Манифест остался мертвою буквой! Правовые начала, возвращенные Манифестом, доселе не проникли в сознание группы студенчества, мнящей себя передовою. Какой козырь для Правительства, которое не хочет осуществить их в жизни!» - писал Е.Н. Трубецкой [19]. По мнению князя, автономия университета некоторыми студентами понималась неправильно. Требуя «свободы слова», они освистывали тех, кто пытался противоречить бунтовщикам и хотел заниматься основным своим делом - учебой. Провозглашая «свободу собраний», представители революционного студенчества не позволяли своим сокурсникам собираться в аудиториях для слушания лекций. «И все это делается для того, чтобы почтить память борцов за свободу! Неужели для этого нужно попирать ногами ту самую свободу, за которую они боролись?» - задает риторический вопрос автор статьи [Там же]. Революционно настроенное студенчество вступило в схватку с Е.Н. Трубецким на страницах печатных изданий. Представления князя об автономии университетов лишний раз доказывали, что между профессорами и студентами существовала разница в определении университетских свобод. Студенты под автономией понимали совокупность норм, обеспечивающих права профессоров и студентов, верили в то, что им будут разрешены собрания во внелекционное время. В «Студенческой газете» можно было прочитать обличающие Е.Н. Трубецкого строки: «Минуя яркое пристрастие “Московских ведомостей”, минуя грубые вылазки князя Е.Н. Трубецкого против сознательного студенчества, приходится еще и еще повторить, что лишь удовлетворение решительных требований передового студенчества способно исчерпать возникший конфликт, по крайней мере постольку, поскольку он касается взаимоотношений профессоров и студентов» [20]. «Московское студенчество, за исключением маменькиных сынков, никогда не браталось с раболепной профессурой, которая чуть ли не год тому назад не стыдилась отдавать студентов в солдаты и отправлять их десятками в сибирские тундры. Студенчество и теперь не настолько слепо, чтобы не суметь различить правопорядочников под либеральной оболочкой, и надо надеяться, что оно и впредь будет стыдиться какой бы то ни было “солидарности” с подобными господами» [21. С. 2]. «Кадетская печать вкупе с “Новым временем”, “Московскими ведомостями” и другими единомышленниками подняла неистовый лай по поводу “грубого” нарушения студенчеством спокойствия и благочиния, царившего до сих пор в университете г. Мануилова и К°. Во главе этого “славного” похода против революционного студенчества, понятно, лейб-орган профессорской корпорации “Русские ведомости”, которые не останавливаются даже перед явной ложью и извращением фактов, дабы доказать умилительную солидарность большинства студентов с профессорской корпорацией» [Там же. С. 1]. В 1906 г., после отставки кабинета С.Ю. Витте, на пост нового министра просвещения назначен П.М. Кауфман, сторонник консерватизма и жесткого порядка, мечтавший ликвидировать автономию университетов. Реакционная политика в области университетского образования также наблюдалась в период 1908-1910 гг., совпавший с годами деятельности министра народного просвещения А.Н. Шварца. В 1908 г. были разосланы циркуляры за его подписью, запрещающие прием женщин в университеты. Принятым ранее вольнослушательницам разрешено было дослушать курс предметов до конца отдельно от студентов, в специально отведенные для этого вечерние часы. Н.К. Кольцов по поводу данного решения писал: «В университетах благодаря постановлениям профессорских советов появились женщины вольнослушательницы. Аудитории приняли европейский характер. По единодушному отзыву всех профессоров, допущение женщин было проведено профессорами, то они и видели в нем свое дело, которое и было поэтому для них особенно близко. Но это дело стало неугодно министру народного просвещения, и г. Шварц уничтожил его одним росчерком пера. Какое дело министру до того, что профессора единодушно стоят за проведенную ими в жизнь реформу? Разве стоит считаться с профессорами? Пусть запомнят, что они только чиновники, обязанные повиноваться начальству, и больше ничего!» [22. С. 84]. В 1908 г. А.Н. Шварц предложил свой проект университетского устава, который больше походил на вариант 1884 г. Согласно новому проекту ректор должен был подчиняться попечителю учебного округа, в стенах университета не разрешалось проводить собрания, а для надзора за студентами вводилась должность университетского пристава. Если в 1901 г., будучи попечителем Рижского учебного округа, А.Н. Шварц ратовал за упразднение института инспекции, то буквально за несколько лет стал его рьяным защитником. Е.Н. Трубецкой незамедлительно ответил на новый проект статьей в газете «Московский ежедневник» [23]. Он указал, что согласно предложенному проекту участие университетского совета должно свестись к нулю, а ректор должен стать помощником попечителя учебного округа. По его мнению, ректор и деканы станут Князь Е.Н. Трубецкой и решение «университетского вопроса» 83 в недалеком будущем своего рода надзирателями, а под видом университетских приставов будет восстановлена университетская инспекция, точнее говоря - университетская полиция. Е.Н. Трубецкого возмутил тот факт, что эта полиция должна подчиняться ректору, проректору и деканам университета. Это все, на его взгляд, походило на звенья одной полицейской организации. Е.Н. Трубецкой был возмущен тем положением студентов, которое им отводилось согласно новому проекту устава. Учащиеся лишались корпоративных прав: в зданиях учебных заведений запрещались всякого рода собрания и общества, даже научные. По мнению князя, сущность нового проекта сводилась к ликвидации университетской автономии и всего того нового, что регламентировалось «Временными правилами по управлению высшими учебными заведениями», принятыми 27 августа 1905 г. Тем не менее «шварцевский» устав был отправлен на обсуждение в Совет министров. Наибольшее число прений вызвал вопрос об университетских инспекторах, которых предложили называть приставами. Министр финансов В.Н. Коковцов категорически выступил против института инспекции в высших учебных заведениях, считая, что приставам будет непосильно снискать доверие у университетской молодежи, скорее всего, они будут вызывать у студентов подозрение и раздражение. Кроме того, в проекте было прописано, что факультетские приставы должны подчиняться ректору и деканам, что могло вызвать негативное отношение студентов к университетскому руководству. В.Н. Коковцов отметил, что кредит, отпускаемый на поддержание порядка, мог бы использоваться более целесообразно без введения должностей университетских приставов [24]. Несмотря на поддержку В.Н. Коковцова другими министрами, А.Н. Шварц настоял на своем, так как в учреждении института приставов он видел острую необходимость для возвращения академической жизни в прежнее спокойное русло. Министр просвещения заявил, что политическая жизнь в России начинает активизироваться, а различные ее проявления могут отразиться на молодежи, чутко реагирующей на все новое. Если не принимать твердых мер, то политизированные элементы будут мешать той части учащейся молодежи, которая мотивирована на научную работу [Там же]. В итоге, заручившись поддержкой правительства, А.Н. Шварц намеревался отправить свой проект устава в Государственную думу. Еще до обсуждения в Думе новый устав опять взбудоражил университетскую среду, так как предполагал вернуть высшую школу к старым порядкам и чиновничьему произволу. «Прежде университет колебался между двумя противоположными типами: полицейского учреждения и революционного клуба; теперь, несмотря на все его недостатки и неустройства, он стал, наконец, университетом, местом для учения. Самая возможность такого превращения обусловливается той автономией, которую теперь хотят уничтожить», - писал в «Студенческой жизни» Е.Н. Трубецкой относительного нового устава [25. С. 5]. В своей статье «К университетской реформе» князь Е.Н. Трубецкой приводил различные примеры бесчинств, которые творили университетские инспекторы и их служители - педели. Субинспекторы раздавали педелям фотографии студентов и устраивали им экзамены на знание лиц учащихся, учили методам подслушивания и подглядывания во время учебных занятий, заседаний студенческих обществ и несанкционированных сходок. С принятием «шварцевского» законопроекта, по мнению князя, подобное шпионство будет только процветать. Е.Н. Трубецкой обратил внимание на тот факт, что для «протаскивания» проекта устава через Думу Министерство народного просвещения начало кампанию за продвижение этого документа как единственного гаранта обеспечения порядка в учебных заведениях. Князь отмечал, что чиновники министерства пытаются опорочить в печати университетское начальство как бессильное в отношении злонамеренной части студенчества. Профессоров они описывали как почивших на лаврах бездельников, получавших многотысячные гонорары и передавших бразды правления своим помощникам в лице студенческих старост. Более того, министерством муссировалось мнение, что профессора сами подогревают студенческие волнения в борьбе за университетскую автономию [25]. «Вся эта грязь печатается в газетах, но ведь правительство прекрасно знает, что в Московском и целом ряде других университетов не было ни старост, ни подобных им, признанных университетом организаций, и что там, где они были, бразды правления им не передавались. Что же касается студенческих беспорядков, то тому же правительству не может не быть известно, что говорили по этому поводу профессора студентам. Они указывали, что забастовка, недопустимая с академической точки зрения вообще, -в настоящий момент сугубо нелепа, потому что она облегчает правительству уничтожение автономии и проведение в Думе нового устава. Беспорядки нужны совсем не профессорам, а тем, кого мы для простоты и ясности назовем университетскими Азефами; они служат не в автономном университете, а в иных, хорошо известных учреждениях» [Там же. С. 5]. Революционно настроенное студенчество выступило против заявления князя Трубецкого, так как он отдавал приоритет в управлении университетами профессорскому сообществу, считая, что университетская автономия - это путь к разрушению, а усиление власти в лице представителей профессуры - путь к установлению порядка и нормальной работы учебных заведений. По мнению ряда студентов, Е.Н. Трубецкой, придавая большое значение профессорским советам, умалил желание студенческой молодежи участвовать в собраниях, создавать общества и кружки, принимать участие в жизни факультетов. Университетские слушатели имели достаточно твердые цели и стремления к получению высшего образования, поэтому забастовки были лишь выражением их общественных позиций, а не желанием срыва образовательного процесса. «Что же касается педагогического авторитета профессоров, на который указывает Трубецкой, то вряд ли он сыграл большую роль в успокоении. Можно сильно Р.А. Фандо 84 сомневаться, что одно только осуждение последней забастовки, как хочется Трубецкому, со стороны профессоров, - послужило к ее ликвидации. Неопределенное поведение профессоров во время забастовки не столь содействовало успокоению университетской жизни, сколь создавало раскол в рядах студенческих масс», - написал автор заметки в газете «Студенческий мир» от 8 февраля 1910 г. [26] В мае 1910 г. новый университетский устав был представлен в Государственную думу. Кроме наиболее остро обсуждаемого вопроса об университетской автономии на повестке дня были новшества, внесенные в документ чиновниками Министерства народного просвещения. Например, плата за обучение во всех университетах, за исключением Московского и Санкт-Петербургского, устанавливалась в размере 100 руб. Студентам Московского и Санкт-Петербургского университетов надлежало платить по 150 руб., что, возможно, привлекало бы в столичные города наиболее обеспеченных студентов, далеких от революционной деятельности. Поступать в университет, согласно новому проекту устава, разрешалось только выпускникам гимназий; естественно, что речь о нахождении женщин в императорских учебных заведениях даже не шла [27]. В 1910 г. наблюдался новый подъем студенческого движения: были проведены сходки, названные Муромскими и Толстовскими днями, протестные акции против беспредела, царящего на каторгах, против обвинений в адрес учащейся молодежи думских депутатов В.М. Пу-ришкевича и Н.Е. Маркова (Маркова 2-го), против «шварцевского» проекта университетского устава. Е.Н. Трубецкой опубликовал в «Русских ведомостях» статью, где обвинил студенческое движение в поддержке провокаторов. В ответ московское студенчество откликнулось взрывом негодования. 5 декабря 1910 г. на лекции Трубецкого студенты потребовали от него объяснить такое неприятие им демократически настроенной молодежи, на что князь пояснил, что «провокаторами» считает не слушателей университета, а посторонних лиц [28]. Учащиеся назвали князя «приспешником реакции», всегда и везде упоминавшим этих «посторонних лиц», подстрекавших «несамостоятельных» студентов. В своем лице Е.Н. Трубецкой олицетворял либеральную и осторожную профессуру, призывающую молодежь к отказу от студенческих собраний и беспорядков. «Студенчество требует, - читаем в одном из номеров студенческой газеты, - во имя поли-шинелевского секрета спасения школы не посягать на его право коллективно мыслить, понимать и чувствовать. Студенчество всегда с недоверием относилось к мероприятиям кругов, вне школы стоящих, но зато относилось с доверием к профессорской коллегии. За последнее время это доверие сильно колеблется, и профессура, действуя в духе князя Трубецкого, может его окончательно уничтожить. А вместе с разрушенным доверием исчезнет и тот базис, на котором единственно только возможно возрождение высшей школы» [29]. В конце 1910 г. Е.Н. Трубецкой выехал за границу. Как сообщала газета «Студенческая жизнь» (№ 44), князь собирался пробыть за рубежом до конца академического года, поэтому его лекции в весеннем семестре отменялись. В той же заметке было высказано предположение, что данная поездка была вызвана конфликтом, произошедшим между ним и студенчеством Московского университета. Все это сильно повлияло на душевное состояние профессора, вызвав необходимость в продолжительном отдыхе и во временном прекращении академической деятельности [30]. Студенческие волнения продолжали вспыхивать в различных университетских городах. Правительство еле сдерживало натиск революционной деятельности со стороны учащейся молодежи. На страницах газет активно будировались слухи о скорейшей отставке министра просвещения. Отставка А.Н. Шварца в октябре 1910 г. и назначение нового министра А.Л. Кас-со воодушевило университетскую общественность. Многие верили, что разрушительная работа А.Н. Шварца, или «черного гения», как его окрестили в народе, сменится реформами «сторонника университетской автономии и свободной науки», так писали в газетах о Л.А. Кассо [31]. В газете «Речь» была дана такая характеристика Кассо: «Большой остряк, любящий и умеющий съязвить, Л.А. Кассо в последнее время не раз задевал своим острым язычком того, кого ему вдруг пришлось заменить на министерском посту. Шварцев-ского курса он определенно не одобрял, хотя и говорил на эту тему лишь мимоходом. Особенно определенно высказывался Л.А. Кассо против сочиненного Шварцем университетского устава. И, судя по всему, этого наследства он от своего предшественника не примет и защищать его в Думу не пойдет» [32]. 13 октября 1910 г. состоялось совещание Думской комиссии под председательством депутата М.Я. Капустина для рассмотрения проекта «шварцевского» университетского устава. Комиссия пришла к единодушному мнению, что данный устав неприемлем в работе университетов, так как ущемляет компетенции университетских союзов и дает большие полномочия попечителям учебных округов в решении внутренних дел учебных заведений. Присутствующие также выступили против института факультетских приставов, признав желательным предоставление ректорам права назначать специальных лиц для надзора за порядком [33]. «Шварцевский» вариант устава был изъят из Думы для дальнейших доработок. 3 января 1911 г. Министром народного просвещения Л.А. Кассо был подписан циркуляр № 192, согласно которому ректорам и университетским советам необходимо было установить надзор за студентами и своевременно привлекать к ответственности всех нарушителей порядка академической жизни. Из университетов, по замыслу нового министра, должны быть изгнаны все публичные студенческие собрания, за исключением собраний научного характера. После притеснения университетской автономии со стороны обновленного Министерства народного просвещения последовала череда громких отставок профессоров и доцентов Московского университета, студенческих беспорядков, обсуждения данного вопроса в прессе. Но это уже была другая история, окончательно разрушившая надежды, возникшие под впечатлением изъя- Князь Е.Н. Трубецкой и решение «университетского вопроса» 85 тия «шварцевского» проекта университетского устава. История, наделавшая много шума не только в академической среде, но и во всем российском обществе, получила в народе известность как «Дело Кассо». На начало ХХ в. пришлись самые тяжелые годы в истории Императорских университетов. Кризис императорской власти вызвал реакционные нападки на систему высшего образования: усиливался контроль за деятельностью университетов, запрещались студенческие собрания, сознательно затягивалось открытие народных университетов. Студенческие беспорядки охватили все университетские города, либерально настроенная часть студенчества и профессуры боролась с государствен ной политикой в области высшего образования. В ходе своей общественно-политической деятельности князь Е.Н. Трубецкой неоднократно выступал против некоторых положений предлагаемых вариантов университетских уставов, которые как индикаторы показывали степень консерватизма политики самодержавия в различные годы правления Николая II. Обстановка в обществе была настолько накалена, что правительственные варианты университетских уставов так и не были утверждены Государственной думой, а Императорские университеты продолжали работать и выдерживать волнения и беспорядки со стороны революционно настроенной части студентов.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 41
Ключевые слова
Е.Н. Трубецкой, университетский вопрос, студенческие волнения, Россия в начале ХХ векаАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Фандо Роман Алексеевич | Институт истории естествознания и техники им. С.И. Вавилова РАН | доктор исторических наук, директор | fando@mail.ru |
Ссылки
Митрофанов Ю.Н. Князь Евгений Николаевич Трубецкой - философ, богослов, христианин. СПб. : Изд-во С.-Петерб. духовной акад., 2018. 136 с.
Морозова Я.В. Религиозно-общественные проекты М.К. Морозовой и Е.Н. Трубецкого (историко-философский анализ) : дис.. канд. филос. наук. М., 2008. 178 с.
Кушнир Е.П. Е.Н. Трубецкой о русских пространствах и русской идее как основе формирования национального менталитета // Социально гуманитарные знания. 2009. № 5. С. 340-345.
Рябова Т.И. Отечественные либералы о самоопределении России в контексте религиозной идеи // Русский либерализм: исторические судьбы и перспективы. М. : РОСПЭН, 1999. С. 503-512.
Рябова Т.И. О кризисе духовных основ государственности в эпоху «смутного времени» (на основе путевых заметок Е.Н. Трубецкого) // Про блемы и тенденции развития социокультурного пространства России: история и современность. Брянск : Брянская гос. инж.-технолог. акад., 2007. С. 108-114.
Досекин Е.С. Партия мирного обновления и Е.Н. Трубецкой // Вестник Самарского университета. История, педагогика, филология. 2011. № 7 (88). С. 58-62.
Нехамкина Н.В. Общественно-политическая деятельность и взгляды Е.Н. Трубецкого (1863-1920 гг.) : дис.. канд. ист. наук. Брянск, 2006. 238 с.
Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. Р-1966. Оп. 1. Д. 77. Л. 27.
Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в V веке : в 2 ч. М. : Тип. Э. Лисснера и Ю. Романа, 1892. 272 с.
Трубецкой Е.Н. Религиозно-общественный идеал западного христианства в XI веке. Идея божеского царства в творениях Григория VII и публицистов - его современников. Киев, 1897. 598 с.
Яковлев В.П. Политика русского самодержавия в университетском вопросе (1905-1911) : дис.. канд. ист. наук. Л., 1971. 223 с.
Отдел рукописей Российской государственной библиотеки (ОР РГБ). Ф. 10. Карт. 22. Ед. хр. 16.
Уставы Московского университета, 1755-2005 / авт.-сост. Е.И. Гена. М. : Империум Пресс, 2005. 479 с.
ОР РГБ. Ф. 10. Карт. 22. Ед. хр. 15.
Суждение совета Императорского Московского университета по проекту университетского устава. М., 1901. 24 с.
Доклад профессора князя Е.Н. Трубецкого по вопросу о преобразовании инспекций в высших учебных заведениях. СПб. : Тип. МВД, 1902. 22 с.
Труды совещания профессоров по университетской реформе, образованного Министерством народного просвещения под председательством гр. И.И. Толстого в январе 1906 г. СПб., 1906. 343 с.
Из жизни учебных заведений // Студенческая газета. 1906. 21 окт. № 5. С. 3.
Трубецкой Е.Н. К событиям в Университете // Московские ведомости. 1906. 20 окт. № 255. С. 2.
Бархаш Я. Москва, 21 октября // Студенческая газета. 1906. 21 окт. № 5. С. 1.
Русская печать // Студенческая газета. 1906. 21 окт. № 5. С. 1-2.
Кольцов Н.К. К университетскому вопросу. М. : Тип. О.Л. Сомовой, 1910. 104 с.
Трубецкой Е.Н. Новый университетский устав // Московский ежедневник. 1908. 11 окт. № 40. С. 2-3.
Университетский устав в Совете министров // Студенческий мир. 1910. 2 февр. № 1. С. 2.
Трубецкой Е.Н. К университетской реформе // Студенческая жизнь. 1910. 7 февр. № 4. С. 3-5.
[Р.В.] К выступлению московских профессоров // Студенческий мир. 1910. 8 февр. № 2. С. 1.
Новый университетский устав // Студенческая жизнь. 1910. 16 мая. № 18. С. 1-2.
Москва, 5 декабря // Студенческая жизнь. 1910. 5 дек. № 40. С. 3.
Хорошо соблюдать меру // Студенческая жизнь. 1911. 9 янв. № 45. С. 1.
Отъезд князя Е.Н. Трубецкого за границу // Студенческая жизнь. 1911. 1 янв. № 44. С. 12.
Отставка А.Н. Шварца - назначение Л.А. Кассо // Студенческая жизнь. 1910. 3 окт. № 31. С. 3.
Московские отклики // Речь. 1910. 28 сент. № 266. С. 2.
Новый университетский устав // Студенческая жизнь. 1910. 17 окт. № 33. С. 11.
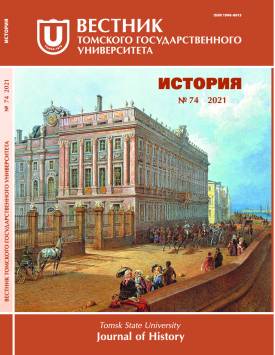
Князь Е.Н. Трубецкой и решение «университетского вопроса» | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 74. DOI: 10.17223/19988613/74/9
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 396

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью