«А пока необходимо потесниться»: жилищный вопрос в городской повседневности и информационной повестке Томска в годы Гражданской войны (1918-1919 гг.)
На примере города Томска как губернского центра востока России рассматриваются закономерности и особенности как самого проявления жилищного кризиса в городской среде эпохи войн и революций, так и его включения в городскую информационную повестку и пространство публичных репрезентаций. Предполагается, что городская пресса сыграла важную роль в дискурсивной институционализации сложившихся административных механизмов и практик регулирования острого и злободневного для того времени «жилищного вопроса», конструируя границы и задавая различные модели интерпретаций возникавших «квартирных затруднений».
“In the meantime, we need to move up”: the housing shortage in the information agenda of Tomsk during the Civil War (191.pdf Летом 1919 г. жилищная комиссия Томской городской думы обратилась к томичам: «Граждане! В город нахлынули волны беженцев и эвакуированных... Всем им надо дать временное убежище. Это наша святая обязанность. Свободных помещений, могущих вместить всех нуждающихся, нет. Пришло, граждане, время, когда необходимо, безусловно необходимо потесниться и принять к себе беженцев. Если только на одну минуту вы войдете в положение беженцев, вы охотно перенесете маленькие, кратковременные неудобства и радушно откроете двери жилищ для тех, кто не имеет крова. Составляет также нашу святую обязанность дать приют родным тех, кто там, на фронте, отдает за нас, за Родину самое ценное - свою жизнь» [1]. В воззвании как в фокусе сошлось несколько линий восприятия, понимания и решения одной из наиболее острых, болезненных и злободневных проблем эпохи войн и революций: частное и общественное, государственное и народное, национальное и местное, экономическое и этическое, политическое и повседневное, нормальное и чрезвычайное, воображаемое и реальное, рациональное и эмоциональное. Обращаясь к этому вполне конкретному проявлению социальной коммуникации городских сообществ Сибири в четко определенном историческом контексте, мы будем исходить из понимания того, что вновь устанавливаемая власть не представляет собой автоматически принимаемую населением данность, требуются ее упорядочивание, выработка сколько-нибудь долговременных правил регулирования и взаимодействия, процедура общественного признания, т.е. институционализация. Любой политический порядок -это социальный конструкт, результат сложного социального взаимодействия, находящийся в состоянии непрерывных структурных изменений. На макроуровне политический порядок сводит в единую систему разнообразные политические, экономические, административные, культурные практики отдельных социальных групп и сообществ. Такой подход позволил нам соединить в рамках исторического анализа несколько проблемных полей (политический режим, социальные порядки, повседневность, информационные технологии и коммуникации, дискурсивные практики), вертикальных и глобальных уровней (национальное, трансграничное, локальное), связав и объединив их акторов во множество самых разнообразных гетерогенных и разноуровневых сетей отношений. В этой связи значительный интерес для исследователя представляют повседневные городские политические коммуникации: организация взаимодействия властных инстанций и различных социальных групп, формирование и трансформация политических сообществ, выстраивание горизонтальных и вертикальных связей, символические церемонии и ритуалы, коммеморации. Именно в повседневных политических, экономических, социальных и культурных практиках происходила институционализация новых политических порядков, а также оформлялись политические предпочтения городского обывателя, его политическая культура и политическое мышление. Несмотря на включение самого понятия «политическая культура» в язык описания истории властных взаимодействий, государственных институтов и общественных конфликтов как на макро-, так и на микроуровне [2-5], оно нуждается в уточнении своих содержания и структуры, а также корректной области применения [6]. Одной из таких уместных областей нам представляется идеологическая и политическая самоидентификация локальных (городских и сельских) сообществ, рассматриваемая как результат сложного взаимодействия, с одной стороны, политического воображаемого государственного и регионального уровней, с другой - политического воображаемого и повседневного жизненного мира. Цель работы - на примере Томска, являвшегося в годы Гражданской войны административным центром Томской губернии, выявить эволюцию, динамику и формы проявления жилищного вопроса в перелом- Д.Н. Шевелев 88 ную для страны эпоху войн и революций (в контексте повседневной жизни) и определить особенности дискурсивного конструирования и институционализации одной на наиболее важных, сложных и болезненных городских проблем того времени. Объектом исследования являются социальные, политические и информационные процессы, протекавшие на востоке России в переломную для страны «эпоху войн и революций» (1914-1922). Предмет сформировался на пересечении двух тематических полей: сложившихся в годы Гражданской войны информационного пространства и политической коммуникации, с одной стороны, и городской повседневности - с другой. Рабочая гипотеза: в рассматриваемый период ситуация в г. Томске отражала общие тенденции проявления, общественного обсуждения и преодоления квартирного кризиса как в Сибири, так и на востоке России в целом. В новых, чрезвычайных условиях Гражданской войны происходило переформатирование старых и формирование новых институтов и практик, нормирующих, регулирующих и конституирующих жилищные отношения. Важную, если не ключевую, роль в конструировании общественно значимых для локальных сообществ смыслов и дискурсивной институционализации городских проблем играла местная пресса. Основным источником для написания данной работы послужили материалы городской периодической печати (газеты «Сибирская жизнь», «Народная газета», «Вестник Томской губернии», «Голос народа», «Голос Сибири», «Труд», «Сегодня», «Заря», «Рабочее знамя», «Народный вестник» и ряд других), выходившие в Томске с лета 1918 по конец 1919 г. Автором было отобрано и проанализировано примерно 240 газетных статей, интервью, очерков, заметок и фельетонов, в которых так или иначе затрагивалась тема «квартирных затруднений». По мнению автора, периодические издания примерно одной политической направленности образовывали общее смысловое поле, генерировали близкие смыслы и задавали схожие модели интерпретации проблем как локально-городского, так и национального уровня. Кроме того, при написании статьи использовались протоколы и другие документы (заявления, проекты решений, переписка) Томской жилищной комиссии, хранящиеся в Государственном архиве Томской области, преимущественно в фонде управляющего Томской губернией (Р-1362). Привлечение такого рода материалов дало возможность выявить сферы компетенции, организационную структуру, основные направления и результаты работы административных учреждений, регулировавших жилищные отношения в городе. Таким образом, если анализ прессы раскрыл особенности репрезентации одного из актуальных для всего локального сообщества вопросов в публичном пространстве города, то изучение делопроизводственной документации позволило заглянуть за кулисы повседневной канцелярской работы и взглянуть на «жилищный кризис» с точки зрения бюрократической рутины. Сложности анализа заключались в ограниченности, с одной стороны, традиционной исследовательской оптики, обусловливающей дискретность самого объекта, распределяя (а по сути - расщепляя) его между смежными предметными полями, а также упуская часть пересечений и взаимосвязей, порожденных гетерогенным характером самой акторной сети, с другой - источниковой базы и устоявшихся методик обработки информации. Рассмотрим основные события. К началу Первой мировой войны город Томск являлся административным центром Томской губернии, которая включала в себя территории нынешних Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, Восточно-Казахстанской области Казахстана. Город располагался на правом берегу судоходной реки Томи, в 60 верстах от впадения ее в Обь, а также по обе стороны впадающей в Томь речки Ушайки. От главной сибирской магистрали Томск находился в 80 верстах (85,34 км) к северу и соединялся с ней железнодорожной веткой [7. С. 1; 8. С. 109]. К интересующему нас времени Томск представлял собой крупнейший культурный и научно-образовательный центр востока России («Сибирские Афины»). В городе находилось три высших учебных заведения: императорский университет, технологический институт и Сибирские высшие женские курсы [8. С. 110; 9. С. 160-168]. К началу Первой мировой войны в городе имелось до 550 промышленных предприятий с годовым оборотом до 9 млн руб., а также свыше 1 000 торговых предприятий с годовым оборотом до 27 млн. руб. [10. 4-я па-гин. С. 491]. «К преимуществам Томска, - отмечалось в одном из изданий того времени, - надо отнести и его выгодное торговое положение по отношению к Сибири. Он лежит почти на границе Западной и Восточной Сибири, являясь, таким образом, центральным пунктом обширного сибирского потребительского рынка» [11. С. 6]. Томск был достаточно компактным городом, в 1910 г. он занимал площадь в 13,5 квадратных верст (15,4 км2). В городе имелось 158 улиц, переулков и площадей. Общая протяженность заселенных улиц - 85 верст, незаселенных - 15 верст [12. С. 13]. В 1904 г. в Томске было 5 252 домов, в 1909 г. - 6 053 [Там же]; в 1917 г. только жилых построек в городе насчитывалось 7 664 [13. С. 24]. Томск освещался электричеством, центральные улицы были замощенными, имелись водопровод и телефон [12. С. 13; 14]. Довоенный справочник так описывал ситуацию с жильем в городе: «Квартиры в Томске недешевы, хотя квартирный кризис городом пережит. Цены на квартиры, поднявшись в то время, когда существовала жилищная нужда, слабо понижаются. В данное время отыскание квартиры в любую пору года трудности не представляет, хотя наибольшее количество их в предложении с мая по июль. Не могут местные квартиры назваться и благоустроенными. Типичная томская квартира... помещение без проведенной воды, без принадлежностей электрического освещения, без теплого клозета и ванны, нештукатуренная, достоинство ее в том, что она в верхнем этаже. Дома здесь в большинстве двухэтажные и внизу заняты хозяевами. Сдающиеся же в наем нижние этажи не всегда сухи, и в них дует с полу» [15. С. 312]. «А пока необходимо потесниться»: жилищный вопрос в городской повседневности 89 К началу Первой мировой войны число жителей Томска перевалило за отметку в 100 тысяч. Согласно ежегоднику, подготовленному Центральным статистическим комитетом МВД, к началу 1914 г. оно составляло 114 666 чел. [16. 1-я пагин. С. 136]. Другие, чуть меньшие данные приводит «Памятная книжка Томской губернии на 1915 год» - 104 963 чел. [17. 2-я пагин. С. 4] По количеству населения Томск находился на 22-м месте в России [18. С. 110], а в Сибири он уступал только Омску. В годы войны численность жителей города меняется: с одной стороны, уменьшается за счет мобилизации в армию мужчин призывного возраста [19. С. 13-15], с другой - растет в связи с увеличившимся потоком вынужденных мигрантов (выселенцев, эвакуированных и беженцев) в восточные регионы страны. К началу 1915 г. в Томске насчитывалось 116 664 жителей [20. 1-я пагин. С. 154], к началу 1916 г. это число возрастает до 198 300 чел. [21. 1-я пагин. С. 88] Сложно определить количество горожан, проживавших в губернском центре, в революционном, 1917 году. Городская перепись в Томске не проводилась [13. С. 16], и данные о числе жителей - 101 129 чел. [Там же. С. 24] - были включены «по сведениям Томской городской управы за 1916 год». Однако они вряд ли соответствовали реальной ситуации. Опираясь на материалы городской продовольственной комиссии и статистического отдела городовой управы, томский историк Е.Н. Косых оценивал население города накануне Февральской революции в 120-125 тыс. чел., а с учетом местного гарнизона в Томске в это время, по его мнению, могло находиться около 200 тыс. чел. [22. С. 59]. После восстановления советской власти в декабре 1919 г. происходит отток населения из города [23. С. 122], и к осени 1920 г. в городе насчитывается 89 668 жителей [24. С. 23]. В Томске «квартирные затруднения», или «жилищная нужда», начинают проявляться еще в предшествующий Гражданской войне период. С одной стороны, сказались ограниченные возможности городского жилищного фонда, не приспособленного к быстро меняющимся обстоятельствам и чрезвычайным условиям. С другой стороны, усилилось воздействие на городскую среду различных (в том числе и косвенных) факторов, обусловленных Первой мировой войной. Затянувшаяся война, во-первых, значительно ухудшила условия жизни основной части населения Российской империи, даже в таком глубоком тылу, каким являлась Сибирь. С началом военных действий в регионе начинают расти цены на продукты питания, одежду, обувь, другие промышленные изделия бытового назначения [19. С. 133-138; 22; 25; 26. С. 83-94], достигая к февралю 1917 г. 300% и более на отдельные потребительские товары [27. С. 600]. Дороговизна, усилившаяся инфляция, транспортные и топливные затру дне-ния, рост спекуляции, перебои со снабжением снижают уровень доходов горожан, которые оказываются наиболее уязвимой к воздействию неблагоприятных факторов военного времени частью социума. Во-вторых, война многократно усилила внутренние миграции. В Западную Сибирь устремился поток вынужденных переселенцев: беженцев и выселенцев из прифронтовых районов, дополняемых принудительными мигрантами - интернированными и военнопленными [19. С. 168-184; 28-31]. В Томске уже в начале сентября 1914 г. городская управа уведомила заведующего переселенческим делом в Томском районе о необходимости подготовки бараков для размещения 400 «военнопленных нижних чинов» [32. С. 4]. В октябре того же года в «городе были расквартированы 209 офицеров и 10 226 нижних чинов» [Там же. С. 14], в июне 1915 г. в Томске располагались 7 527 военнопленных [Там же. С. 37]. Беженцы начинают прибывать в Сибирь летом 1915 г. Томск являлся крупным распределительным пунктом, через который с августа по ноябрь прошли 25 тыс. чел. [Там же. С. 148]. В самом городе осенью 1915 г. были размещены для проживания 2 053 беженца [Там же. С. 149]. Приток в Томск беженцев существенно повысил нагрузку на городской жилищный фонд. В сентябре 1916 г. даже последовало предписание управляющего губернией о «недопустимости массового переселения беженцев из сельской местности в города», обусловленное «необходимостью разгрузить города от лишнего пришлого элемента, так как... города оказались совершенно переполненными», а также необходимой «экономией государственных средств, ибо содержание беженцев в селениях обходится дешевле, чем в городах, где, вследствие дороговизны жизни, нормы квартирного и продовольственного пайка повышены» [Там же. С. 208]. В-третьих, ситуация осложнялась тем, что в чрезвычайных обстоятельствах военного времени местная власть, органы городского самоуправления оказались не в состоянии оперативно и эффективно регулировать жилищный вопрос. Согласимся с выводами О.В. Чудакова: «Финансовые затруднения городов переплелись с новыми задачами, возложенными на них переживаемым моментом. Растущая дороговизна жизни, граничащая местами с продовольственным кризисом, громадный наплыв беженцев и военнопленных, помощь раненым и больным воинам, призрение семейств призванных воинов, материальное содействие делу обороны страны и многое другое, взятое вместе, помимо напряжения финансовых сил городских самоуправлений, потребовали приспособления их к новым формам общественной работы, к признанию того, что органы городского самоуправления не в состоянии в должной мере справиться с неожиданно надвинувшимися задачами» [33. С. 153]. При этом жилищное законодательство царского и Временного правительств в новых, чрезвычайных, условиях не выполняло свою регулирующую функцию [34]. В ночь с 24 на 25 мая 1918 г. на станции Мариинск произошло выступление одного из отрядов Чехословацкого корпуса, продвигавшегося из европейской части страны во Владивосток, против местных большевиков. За сравнительно короткий срок усилиями местного вооруженного подполья и чехословацких войск советская власть на значительной территории от Поволжья до Дальнего Востока пала. В Томске советская власть была свергнута 31 мая 1918 г. [35. С. 44-54]. В тот же вечер в город прибыл Д.Н. Шевелев 90 чехословацкий эшелон. Под звуки «Марсельезы» воины прошли церемониальным маршем по центральным улицам со станции Томск-2 на Томск-1. Горожане приветствовали их как освободителей, бросали им цветы [36]. В городе было восстановлено самоуправление, возобновила свою работу Томская городская дума. Власть в Томской губернии перешла к губернскому комиссариату из трех человек [37], который был образован в начале июня. В середине июля 1918 г. коллегиальные губернские комиссариаты были заменены единоличными губернскими комиссарами, в конце декабря переименованными в управляющих губерниями [38. С. 70-71]. Начавшаяся Гражданская война в еще большей степени обострила жилищные проблемы городов. На ситуацию влияли нестабильное положение контролирующих данные территории антибольшевистских политических режимов, подвижная линия фронта и непрерывные волнения в тылу, поток беженцев и отступающих войск, постоянный рост инфляции, спекуляция, топливный, транспортный и продовольственный кризисы, эпидемии. Первая волна беженцев в Сибири была связана с отступлением Народной армии Комуча из Поволжья и приходилась на осень 1918 г. По данным, приведенным в статье В.М. Рынкова, поток вынужденных переселенцев достигал в то время 100 тыс. чел., 20 тыс. из которых должно было принять Томское губернское земство [39. С. 103-104]. «В Томск, - писала в начале ноября 1918 г. “Народная газета”, - продолжают прибывать беженцы из Казани, Симбирска, Самары и уездных городов означенных губерний... Положение... прямо-таки отчаянное. Большинство, если не все, бежали только в том, что на них было, многие не успели захватить даже документов. Тяжесть положения усугубляется еще отсутствием квартир и комнат в городе. Многие беженцы поселились по постоялым дворам, среди грязи и других невыносимых для интеллигентного человека условий. Счастливее те, кому удалось временно устроиться после долгих просьб у местных жителей» [40]. После некоторого затишья, летом-осенью 1919 г. последовала вторая, значительно более мощная, волна [39. С. 106-109]. «В Томск снова нахлынула волна беженцев, - констатировала в августе 1919 г. “Сибирская жизнь”. - Снова приходится говорить о принудительном вселении в обывательские квартиры приезжих» [41]. После возобновления свой деятельности в январе 1919 г. «Сибирская жизнь» регулярно публикует информацию о численности населения города. Цифры, которые приводила газета, были основаны на подсчетах районных комитетов, выдававших продовольственные карточки, и не отражали всей полноты картины. Тем не менее они дают представление об определенной динамике. Если в начале января в Томске насчитывалось 127 521 чел. [42], получавших продовольственные карточки, то к началу сентября их количество возросло до 135 662 чел. Кроме того, «в богадельнях, приютах и тому подобных учреждениях, не входящих в состав районов, числится 15 000 чел.», а также «прибыло очень много беженцев, которые районами еще не приняты на учет» [43]. К концу сентября количество жителей Томска, получавших продукты из районных продовольственных лавок возрастает уже до 167 172 чел. При этом «в этот счет не вошли служащие железных дорог и водного округа, получающие продукты из своих лавок, а также много беженцев, особенно прибывших в город в последнюю половину сентября» [44]. Таким образом, статистика, фиксировавшая рост населения в городе, явно запаздывала. Пика ситуация достигает в ноябре. «По сведениям городской продовольственной управы, в данное время количество населения Томска определяется в 211 325 чел. Число это значительно преуменьшено, так как в него не вошли все те, кто не имеет продовольственных книжек, а также и воинские чины» [45]. «Отсутствие свободных квартир и дороговизна комнат в Томске, - отмечала в июле 1918 г. “Народная газета”, - все более и более обостряют жилищный вопрос. Предстоящий переезд в Томск Временного Сибирского правительства, прибытие членов Областной думы, а затем осенний съезд учащихся несомненно до крайности усложнят квартирный вопрос. Городскому самоуправлению следовало бы подумать об устройстве каких-либо временных пристанищ для будущих жителей Томска» [46]. Через месяц газета, вновь обращаясь к тому же вопросу, пишет уже в более тревожных тонах: «Отсутствие помещений в Томске становится ужасающим. Гостиницы переполнены, квартир совершенно нет, изредка сдающиеся комнаты совершенно недоступны по цене» [47]. Дефицит жилых помещений в городе вынудил жилищную комиссию Томской городской управы в конце августа 1918 г. обратиться к томичам. «Жилищная нужда в городе Томске, - говорилось в воззвании, - с каждым днем чувствуется острее и острее. Расквартирование здесь большого количества войск, расширение военных госпиталей, приток беженцев, переезд Академии Генерального штаба, возвращение с каникул учащихся высших и средних учебных заведений - все это усиливает нужду в жилищах. Между тем свободных квартир в городе совсем нет, а отыскать свободные комнаты очень трудно. Такое положение обязывает граждан, обеспеченных помещением, потесниться и предоставить помещения вновь прибывающим. Добровольное уплотнение, начатое самими жителями, легче и безболезненнее разрешит жилищный кризис» [48]. Если суммировать все проявления квартирного вопроса в городе, то складывается следующая картина: - острый дефицит жилых помещений; - постоянная угроза реквизиций помещений, уплотнения и выселений; - ограничения на проживание и пребывание в городе; - повышение платы за наем помещений (квартплата, аренда); - снижение норм максимальной жилой площади; - массовый неплатеж за квартиры и комнаты, офисы и торговые площади; - рост социальных конфликтов и напряженности; - скученность и теснота проживания и размещения; «А пока необходимо потесниться»: жилищный вопрос в городской повседневности 91 - постоянная угроза срыва занятий в учебных заведениях (школы, гимназии, училища, университет, технологический институт); - усиление государственного контроля за распределением жилых помещений; - межведомственные конфликты; - злоупотребления и спекуляция, связанные с распределением и наймом жилья. Таким образом, давший о себе знать с лета 1918 г. «жилищный кризис» в Томске, так же как и в других городах востока России, - проблема глубокая и многослойная, включавшая экономическое, административно-управленческое, военно-политическое, социокультурное и даже морально-нравственное измерения. При этом сама «жилищная нужда» как показатель дефицита помещений, пригодных для размещения и проживания военных и гражданских лиц, была только частью общего узла проблем и противоречий. Косвенным, но довольно ярким свидетельством остроты вопроса служат печатавшиеся в томских газетах объявления о поиске квартир. Если в конце 1917 г. «тем, кто укажет свободную квартиру в 3-4 комнаты» предлагалось вознаграждение в 100 руб. [49], то два года спустя, к концу 1919 г., награда возросла до 1 000 руб. [50]. В декабре 1918 г. «тому, кто укажет в центре города или в районе университета комнату с электрическим освещением в квартире», сулили 10 фунтов сахара [51]. Пространственно в сферу «жилищного вопроса» оказался вовлечен как сам город, так и прилегающие к нему территории, периферия. Определяя основных акторов жилищных отношений того времени, можно четко выделить три основные стороны. Во-первых, это непосредственно городское население Томска. Во-вторых, самые разнообразные привходящие участники процесса: беженцы, размещенные в городе войска, эвакуированные учреждения и организации, их сотрудники, иностранные граждане и иностранные (чехословацкие, югославянские) воинские части. В-третьих, разноуровневые властные инстанции, представленные, с одной стороны, условно «центральной властью» антибольшевистских государственных образований на востоке России (Временное Сибирское, Временное Всероссийское, Российское адмирала А.В. Колчака правительства) в лице Совета министров, Административного совета и ряда министерств (внутренних дел, военное, финансов, юстиции, путей сообщения, народного просвещения), с другой - властью «местной». В качестве последней выступали должностные лица или учреждения, действовавшие на локальном уровне от лица центральной власти - томский губернский комиссариат, губернский комиссар, управляющий губернией, а также органы городского самоуправления - Томская городская дума и городская управа. В поиске оптимальных и эффективных организационных форм (жилищная инспекция, общегубернская жилищная комиссия, изменение статуса и функций городской жилищной комиссии, уполномоченный МВД по урегулированию жилищного вопроса в г. Томске, городская жилищная примирительная камера, строительный союз по борьбе с жилищной нуждой) город в течение 1918-1919 гг. пережил несколько этапов институционализации организационных структур, нормирующих и регулирующих решение «жилищного вопроса» в чрезвычайных условиях. Соединив довоенный опыт с новыми, порожденными чрезвычайными обстоятельствами формами, гражданские и военные власти города выработали основные меры по преодолению «квартирных затруднений»: - учет и централизованное распределение (отвод) помещений; - добровольное и принудительное уплотнение, нормирование жилой площади; - реквизиция помещений для нужд армии и правительственных учреждений; - принудительное выселение прежних хозяев помещений; - муниципальное регулирование найма жилья (штрафы и административный арест за несвоевременную выписку жильцов); - ограничение на проживание в городах нежелательных с точки зрения государственного и общественного интереса элементов. Наметились и три основных способа преодоления дефицита самих жилых помещений: - строительство нового жилья (в условиях Гражданской войны прежде всего - временного (бараки)); - перераспределение (в форме уплотнения и реквизиций); - переоборудование и перепрофилирование (летние дачи, нежилые помещения, железнодорожные вагоны). В Томске наблюдалось постоянное столкновение интересов: домовладельцы vs квартиросъемщики; жители города vs эвакуированные и беженцы; гражданские vs военные; центральная власть (правительство) vs местная власть (муниципалитеты); ведомства vs ведомства. Нарушение прав владельцев жилых и общественных зданий, чрезвычайщина, притеснения и произвол в этой сфере сформировали в Томске группу недовольных, в которую попали представители различных городских слоев: домовладельцы, собственники зданий общественного назначения (офисы, торговые предприятия, учебные и медицинские учреждения, театры и кинотеатры), студенты и учащиеся, профессора и преподаватели, сотрудники кооперативных и благотворительных организаций. В период Гражданской войны в городе продолжали действовать общественные организации, отражавшие интересы различных групп горожан в жилищной сфере - союзы домовладельцев и квартиронанимателей, что вело к политизации «квартирного вопроса». Столкновение интересов этих групп произошло летом 1919 г. во время избирательной кампании в Томскую городскую думу. «Город, - отмечала “Сибирская жизнь”, - разделился на два стана: домовладельцы, с одной стороны, квартиронаниматели, комнатонаниматели и съемщики углов - с другой. Материальные интересы этих двух групп диаметрально противоположны» [52]. При этом, как писала та же «Сибирская жизнь», «группировка кандидатов происходит по признаку взаимно сталкивающихся групповых имущественных интересов. Город как таковой, городское хозяйство и управление городом здесь решительно не при чем. Д.Н. Шевелев 92 Сколько будут брать за квартиры, сколько придется за них платить, какие суммы будут перекладываться из кармана одних обитателей города в карманы других, пополняя первые и облегчая вторые, вот в чем загвоздка. Борьба за городские интересы, за их понимание населением, уступила свое место борьбе за интересы отдельных групп городского населения» [53]. В Томске сложился предвыборный блок, объединявший союз квартиронанимателей, общественных деятелей, союз по борьбе с жилищной нуждой и продовольственные организации. Противостояние этого блока с союзом домовладельцев обусловило повышенную в сравнении с другими сибирскими городами активность избирателей. «Вопреки мнению, что по примеру других городов, в Томске кампания выборов пройдет вяло, что абсентеизм населения будет огромный и что, наконец, демократическая часть города на выборы совсем не пойдет, день выборов прошел оживленно. Во всех избирательных участках тянулись огромные “хвосты” избирателей всех классов и сословий в продолжение всего дня» [54]. Ситуацию с противостоянием двух сил точно и образно отразили предвыборные частушки, появившиеся в одной из томских газет: Домовладельческая: Дермидонтов, Молотковский -И дельцы, и смотрят вправо, А поэтому неважно, Что о них дурная слава. Квартиронанимательская: Квартиронаниматели Всех стран, соединяйтесь И, как законодатели, Квартирами сменяйтесь С домовладельцами... [55] Интересную зарисовку одного из избирательных участков в день выборов приводит «Сибирская жизнь»: «Общий говор. Толкотня. Сотни потных лиц в длинном “хвосте”. В разных местах улавливаются кусочки разговоров. - Что?! Вы со списком домовладельцев? Да вы что, батенька: видно, вместо пятидесяти хотите пятьсот платить?! “Батенька” буквально бледнеет. - Да я, собственно... не тот список. ошибка, знаете. И бежит на улицу, где приветливо приютился столкиоск союза квартиронанимателей с плакатами - “Долой домовладельцев”, “Ни одного голоса домовладельцам” и т.д.» [56]. В итоге «подавляющим количеством голосов прошел список квартиронанимателей; другие списки не дали ни одного гласного» [57], что стало своеобразной сенсацией на муниципальных выборах летом 1919 г. Анализ новостей и газетной публицистики показывает, что городская пресса не просто беспристрастно фиксировала происходившие события и «отражала» на своих страницах наиболее значимые для локальных сообществ проблемы. Периодические издания того времени, особенно имевшие в обществе солидную репутацию (например, «Сибирская жизнь») в различной мере управляли эмоциями и влияли на поведение своих аудиторий, выявляя взаимосвязи, расставляя акценты, смягчая или, наоборот, заостряя те или иные вопросы городской жизни. В этом смысле наш исследовательский интерес обусловлен переосмыслением и расширением представлений о роли массовой коммуникации в формировании политической «картины мира» и нацелен на определение возможностей периодической печати как новой формы социальной власти, генерирующей на локальном уровне воображаемые сообщества своих читателей. Современные научные подходы, ориентированные на изучение исторически сложившихся экономических и политических институтов как социально конструируемых пространств и объектов, меняют традиционные представления, фокусируя исследовательскую оптику на способности прессы формировать и управлять социальной реальностью. Понятие «информационное пространство», несмотря на свое относительно недавнее происхождение, прочно вошло в научный дискурс. Применительно к востоку России времен Гражданской войны первым его применил В.М. Рынков. «Время революции 1917 г. и гражданской войны, - писал он, - период массового вовлечения населения в политику. Поэтому принципиально важно понять, какие факторы определяли состояние информационного пространства, находившегося под контролем противоборствовавших сил, каков был удельный вес двух разнонаправленных процессов: идейной мобилизации общества государственной властью и информационной самоидентификации различных групп населения» [58. С. 105]. В годы Гражданской войны на востоке России сформировалось особое информационное пространство, которое являлось частью социального пространства и представляло собой совокупность характерных для того времени информационных ресурсов, средств информационного взаимодействия и информационной инфраструктуры. При этом сама организация информационного пространства и политическая коммуникация внутри его имели свою специфику: наибольшей плотностью обладали информационные потоки, циркулировавшие в городах, находящихся вдоль Транссибирской железной дороги и ее ответвлений (Омск, Новониколаевск (Новосибирск), Томск, Красноярск, Иркутск, Барнаул), многообразие форм собственности, «ориентация на потребителей разного интеллектуального и социального уровня» [58. С. 125], ограниченность ресурсов и выбора технических средств и технологий, падение качества печатной продукции. Наиболее распространенным каналом передачи массовой информации того времени, а также одним из важнейших инструментов воздействия на общество являлась периодическая печать. В условиях же отсутствия у антибольшевистских правительств, базировавшихся на территории Сибири, прочного идеологического фундамента именно пресса, придерживавшаяся официальной политической ориентации, представляла собой одновременно многомерное поле идеологического производства, пропагандистской репрезентации и борьбы за гегемонию в дискурсе. Во многом именно «А пока необходимо потесниться»: жилищный вопрос в городской повседневности 93 на страницах проправительственной прессы в оперативном режиме шло формирование идеологических смыслов и ценностей антибольшевистского движения: через осмысление политического и исторического опыта к концептуализации ключевых идеологем и трансляции пропагандистских установок. В свою очередь, идеологические ценности и установки определяли транслировавшуюся проправительственными изданиями медийную «картину мира», задавали рамки интерпретации процессов и событий мирового, национального и локального уровней. Неменьшей значимостью обладала местная периодическая печать, включая издания, выпускавшиеся должностными лицами или учреждениями, представлявшими на местном (губерния, область) уровне центральную власть - комиссариатами, комиссарами, управляющими губерниями, партийную, земскую и кооперативную периодику. Местная (губернская, уездная, городская) пресса аккумулировала и структурировала вертикальные и горизонтальные дискурсивные потоки, формировала и управляла на локальном уровне информационной повесткой. В Томске местные газеты внимательно следили за развитием ключевых для жизнеобеспечения города процессов, повышая или понижая свой интерес по мере развития событий. Косвенным подтверждением этому служит проведенный автором подсчет заметок, размещенных в разделе городских новостей газеты «Сибирская жизнь» в течение января-декабря 1919 г. Всего за это время было опубликовано не менее 309 сообщений, так или иначе касавшихся городских жилищных проблем. Распределение их по месяцам показано на рис. 1. Показательно, что интенсивность размещения заметок в рубрике «Томская жизнь» совпадает с основными волнами развития жилищного кризиса в городе. Следует принять во внимание, что всего за этот период в разделе местных новостей было напечатано не менее 3 745 заметок. Соответственно, сообщения, в той или иной мере относившиеся к жилищному вопросу, составляли чуть более 8%. Рис. 1. Интенсивность публикации заметок по теме «Жилищный вопрос» в разделе местных новостей газеты «Сибирская жизнь» (январь-декабрь 1919 г.) Сосредоточиваясь на наиболее важных, сложных и болезненных городских проблемах, пресса конструировала «общественный интерес» и «общественное мнение» по данным вопросам. В этом смысле можно говорить о своеобразных «жилищном дискурсе», или «жилищном нарративе». В Томске это дискурсивное пространство включало два хорошо очерченных поля, каждое из которых было связано с наиболее значимыми аспектами «жилищного кризиса»: острейшим дефицитом помещений и сложными отношениями между собственниками и арендаторами жилья. Основные «узловые точки» этих дискурсивных полей представлены на рис. 2. С начала декабря 1919 г. острота квартирного вопроса в городе заметно снижается. «Квартирный кризис в Томске, благодаря беженству на восток, разрешается, - отмечала “Сибирская жизнь”. - Если месяц тому назад с большим трудом можно было найти угол, то теперь сдается немало комнат и даже квартир с мебелью по дешевым ценам, а нередко и бесплатно. Сдают квартиры бесплатно томичи-беженцы, надеющиеся после скитаний возвратиться на старое пепелище» [59]. В газетах появляются даже такие объявления: «Вниманию отъезжающих! Желаю остаться при квартире, могу предоставить поручительство». 11 декабря «Сибирская жизнь» констатирует: «Многие томичи эвакуируются на Дальний Восток как по железной дороге, так и на лошадях. По Иркутскому тракту тянутся непрерывно обозы с беженцами и из других местностей. В городе много квартир пустует» [60]. 20 декабря 1919 г. в Томск вошли части Красной Армии [61. С. 53]. Д.Н. Шевелев 94 Дефицит помещении Г ородская жилищная комиссия. военный постой, эвакуация, оеженцы. размещение. ѵ чет помещении. обмер кварти
Ключевые слова
Сибирь,
Гражданская война,
Томск,
повседневность,
жилищный вопрос,
фреймингАвторы
| Шевелев Дмитрий Николаевич | Томский государственный университет | доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории древнего мира, средних веков и методологии истории факультета исторических и политических наук | shev-dn@yandex.ru |
Всего: 1
Ссылки
К жителям гор. Томска // Сибирская жизнь. 1919. 2 авг.
Малинова О.Ю. «Политическая культура» в российском научном и публичном дискурсе // Полис: политические исследования. 2006. № 5. С.106-128.
Колоницкий Б.И. Символы власти и борьба за власть: к изучению политической культуры Российской революции 1917 года. СПб. : Лики России, 2012. 320 с.
Штырбул А.А. Политическая культура Сибири: опыт провинциальной многопартийности (конец XIX - первая треть XX в.). Омск : Изд-во ОмГПУ, 2008. 612 с.
Штырбул А.А. Политическая культура Омска и Среднего Прииртышья первой четверти ХХ века // Вестник Омского университета. 2015. № 2 (76). С. 147-152.
Журавлев В.В. Понятие «политическая культура» в современных исследованиях по истории революции и гражданской войны в России // Власть и общество в Сибири в XX веке : сб. науч. статей. Новосибирск, 2015. Вып. 6. С. 17-31.
Список населенных мест Томской губернии на 1911 год. Томск : Тип. Губернского управления, 1911. 577 с.
Краев Ф.М. Г еография Томской губернии: для учителей средних и низших учебных заведений, учащихся учительских институтов, семина рий, педагогических курсов, высших начальных и 2-х классных училищ. Томск : Тип. Губернского управления, 1916. 122 с.
Дмитриенко Н.М. История Томска : книга для старшеклассников и студентов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2016. 208 с.
Сибирский торгово-промышленный ежегодник. 1914-1915 гг. Петроград, 1914. 1597 с.
Экономическое значение города Томска. Томск : Тип. Детского приюта и Дома трудолюбия, 1916. 22 с.
Чавыкин Г.В. Весь Томск на 1911-1912 гг. : адресно-справ. книжка. Томск, 1911. 369 с.
Нагнибеда В.Я. Организация Всероссийской переписи 1917 года в Алтайско-Томской части Сибири : (краткий отчет). Томск : Народная тип. № 2, 1920. 33 с.
Манонина Т.Н. Благоустройство г. Томска в конце XVIII - начале XX в. // Вестник Томского государственного университета. 2010. № 337. С. 92-95.
Город Томск. Томск : Изд. Сиб. т-ва печатного дела в Томске, 1912. 601 с.
Статистический ежегодник России. 1914 г. (год одиннадцатый) : изд. Центрального статистического комитета МВД. Петроград, 1915. 729 с.
Памятная книжка Томской губернии на 1915 год : изд. Томского губернского статистического комитета. Томск : Тип. Губернского управления, 1915. 292 с.
Рашин. А.Г. Население России за 100 лет (1811-1913 гг.) : стат. очерки. М. : Госстатиздат, 1956. 350 с.
Шиловский М.В. Первая мировая война 1914-1918 годов и Сибирь. Новосибирск : Автограф, 2015. 330 с.
Статистический ежегодник России. 1915 г. (год двенадцатый) : изд. Центрального статистического комитета МВД. Петроград, 1916. 659 с.
Статистический ежегодник России. 1916 г. (год тринадцатый) : изд. Центрального статистического комитета КВД. М. : Тип. Моск. Сов. Раб. Солд. и Кр. деп., 1918. Вып. 1. 124 с.
Косых Е.Н. Цены в Томске в 1917 г. // Вопросы экономической истории России XVIII-XX вв. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1996. С. 57-66.
Дмитриенко Н.М. Сибирский город Томск в XIX - первой трети XX века: управление. экономика, население Томск : Изд-во Том, ун-та, 2000. 284 с.
Список населенных мест Томской губернии: по данным позднейших переписей (1910, 1917 и 1920 гг.). Томск, 1923. 95 с.
Дмитриенко Н.М. Дороговизна в Томске в 1914-1917 гг. // Хозяйственное освоение Сибири. Вопросы истории XIX - первой трети XX вв. Томск : Том. ун-т, 1994. С. 89-99.
Шумилова Э.Е. Повседневная жизнь крупных городов Западной Сибири в годы Первой мировой войны. Екатеринбург : Изд. решения, 2020. 178 с.
Симонов Д.Г., Шиловский Д.Г. Первая мировая война // Историческая энциклопедия Сибири. Новосибирск : Ист. наследие Сибири, 2009. Т. 2: К-Р. С. 597-601.
Рынков В.М. Беженцы и принимающий социум: к характеристике социальной мобильности в годы Первой мировой войны // Гуманитарные науки в Сибири. 2015. Т. 22, № 3. С. 70-75.
Ерёмин И.А. Военнопленные Первой мировой войны в Западной Сибири // Известия Томского политехнического университета. 2007. Т. 310, № 1. С. 259-263.
Чудаков О.В. Размещение военнопленных органами городского самоуправления в Сибири в годы Первой мировой войны и период социальных катаклизмов (1914 - первая половина 1918 гг.) // Омский научный вестник. 2012. № 5 (112). С. 40-43.
Щетинина А.С. Беженцы и гражданские интернированные на юге Западной Сибири (1915-1920-е гг.) // Известия Алтайского государственного университета. 2007. № 4 (2). С. 177-182.
Когда рушились государства: судьба сибирской провинции в контексте Первой мировой войны : сб. документов и материалов. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2015. Т. 2. 240 с.
Чудаков О.В. Городское самоуправление в Томской губернии в годы Первой мировой войны (июль 1914 - февраль 1917 гг.) // Вестник Омского университета. 2011. № 3. С. 146-154.
Холодилин К.А. Зарождение ограничительного жилищного законодательства на территории бывшей Российской империи во время Гражданской войны // Новейшая история России. 2019. Т. 9, № 4. С. 858-879.
Ларьков Н.С. Сибирский белый генерал Томск : Изд-во Том. ун-та, 2017. 312 с.
Чехословацкий эшелон в Томске // Сибирская жизнь. 1918. 6 июня.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1918. 8 июня.
Козлова Д.С. Трансформация органов власти и управления в Томской губернии в период революции и гражданской войны (1917-1919 гг.) // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 399. С. 67-73.
Рынков В.М. «Сибирский бег»: вынужденные миграции на востоке России в годы Гражданской войны (1918-1922 гг.) // Известия Иркутского государственного университета. Сер. История. 2014. Т. 9. С. 101-115.
Хроника // Народная газета (Томск). 1918. 3 нояб. (21 окт.)
К уплотнению квартир // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 5 авг.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1919. 25 янв.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1919. 6 сент.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1919. 1 окт.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1919. 13 нояб.
Хроника // Народная газета (Томск). 1918. 16 (3) июля.
Хроника // Народная газета (Томск). 1918. 17 (4) авг.
К гражданам г. Томска // Народная газета (Томск). 1918. 1 сент. (19 авг.)
Дома. Квартиры. Дачи // Сибирская жизнь. 1917. 9 дек.
Дома. Квартиры // Сибирская жизнь. 1919. 11 дек.
Объявления // Голос народа. 1918. 13 дек.
Красноречивое молчание // Сибирская жизнь (Томск). 1919. 12 июля.
Будем откровенны! // Сибирская жизнь. 1919. 8 июля.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1919. 15 июля.
Предвыборные частушки // Сегодня (Томск). 1919. 7 июля.
На выборах // Сибирская жизнь. 1919. 17 июля.
По Сибири // Наше дело (Иркутск). 1919. 22 июля.
Рынков В.М. Антибольшевистские политические режимы и общество: взаимодействие на информационном пространстве восточных регионов России // Контрреволюция на востоке России в период гражданской войны (1918-1919 гг.). Новосибирск : Ин-т истории СО РАН, 2009. С. 105-125.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1919. 4 дек.
Томская жизнь // Сибирская жизнь. 1919. 11 дек.
Ларьков Н.С. Декабрьские события 1919 г. в Томске // Вестник Томского государственного университета. История. 2011. № 3 (15). С. 46-56.
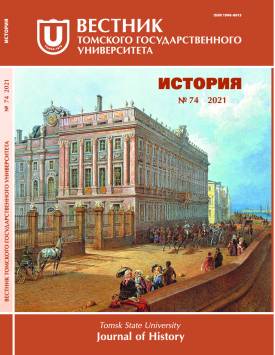

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью