Миф о кулайской черной металлургии: историография проблемы и перспективы ее решения
Рассматривается история черной металлургии в Западной Сибири в эпоху раннего железа. Анализ археологических материалов показал, что несмотря на частые заявления археологов о наличие в кулайской среде развитой металлургии железа, сегодня этому нет никаких надежных доказательств. Резюмируется, что, прежде чем реконструировать динамику и уровень развития кузнечного дела в таежной среде, сначала необходимо установить происхождение железных предметов с кулайских памятников и доказать их местное или импортное производство естественнонаучными методами. Дается краткий обзор этих методов.
The myth of the Kulay iron metallurgy: historiography of the problem and the prospects of its solution.pdf Введение В археологической литературе часто акцентируется мысль о появлении черной металлургии и даже о полном самообеспечении кулайского населения железными изделиями, о высоком развитии кузнечного дела и т.п. Однако при этом неизвестно ни одного достоверного свидетельства существования металлургии железа в таежной зоне Западной Сибири в эпоху раннего железа. Статья посвящена разбору этой проблемы и истории появления мифа о кулайской таежной металлургии. Для начала кратко осветим историографическую суть вопроса. Л.А. Чиндина, много лет плодотворно занимающаяся изучением кулайской культурно-исторической общности, указывает, что в начале новой эры железо местного производства окончательно вытеснило бронзу из орудийной деятельности, а кулайские кузнецы уже владели операциями свободной ковки и могли придать изделиям любую конструктивную форму [1. С. 142]. Она также делает смелый вывод о том, что кузнецы обеспечивали железными изделиями свою общину, но «...они еще не стали профессионалами, производящими продукцию на продажу» [Там же]. Т.Н. Троицкая применительно к Новосибирскому Приобью указывает, что в конце I тыс. до н.э. кулай-ские мастера производили железные ножи, кинжалы, наконечники копий и дротиков, удила и другие предметы [2. C. 56]. Анализируя в целом лесные культуры Западной Сибири в эпоху раннего железа, Л.Н. Корякова, С.В. Кузьминых, Г.В. Бельтикова пишут, что к III в. до н.э. лесные жители познакомились с кричным железом и изготавливали из него орудия труда и некоторые виды оружия [3]. С.А. Терехин называет переход к металлургии железа в кулайской среде «полной перестройкой материально-технической базы», которая произошла на саровском этапе [4]. Н.М. Зиняков считает, что в Томском Приобье на рубеже эр население кулайской культуры уже освоило металлообработку, а в IV-V вв. здесь появляется местная металлургия железа [5]. С этими выводами соглашается и Д.Ю. Рыбаков в своем диссертационном исследовании [6. С. 170]. Таким образом, разными учеными признается, что к рубежу эр население кулайской культуры освоило металлургию железа и производило на месте необходимые железные изделия. Теперь перейдем непосредственно к археологическим реалиям. Археологические данные и их интерпретация Современные исследования в разных регионах Евразии подтверждают гипотезу о том, что открытие железоделательных технологий было возможно лишь там, где уже ранее был накоплен большой опыт по добыче и переработке медных руд и где имелись железорудные месторождения [7-8]. Трансферт технологии получения железа также происходил быстрее в те регионы, которые уже были хорошо знакомы с цветной металлургией. Однако в таежной зоне Западной Сибири отсутствуют медные руды, и, соответственно, самостоятельно рудная металлургия здесь зародиться не могла. Местное таежное население, не имея опыта переплавки медных руд, не одно тысячелетие было зависимо от поставок готовой бронзы, которая шла на переплавку. В этой связи несколько неожиданными являются заявления о развитой кулайской черной металлургии, непонятно откуда взявшейся. Рассмотрим, на каких археологических данных основаны эти выводы, многие годы кочующие из одной статьи в другую. Черная металлургия всегда имеет легко отличимые археологические следы на поселениях: многочисленные фракции колотой руды, плавильные и кузнечные Миф о кулайской черной металлургии 179 шлаки, остатки железоплавильных и кузнечных горнов, мастерские-кузницы, кузнечные инструменты, заготовки и т.д. Это «грязное» производство оставляет столько отходов, что не заметить их в культурном слое невозможно. Однако на памятниках кулайской культуры таких производственных технокомплексов пока не обнаружено. Единственным свидетельством плавки железа в кулайской культуре на территории Томской области считается «горн» с Саровского городища (Нарым-ское Приобье), датированный I в. до н.э. - IV в. н.э. Автором раскопок отмечено, что конструкцию горна установить не удалось, и делается неожиданный вывод: «...железо варили в горшках в ямах или ставили на дно горна» [1. C. 141]. Точная датировка горна не установлена, поскольку радиоуглеродные анализы образцов угля из его заполнения не проводились. Второй подобный случай связан с городищем Барсов городок-І/4, расположенным в Сургутском Прио-бье, где найден сосуд со спекшейся шлаковой массой внутри [9]. Проблема интерпретации этих комплексов осложнена отсутствием геохимических исследований обнаруженных шлаков, поэтому сегодня остается непонятным назначение данных объектов (плавильные, где переплавляли руду, или кузнечные, где нагревали готовую железную крицу). Более того, до сих пор не доказано, что эти объекты вообще имеют отношение к металлургии железа. Нельзя исключать, что они связаны с производством бронзы. Далеко не всегда возможно отличить «на глаз» медные шлаки от железных. Только геохимические анализы могут достоверно установить тип шлаков. Единственным доказанным примером существования в Западной Сибири металлургии железа на рубеже эр являются остатки горнов на городище Усть-Полуй, расположенном в г. Салехард [10]. Однако на фоне общей изученности памятников кулайского времени металлургия Усть-Полуя выглядит как большое исключение, а не характерная черта экономики западносибирского населения. С.Г. Пархимович справедливо указывает: «Несмотря на значительные объемы археологических полевых работ, проведенных в таежной зоне Северо-Западной Сибири в последние десятилетия, проблема возникновения и эволюции местной черной металлургии остается малоисследованной. На огромной территории, включающей Нижнее и Среднее Приобье и Нижнее Прииртышье, в той или иной степени раскопаны сотни памятников раннего железного века и Средневековья, однако явные остатки металлургических горнов выявлены лишь на реке Конде и в низовьях Иртыша» [11. C. 100]. При этом горны на Конде и Иртыше, как известно, относятся к Средневековой эпохе. Добавим также к этому перечню территорий, что ни в Томском и Новосибирском Приобье, ни в Лесостепном Алтае, ни в Кузнецкой котловине железоплавильных и кузнечных горнов кулайского времени пока не найдено. Таким образом, археологические материалы говорят о том, что население Верхнего и Среднего При-обья в эпоху раннего железа не освоило железорудные месторождения и не умело выплавлять железо из местных руд [12]. Единственное исключение саровского горна, точная дата которого так и не ясна, как и его функциональное назначение (плавильный, кузнечный или вовсе связанный с переплавкой бронзы), не является основанием называть кулайское население умелыми металлургами и кузнецами, особенно когда речь идет об огромных пространствах Западной Сибири, где памятники черной металлургии отсутствуют как таковые. Отсутствие знаний о железоделательном производстве косвенно подтверждается и тем фактом, что иногда поселения и городища кулайской культуры расположены непосредственно у выходов доступной и качественной железной руды, но свидетельств производства железа на памятниках нет, хотя следы бронзолитейного дела встречаются широко [12, 13]. Ярким примером является городище Киреевское-III в Томском Приобье, датированное в широких пределах I тыс. до н.э. Городище было возведено непосредственно над выходившими на поверхность линзами железной руды, что фиксируется и в наши дни. Выглядело бы странным, если бы население городища, зная и практикуя технологии «варки» железа, не использовало бы широко встречавшуюся повсюду качественную железную руду, которую, к слову, позже активно разрабатывали средневековые металлурги Шайтанского комплекса памятников [14]. Однако как в слое кижировского времени (VI-IV вв. до н.э.), так и в кулайском (IV-II вв. до н.э.) слое городища Киреевское-III остатков железоделательного производства вовсе не обнаружено [13]. Здесь еще прочно бытовали традиции бронзолитейного производства: на этом же городище найдены сплески бронзы, литники, целые тигли и их обломки. Это говорит о том, что люди в кулайское время продолжали заниматься переплавкой бронзовых изделий / лома, а вот что такое железная руда и как ее плавить -они, вероятнее всего, просто не знали. Обсуждение Рассмотрим причины возникновения мифа о кулай-ской железной металлургии. Главная из них, на мой взгляд, сводится к тому, что многие археологи, включая специалистов по металлографии, автоматически относят обнаруженные на кулайских памятниках железные предметы к изделиям местного производства. После проведения металлографических исследований археологами делаются выводы об уровне кузнечных технологий, а потом эти выводы перетекают из одной статьи в другую, где ученые приписывают выявленные технологии местному таежному населению. Однако прежде чем реконструировать динамику и уровень развития кузнечного дела, сначала необходимо установить происхождение железных предметов и доказать их местное производство естественнонаучными методами. Особенно актуальна эта задача для изучения сибирской таежной металлургии, где вплоть до Нового времени известны общества, которые либо вообще не знали ни плавильного, ни кузнечного дела, пользуясь привозным железом, либо владели только примитивной ковкой, ничего не зная том, как переплавлять железные руды [12, 15]. Так, многие остяки, тунгусы, Е.В. Водясов 180 самоеды, юкагиры на протяжении XVII-XIX вв. не знали плавильных технологий, а ковали готовые крицы [16, 17. C. 284-285; 18. C. 380]. При этом многие остякские и тунгусские кузнецы изготавливали только простые плоские наконечники стрел, а топоров и ножей ковать не умели [17. C. 284-285]. Именно отсутствие естественнонаучных исследований происхождения железных вещей в кулайской среде и привело, на мой взгляд, к появлению мифа о кулайской черной металлургии. Отсутствие подобных исследований в российской археологии не ограничивается кулайской проблематикой и может приводить к появлению схожих мифов и на других территориях. Пути решения проблемы Долгое время лабораторные археометаллургические исследования в советской и постсоветской науке ограничивались, по сути, металлографическими исследованиями. Однако металлография не дает однозначного ответа на вопрос о конкретном месте изготовления предмета. Для этого необходим целый набор специальных геохимических методов [19]. Возможность установления места добычи руды для изготовления конкретного железного предмета обусловлена тем, что некоторые элементы переходят из руды не только в сыродутный шлак во время плавки, но и в шлаковые включения, всегда присутствующие в железных изделиях. Методика анализа шлаковых включений из железных изделий схожа методике анализа сыродутных шлаков, поскольку анализируются те же самые элементы, включая породообразующие (главные), а также редкие и рассеянные элементы [14-16]. Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ICP-MS) является высокочувствительным методом анализа большого спектра концентраций примесных микроэлементов в природных и искусственных материалах, включая руды, шлаки, металл. В последнее время анализы редких и рассеянных элементов в шлаках и рудах широко используются для выявления рудного источника на основании того, что эти элементы являются стабильными в условиях сыродутного процесса, переходят из руды в шлак и, как правило, не подвержены заражению из глиняной обмазки или древесного угля. Эта методика успешно применяется зарубежными коллегами [20-23]. Лазерная абляция и масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (LA-ICP-MS) применяется для определения содержаний макро- и микропримесей в археологических образцах в точке (размером от 20 до 500 мкм) без предварительной сложной пробоподготовки. Метод лазерной абляции с ICP-MS широко применяется для установления рудных источников железных изделий, поскольку позволяет проводить анализ редких элементов, характеризующих геологический генезис руд. Конкретные элементы, подходящие для выявления рудных источников железных из делий, включают: Th, U, Y, Nb, Hf, La, Ce, Рг, Nd, Sm, Eu, Y, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb, Lu. Данный аналитический подход наиболее эффективен, когда проводится комплексное сравнение составов шлаковых включений, железных руд, а также сыродутных шлаков, что было успешно продемонстрировано для разных регионов мира [20-24]. К этим методам также стоит добавить новую методику установления рудного источника для древних железных артефактов и продуктов металлургии железа при помощи анализов изотопов осмия [25]. Заключение Завершая обзор проблемы кулайской черной металлургии, необходимо резюмировать следующее. Во-первых, нет никаких надежных археологических доказательств существования местной черной металлургии в таежной зоне Западной Сибири в эпоху раннего железа. К слову, для этого времени хорошо датированные железоплавильные печи вообще представляют собой огромную редкость не только для Сибири, но и для всего Степного пояса Евразии. Напомним, что по мнению ряда ученых, таежное население уже к III в. до н.э. овладело железоплавильными и кузнечными технологиями [5-6]. В это время неизвестно ни одной железоплавильной печи в богатейших руднометаллургических регионах Южной Сибири, где металлургия железа, по современным данным, появляется лишь на рубеже эр в хуннское время, а ее расцвет падает на дальнейший период III-VII вв. н.э. [26-28]. Маловероятно, что таежные жители Западной Сибири овладели железными технологиями раньше кочевников Евразийских степей. Вероятнее всего, железные предметы, а возможно, и крицы поступали в таежную среду в виде импорта. Таким образом, прежде чем писать о наличии древней металлургии в таежных сибирских обществах, необходимы четкие верифицируемые доказательства. Пока их нет, все выводы о кулайской черной металлургии следует признать необоснованными. Во-вторых, металлографические исследования железных вещей с кулайских памятников, безусловно, отражают технологию их изготовления, но это никоим образом не означает, что сами вещи являются кулай-скими и изготовлены на месте. Как показывают сибирские этнографические материалы, многие таежные коллективы перерабатывали привозные крицы, не умея плавить руды, а некоторые и вовсе не владели ни плавильными, ни кузнечными технологиями. Решить эту проблему может только набор современных геохимических методов, направленных на установление источника происхождения железного предмета. Пока таких исследований проведено не будет, как и не будет открыто железоплавильных и кузнечных горнов кулайской культуры, выводы о таежной черной металлургии эпохи раннего железа можно относить к археологическим мифам.
Ключевые слова
кулайская культура,
Западная Сибирь,
металлургия железа,
кузнечное делоАвторы
| Водясов Евгений Вячеславович | Томский государственный университет | кандидат исторических наук, заведующий лабораторией междисциплинарных археологических исследований «Артефакт» | vodiasov_ev@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1984. 256 с.
Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск : Наука, 1979. 128 с.
Корякова Л.Н., Кузьминых С.В., Бельтикова Г.В. Переход к использованию железа в Северной Евразии // Материалы Круглого стола «Пе реход от эпохи бронзы к эпохе железа в Северной Евразии», Санкт-Петербург, 23-24 июня 2011 г. СПб., 2011. С. 10-16.
Терехин С.А. Цветная металлообработка как фактор социально-экономической реконструкции кулайской культуры // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 3 (23). С. 299-301.
Зиняков Н.М. Железообрабатывающее производство Томского Приобья эпохи раннего железа // Актуальные проблемы древней и средневе ковой истории Сибири : сб. ст. / отв. ред. А.И. Боброва. Томск : Том. гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники, 1997. С. 150-154.
Рыбаков Д.Ю. Томское Приобье в конце IV/III в. до н.э. - IV в. н.э. : дис.. канд. ист. наук. Томск. 2014. Т. 1. 239 с.
Erb-Satullo N.L. The Innovation and Adoption of Iron in the Ancient Near East // Journal of Archaeological Research. 2019. № 27. P. 557-607.
Pleiner R. Iron in Archaeology: The European Bloomery Smelters. Archeologicky dstav AVCR, 2000.
Чемякин Ю.П., Жирных Е.А. К вопросу о возникновении черной металлургии на севере Западной Сибири // Современные решения акту альных проблем евразийской археологии : сб. науч. ст. / отв. ред. А.А. Тишкин. Барнаул : Изд-во Алт. гос. ун-та, 2018. Вып. 2. С. 51-55.
Водясов Е.В., Гусев Ан.В., Асочакова Е.М. Усть-Полуй: древнейшие свидетельства черной металлургии в Арктике // Сибирские исторические исследования. 2017. № 3. С. 113-132.
Пархимович С.Г. Поселение Усть-Камчинское 2 на реке Малый Салым (к проблеме возникновения черной металлургии в Северо-Западной Сибири) // Древнее наследие Средней Оби на территории хозяйственного освоения ООО «РНЮганскнефтегаз»: Екатеринбург : Магеллан, 2013. С. 94-115.
Водясов Е.В., Зайцева О.В. Тернистый путь черной металлургии в таежном Обь-Иртышье // Stratum Plus. 2017. № 6. С. 237-250.
Водясов Е.В. «Киреевский яр»: перспектива создания природного парка как нового бренда в Томской области // Вестник Томского государственного университета. 2014. № 385. С. 85-90.
Водясов Е.В., Асочакова Е.М. В поисках железных рудников: геоархеологический взгляд // Сибирские исторические исследования. 2020. № 2. С. 170-188.
Vodyasov E.V. Ethnoarchaeological research on Indigenous iron smelting in Siberia // Сибирские исторические исследования. 2018. № 2. С. 164-180.
Иванов В.Н. Кузнечное дело у якутов в XVII в. // Якутский архив : сб. ст. и документов. Якутск : Якут. кн. изд-во, 1966. Вып. 3. С. 64-76.
Миллер Г.Ф. Описание сибирских народов / изд. А.Х. Элерт, В. Хинтцше;ер. с нем. А.Х. Элерт. М. : Памятники исторической мысли, 2009. 456 с.
Серошевский В.Л. Якуты. Опыт этнографического исследования. 2-е изд. М. : Рос. полит. энцикл., 1993. 736 с.
Зайцева О.В. Введение к специальной теме номера: возможности и методы современной археометаллургии // Сибирские исторические исследования. 2020. № 2. C. 87-90. DOI: 10.17223/2312461X/28/6
Charlton M.F., Blakelock E., Martinon-Torres M., Young T. Investigating the production provenance of iron artifacts with multivariate methods // Journal of Archaeological Science. 2012. Vol. 39, is. 7. P. 2280-2293. DOI: 10.1016/j.jas.2012.02.037
Dillmann P., Schwab R., Bauvais S., Brauns M., Disser A., Leroy S., Gassmann G., Fluzin P. Circulation of iron products in the North-Alpine area during the end of the first Iron Age (6th-5th c. BC): A combination of chemical and isotopic approaches // Journal of Archaeological Science. 2017. № 87. P. 108-124. DOI: 10.1016/j.jas.2017.10.002
Stepanov I.S., Weeks L., Franke K.A., Overlaet B., Alard O., Cable C.M., Al Aali Y.Y., Boraik M., Zein H., Grave P. The provenance of early Iron Age ferrous remains from southeastern Arabia // Journal of Archaeological Science. 2020. Vol. 120. Art. 105192. DOI: 10.1016/j.jas.2020.105192
Desaulty A.-M., Mariet C., Dillmann P., Joron J.L., Fluzin P. The study of provenance of iron objects by ICP-MS multielemental analysis // Spectro-chimica Acta. Part B: Atomic Spectroscopy. 2008. Vol. 63, is. 11. P. 1253-1262. DOI: 10.1016/j.sab.2008.08.017
Leroy S., Cohen S.X., Verna C., Gratuze B., Tereygeol F., Fluzin P., Bertrand L., Dillmann P. The medieval iron market in Ariege (France). Multidisciplinary analytical approach and multivariate analyses // Journal of Archaeological Science. 2012. № 39. P. 1080-1093. doi: 10.1016/j.jas.2011.11.025
Brauns M., Yahalom-Mack N., Stepanov I., Sauder L., Keen J., Eliyahu-Behar A. Osmium Isotope Analysis as an Innovative Tool for Provenancing Ancient Iron: A Systematic Approach // PLoS ONE. 2020. № 15 (3). e0229623. DOI: 10.1371/journal.pone.0229623
Vodyasov E.V., Zaitceva O.V., Vavulin M.V., Pushkarev A.A. The earliest box-shaped iron smelting furnaces in Asia: New data from Southern Siberia // Journal of Archaeological Science: Reports. 2020. № 31. Art. 102383. DOI: 10.1016/j.jasrep.2020.102383
Vodyasov E.V., Stepanov I.S., Sadykov T.R., Asochakova E.M., Rabtsevich E.S., Zaitceva O.V., Blinov I.A. Iron metallurgy of the Xianbei period in Tuva (Southern Siberia) // Journal of Archaeological Science: Reports. 2021. Vol. 39. Art. 103160. DOI: 10.1016/j.jasrep.2021.103160
Водясов Е.В., Зайцева О.В. Древнейшие памятники черной металлургии в Горном Алтае: новые данные из долины реки Юстыд // Сибирские исторические исследования. 2020. № 2. С. 127-147.
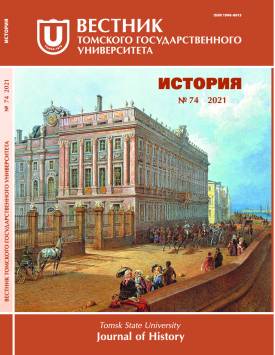

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью