Профессиональное сообщество томских ученых-радиофизиков в первой половине ХХ века: центр-периферийные отношения
Предпринимается попытка методологического осмысления теории центр-периферийных отношений применительно к изучению научного сообщества ученых-радиофизиков г. Томска первой половины XX в. Источниковой основой работы послужили материалы делопроизводственной документации, а также воспоминания современников. По итогам исследования авторы выводят закономерную связь между институционализацией в вузах Томска радиофизики как базовой инновации четвертого технологического уклада, ставшего ядром советского модерна, и реализацией концепций регионализации науки в рамках принятой в СССР мобилизационной парадигмы.
Professional community of Tomsk scientistsradiophysicists in the first half of the XX century: centerperipheral relation.pdf Проблемы взаимодействия центра и регионов государства широко обсуждаются в научной литературе. Этот вопрос особенно актуален для России, обладающей обширной территорией, специфичными природноклиматическими условиями и разнообразными национально-культурными особенностями. В российской историографии проблемы развития регионов, как правило, рассматривались фрагментарно под экономическим, национальным или краеведческим ракурсом [1]. Между тем комплексность и глубина региональных исследований связаны с пониманием взаимодействия центра и периферии. Это применимо и к развитию отечественной науки в историческом аспекте. Наложение координатной сетки центр-периферийных отношений в качестве объяснительной схемы на материал советской физики представляется сколь продуктивным, столь и дискуссионно емким: специфика советских социокоммуникативных практик и административных рынков делает географические и формально-организационные критерии их структурирования предельно условными, ставя вопрос о необходимости дополнения этой исследовательской стратегии вспомогательным инструментарием. На роль последнего вполне могут претендовать отдельные положения модернизационной теории, критически переосмысленные с учетом советских социально-политических реалий, откровенно выламывающихся из классических формулировок основных положений данного теоретического концепта. Центр-периферийные взаимодействия практически всегда так или иначе связаны с политической сферой и отношениями административно-властного регулирования [2]. Это объясняется тем, что в центр-перифе-рийных взаимоотношениях необходимо обеспечить движение ресурсов с целью их концентрации и централизации на ключевых точках. В этой связи важную роль играет само право осуществлять управление этими процессами распределения ресурсов, которое принадлежало государственным структурам. Фокусировка отечественного опыта научно-технологического развития сквозь призму центр-периферийной концепции демонстрирует повторяющееся сочетание попыток государственной организации «рывка» в этом направлении с актуализацией проблем геостратегического позиционирования в рамках системности глобального миропорядка. Это в конечном счете и определяет статус государства как важнейшего (если не единственного) субъекта модернизационных процессов, успех которых им самим субъективно измеряется главным образом категориями военно-политического могущества и господства. Объективным же мерилом здесь в любом случае остается переход на новый техникотехнологический базис. Соответствующим образом логика этих стандартов миропонимания опрокидывается и вовнутрь страны, переносясь на собственную периферию и воспроизводя специфический тип управления, в том числе способ выстраивания взаимоотношений власти с одним из основных ресурсов модернизации - научным сообществом, лидеры которого, обеспечивая ее интеллектуальную составляющую, в разное время, в зависимости от обстоятельств, могли выступать и как оппоненты государства, и как его деятельные союзники. Реактивный характер российской модернизации, являвшейся вынужденным ответом гиперцентрализованного государства на внешние вызовы, раз за разом косвенно оборачивался ретерриторизацией пространств (географических и культурных) его периферии как побочным результатом обкатки новых властных технологий. Непосредственно на местах это находило свое отражение в самом широком спектре изменений, происходивших в рамках процессов, описываемых в категориях внутренней колонизации: от линий административных границ и макрорегиональной сегментации до монтажа новых коммуникативных каналов и трансформации образов ментальной географии. Неизбежно затрагивалось при этом и научно -образовательное пространство, по ходу модернизации последовательно расширявшееся с каждой новой ее Профессиональное сообщество томскихученых-радиофизиков в первой половине XX века 201 попыткой - решающую роль проводника модерниза-ционных импульсов играло научно-педагогическое сообщество. Отзыв конкретных научно-образовательных локальностей на посланный центром сигнал и определял в конечном счете степень вписанности того или иного региона в формировавшийся модерновый контекст. Качество же этого отзыва напрямую зависело от интегральных показателей самого регионального научнообразовательного сообщества как интеллектуального коллектива со своим modus cogitandi, специфицирующего в регионе науку как базовую ценность модерна посредством реализации принятой образовательной модели. Они определялись параметрами природного и антропогенного ландшафта, пространственно-временными характеристиками культурной среды, общей способностью членов сообщества к осуществлению медиативных практик. В этой связи весьма иллюстративны траектории эволюции научных сообществ Сибири - полигона советской фронтирной модернизации, на котором испытывались и успешно прививались авангардные формы структурации социально-экономического, культурного и научно-образовательного пространств. По традиции, заложенной еще с учреждения Томского университета и тянувшейся как минимум до появления новосибирского академгородка, именно неформально-профессиональные объединения местных и вновь прибывших интеллектуалов зачастую были теми маяками культурной колонизации, что освещали извилистые пути наступления сюда современности. Все сказанное справедливо и для физики и, в частности, радиофизики -базовой инновации четвертого технологического уклада, ставшего ядром советского модерна. Привлечение ценностно-смысловых и организационно-технологических составляющих категории модернити для толкования профессиональных поведенческих практик физиков сибирской периферии в контексте их взаимодействия с местными и центральными властями и раскрытия тем самым содержательного значения их научнопедагогической деятельности в общесоюзном масштабе позволит приблизиться к адекватной интерпретации социальной природы феномена советской науки, достигшей своего пика как раз в рамках изучаемого периода. И здесь необходимо учитывать, что советские физики 1930-1950-х гг., располагая внушительным символическим капиталом (П. Бурдье), являлись не просто отдельной социально-профессиональной корпорацией (одним из советских «сословий») - в системе внутринаучной стратификации они играли роль «центра», по отношению к которому все остальные отрасли научного знания находились на «периферии». Одновременно они стояли на периферии по отношению к политическому центру как источнику модернизации (при том что сами физически могли располагаться как в столицах, так и на окраинах). Такое понимание понятий «центр» и «периферия» не столько отсылает нас к географическим категориям, сколько рассматривает их с точки зрения обладания властью и рычагами влияния на распределение ресурсов, что закрепляет за ними субъектность и объектность, когда речь идет об источниках модернизации. В любом случае, отвечая за адаптацию чужих и генерацию собственных техникотехнологических новаций, физики провинции выступали одним из основных драйверов модернизацион-ных субпроцессов - индустриализации, урбанизации, культурной революции. Иными словами, советская физика, помимо всего прочего, играла еще и роль своего рода передаточного звена, транслировавшего интенции центра на периферию. Институционализация радиофизических исследований в Сибири и формирование на ее основе томского радиофизического сообщества неразрывно связаны с проблемой регионализации отечественной науки и высшего образования и реструктуризации научно -образовательного потенциала страны. В этом отношении весьма примечательно, что кризисные явления в научно-технической сфере начала XX в. во многом коррелировали с динамикой революционного процесса в России, обусловленного, в свою очередь, затуханием импульса Александровской модернизации. Тем более это символично, что появление на основе электродинамики радиофизики (наряду с другими составляющими очередной научной революции - квантовой механикой, теорией относительности и пр.), «обнулившее» когнитивный потенциал предыдущей научной картины мира, синхронизировалось с не менее катастрофичными тектоническими сдвигами социальнополитического и культурного характера, не только изменившими облик как России, так и мира в целом, но и задавшими новые стандарты прочтения окружающей реальности, инициировав тем самым столь же принципиально новые миростроительные проекты. Подобного рода синхронистическая взаимосвязь представляется вполне закономерной в свете того, что своеобразными точками «фазового перехода» в истории сибирской радиофизики, приведшего к ее «кристаллизации» в форме научно-образовательных институций, стали Первая мировая и Гражданская войны. В силу всего этого реконструкция развития региональной радиофизики видится перспективной не только и не столько в сугубо историко-научном ключе, сколько в более объемном культурно-историческом плане -как иллюстрация многослойного процесса вовлечения центром периферийных локальных сообществ в орбиту индустриальной среды «большого общества» посредством имплантации модерновых социальных конфигураций. Радиофизика же здесь выступает в двоякой роли примера организации научно-технологического прорыва на путях модернизации и одновременно (как радиосвязь) приметы времени и символа преодоления географических и космических расстояний, государственных и ментальных границ. Проблема регионализации вузовской науки как основного субстрата сибирской радиофизики в раннесоветский период осложнялась противоречивостью характера отношений между новой властью и научнопедагогическим сообществом. Радикальные реформы системы управления высшим образованием, организации учебного процесса и роли в этом профессоров и преподавателей стали в буквальном смысле катастрофическими и для самой классической модели, доставшейся большевикам в наследство от императорской А.Г. Костерев, В.В. Расколец, М.Ю. Ким 202 России, и для значительной части вузовской интеллигенции, главным образом профессуры. В то же самое время нельзя не признать объективный факт того, что, как это ни парадоксально, именно хаос времен революции и Гражданской войны в немалой мере способствовал генезису первичных горизонтальных связей между томскими радиофизиками-пионерами в условиях отсутствия устойчивых каналов коммуникации с властью, а зачастую и ее самой как таковой. Резко возросшая еще с Первой мировой войны академическая мобильность и мобилизация на фронты Гражданской войны обернулись научной миграцией в Томск целого ряда специалистов, среди которых были будущие корифеи как региональной, так и центральной радиофизики. Скудность материальной базы в условиях материальной разрухи вкупе с общей демократизацией внутривузовской жизни первых послереволюционных лет содействовали налаживанию профессиональных и учебно-научных контактов между преподавателями, инженерами и любителями-самоучками, благодаря чему некоторые инженеры станут преподавателями, а дилетанты - признанными учеными. Отношение центра к периферии (в данном контексте - сибирской) начинает меняться с середины 1920-х гг., и связано это как раз-таки со взятием большевистским руководством принципиального курса на индустриализацию, ставшую триггером модернизационных трансформаций, и с сопряженными с этим определенными изменениями политики в сфере науки и высшего образования. Необходимость радикального технического переоснащения промышленности и выхода страны на новые технологические рубежи требовала расширения периферийной сети научно-исследовательских учреждений (так называемая «борьба с научной анемией», в соответствии с метким замечанием Я.И. Френкеля). Решающим фактором здесь стала необходимость создания второй угольно-металлургической базы (решение «урало-кузнецкой» проблемы). Данный поворот и стал «великим переломом» в социальной истории отечественного научно-педагогического сообщества, втягивая его отдельные профессиональные и региональные сегменты в процессы институционализации новой советской науки, начавшейся с создания множества НИИ, прежде всего на периферии (Украина, Урал, Сибирь), большая часть которых возникала на основе уже имевшихся кадровых и лабораторных ресурсов ближайших вузов. Эго само по себе выводило местную научную элиту (главным образом физическую) на принципиально новый стратификационный уровень: рост финансирования и создание необходимых условий для проводимых исследований. С другой же стороны, известные гарантии стабильности напрямую зависели от степени и скорости интеграции в трансформирующийся социум, а в дальнейшем и в его элиту. Как следствие - некоторые из ученых и преподавателей становятся администраторами от науки. Все это в целом было обусловлено содержанием очередного, решающего витка советской модернизации - форсированным переходом на долговременные рельсы автономного развития путем мобилизации всех имевшихся на тот момент в распоряжении собственных материальных и идейных ресурсов на построение индустриальной базы государственного социализма. Советская научно-образовательная политика в Сибири в 1920-1930-х гг. разрабатывалась и реализовывалась в русле стратегии «догоняющей модернизации» и рассматривалась как необходимое и важнейшее условие данного процесса. В связи с этим одним из факторов модернизации явился накопленный за имперский период научно-образовательный потенциал региона (прежде всего кадровый, представленный местным научно-педагогическим сообществом). Расширение системы высшего образования в восточном направлении и ее углубление за счет открытия новых факультетов и специальностей осуществлялось во многом под действием своеобразной «плановой эйфории» государственного руководства страны и части научной элиты, так или иначе инкорпорированной в советскую систему управления. Партийно-государственные органы, кровно заинтересованные в опережающих темпах промышленного роста, резко усилили масштабы и темпы подготовки кадров специалистов. В принципе, данная тенденция достаточно явно обозначила себя еще до начала первых пятилеток -с начала 1920-х гг., когда перед наукой (и прежде всего - региональной) все более четко и настойчиво ставилась задача поиска кратчайших путей по установлению максимально эффективной связи со сферой непосредственного производства и текущими проблемами техники. Открытие новых актуальных на тот момент отделений и специализаций в подобных условиях зачастую было вынужденным шагом вузовских администраций в попытках избежать принудительного низведения высшего образования на уже имеющихся факультетах и кафедрах до уровня техникумов. Тем не менее открывшаяся на этой волне в Томске университетская специальность «электромагнитные колебания и волны» не стала пассивной реакцией периферии на сигналы из центра: опираясь на относительно высокую квалификацию профессорско-преподавательского состава и уже имевшийся опыт местных радийных активистов, она практически сразу же предстала точкой пересечения научных и изобретательских практик, рекрутируя в свою среду наиболее талантливых радиолюбителей, многие из которых в дальнейшем сыграют важную роль в советском радиостроительстве как на региональном, так и на союзном уровне (А.С. Балакшин, В.Г. Денисов, Б.П. Кашкин, Б.Н. Хитров). Ключевой же фазой институционализации радиофизики в Томске и одновременно структурного оформления здесь радиофизического сообщества как отдельной подгруппы местного научно-педагогического микросоциума стало открытие Сибирского физикотехнического института (СФТИ), символически совпавшее с началом первой пятилетки, давшей старт советскому этапу индустриальной модернизации. Появление физического института в Сибири имело вполне объективные основания и уже сложившиеся к середине двадцатых годов предпосылки. Его идейным предтечей и кадровой базой был Институт прикладной физики (ИПФ) при Томском технологическом Профессиональное сообщество томскихученых-радиофизиков в первой половине XX века 203 институте, являвший собою удачный пример позитивного опыта выстраивания горизонтальных связей и творческой коллаборации институтских и университетских физиков, реализовывавшейся в рамках частной инициативы. Об определенных успехах подобного полунеформального объединения свидетельствует признание Томска одним из центров советской физики на IV съезде русских физиков в Ленинграде, состоявшемся в 1924 г. (томичам принадлежало 10% сделанных докладов) [3. С. 218]. Идея учреждения в Томске физико-технического института созрела у и.о. заместителя директора ИПФ В.Д. Кузнецова к 1925 г., совпав по времени с инициативой директора физико-технического института РАН A. Ф. Иоффе развернуть по стране сеть физических НИИ. В лице последнего будущий директор СФТИ приобрел многолетнего покровителя и единомышленника. Кроме того, это начинание получило активную поддержку со стороны влиятельных фигур: члена-корреспондента АН СССР Н.Н. Семенова и директора института физики и биофизики Наркомздрава П.П. Лазарева. Особую роль в судьбе СФТИ сыграли установившиеся отношения между томскими и ленинградскими физиками, решительное содействие которых немало поспособствовало делу открытия института, создававшегося по образу и подобию Государственного физико-технического института в Ленинграде. На постоянную работу в только что открывшийся СФТИ прибыл солидный «десант» физиков-ленинградцев. Штат института пополнялся и выходцами и из других регионов. В.Д. Кузнецов, продвигая идею открытия физико-технического института в Томске, предложил свой вариант его структуры (скорректированный ленинградцами), предусматривавший наличие собственной радиолаборатории. Несмотря на то, что для томской радиофизики СФТИ на долгие годы стал настоящим домом, заселилась она туда не сразу, потому как на место организатора, теоретика и идейного вдохновителя, который бы согласился поехать в Томск, подходящего кандидата найти не удавалось до 1930 г., когда в Томск прибыл В.Н. Кессених, ставший заведующим институтской радиолабораторией. Его появление в Томске фактически поднимало местную стихийную радиотехнику до уровня радиофизики как самодостаточной автономной области научного поиска. Неслучайно именно он вскоре занял должность заместителя директора института по научной части (директор института В.Д. Кузнецов явно больше тяготел к руководству опытно-экспериментальной работой). Следует подчеркнуть, что радиофизика СФТИ с первых дней своего существования была тесно связана с университетской. Вся научно-исследовательская работа кафедры электромагнитных колебаний проводилась на базе радиолаборатории института. Научными руководителями проводимых исследований были B. Н. Кессених и А.Б. Сапожников. Радиофизики института читали лекции и вели практические занятия со студентами университета, а преподаватели кафедры имели возможность заниматься научными исследованиями в радиолаборатории СФТИ. Как следствие, развитие томской радиофизики проходило в условиях соблюдения необходимого баланса научной и образовательной составляющих. Возникновение и развитие новых ответвлений радиофизических исследований в СФТИ приводило к организации в университете новых кафедр, которые готовили специалистов по новым направлениям, что, в свою очередь, давало толчок развитию исследований в институте [4]. Новоявленный лидер томских радиофизиков В.Н. Кессених оказал непосредственное влияние и на исход борьбы за профиль только что открытого института. Сыграв на стороне ученицы В.Д. Кузнецова М.А. Боль-шаниной, он склонил чашу весов в пользу возглавляемой ею группы сотрудников, выступавших за максимальную связь СФТИ с промышленностью, противостояла которой «ленинградская группировка», видевшая его сугубо научным учреждением. Сам же В.Д. Кузнецов, связанный особыми отношениями с ленинградцами и находившийся под их большим влиянием, но испытывавший при этом все нарастающее давление других своих коллег, не присоединился ни к одной из сторон. Во многом из-за этого он в 1933 г. оставит пост директора института, передав его В.Н. Кессениху. Основатель вернется на свое место в 1936 г. [5. С. 78-82]. Отношения между двумя крупнейшими сибирскими физиками - В.Д. Кузнецовым и В.Н. Кессенихом -были весьма сложными все время их знакомства и сотрудничества. Причины тому - как разница стилей организации научной работы («энергия без вектора» стихийного экспериментатора В.Д. Кузнецова и вдумчивая последовательность «немецкой» систематичности В.Н. Кессениха), так и разность личностных потенциалов - колкость острого на язык В.Н. Кессениха не встречала адекватного восприятия у предельно тактичного и требовавшего того же от других В.Д. Кузнецова, всегда крайне болезненно переживавшего любые выпады в свой адрес. Судя по всему, имела место и межпоколенческая конкуренция: более молодой В.Н. Кес-сених был представителем первой генерации уже формально советских физиков, в то время как В.Д. Кузнецов относился к представителям позднеимперской науки. С большой долей вероятности можно предположить, что амбициозный и деятельный радиофизик тяготился вездесущей фигурой не менее активного в силу своей большей разносторонности физика-твердотельника. При этом, если В.Д. Кузнецов неизменно признавал ценность В.Н. Кессениха как научного работника, то тот относился к своему старшему коллеге с некоторым высокомерным снисхождением [6. С. 33-34]. Но, что характерно, вся эта натянутость ни в коей мере не сказалась отрицательным образом на статусе радиофизики в СФТИ. Особое наполнение центр-периферийным связям внутри советской науки придавали идеологические кампании и акты репрессий, резонансом прокатывавшиеся от столиц к провинциям в 1930-1950-е гг. Их рассмотрение безотносительно самой науки в широком модернизационном контексте общенационального масштаба позволяет судить о том, что в скудном организационно-технологическом арсенале «центра» они предстали самым простым и относительно эффективным способом и одновременно средством коммуника- А.Г. Костерев, В.В. Расколец, М.Ю. Ким 204 ции с фрустрированной и дезориентированной «периферией» - географической и культурной. В этом плане парадоксальная специфика положения томской научно-образовательной локальности относительно других периферийных зон заключалась в том, что она рассматривалась, помимо прочего, еще и как место научной ссылки (в чем, собственно, наглядно и проявляла себя советская вариация внутреннего колониализма): политически неугодные и потенциально неблагонадежные элементы (например, известные ленинградские физики-теоретики П.С. Тартаковский и Д.Д. Иваненко) отправлялись сюда на время или навсегда, удаляясь от центра на периферию, но приближая тем самым эту периферию к центру. Одним из следствий этой транслокальности являлась возможность обретения относительной свободы внутри границ местного научного сообщества: сосланных, как правило, больше особо не трогали, а самоцелью как объект репрессивных практик Томск никогда не был. Пережила эти времена физика Томского госуниверситета относительно благополучно, чего не скажешь о местной школе баллистики, базировавшейся в НИИ математики и механики при университете, а также о биологах. Но и в стороне от шедших процессов она тоже не осталась. Радиофизика ни в СФТИ, ни в целом по Томску не понесла существенных человеческих потерь, но это вовсе не означает, что для нее данный переломный во всех смыслах период прошел бесследно. Выдавливание из института так и не прижившейся там теоретической физики (не без участия В.Н. Кессе-ниха) окончательно закрепило за ним жесткую индустриальную привязку, что не могло не сказаться на характере проводимых там радиофизических исследований. Широта взглядов самого В.Н. Кессениха как лидера направления принципиально уже обозначившуюся тенденцию не меняла: радиофизика здесь все чаще выступала прежде всего как теоретическая база радиотехники и лишь потом - как самоценная сфера научного поиска. Ионосферные исследования, организованные в ТГУ при посредничестве (и по заданию) Академии наук СССР в 1930-1940-е гг. носили преимущество эмпирический характер и финансировались скудно. В 1920-1930-е гг. формирование томского радиофизического сообщества шло как «сверху» - посредством реализации государственной научно-технической и научно-образовательной политики через открытие научных и учебных учреждений, так и «снизу» - путем самоорганизации и координации усилий представителей местной профессорско-преподавательской корпорации и участников радиолюбительского движения. Эта координация осуществлялась в двух измерениях: «вертикальном» - следовании мировым и общесоюзным векторам развития радиофизики, и «горизонтальном» - разработке местной радиотехнической тематики под действием периферийных регуляторов, обусловленных актуальными региональными факторами (радиофикация, Урало-Кузнецкая проблема и пр.). Существенной особенностью начального этапа складывания томской радиофизической корпорации явились теснейшие связи (личные и профессиональные) ее участников с представителями местного физического сообщества вообще, нашедшие свое главное выражение в той роли, что сыграл в деле укоренения здесь радиофизики один из его общепризнанных (формальных и неформальных) лидеров - основоположник томской научной школы физики твердого тела В.Д. Кузнецов. Открыв в университете профильную для радиофизиков специальность и физико-технический институт, предоставивший им учебно-лабораторную базу, он организовал приезд в Томск В.Н. Кессениха, заложившего под разрозненные поверхностно-интуитивные исследования в области электромагнитных колебаний прочную фундаментальную основу и оформившего их в конечном счете в целый ряд отдельных самостоятельных и перспективных направлений. Общим же контекстом институционализации радиофизики в рамках томского научно-образовательного комплекса стал возобновившийся в годы культурной революции и индустриализации процесс оформления специфичного варианта отечественной модерности, поставленный на паузу в 1917 г. В этом ракурсе очевидно, что судьба томских радиофизиков пронизана логикой становления советского варианта «большой науки» (Д. Прайс), основанной на принципах централизованного планирования исследований, осуществляющихся на базе сети специализированных институтов, и делавшей необходимым реформирование центрпериферийных отношений в научно-образовательной сфере, что было вполне в русле общемировых тенденций и уже намечалось в самых общих чертах еще до прихода большевиков к власти. В рамках этой индустриализационной по своей сути логики организации науки и высшего образования в период с конца 1920-х до начала 1950-х гг. проходили ситуационные выборы сценариев из имеющихся альтернатив регионализации советской физики в различных направлениях. Окончательно же процесс формирования в СССР научных «центра» и «периферии» завершился приблизительно к середине 1960-х гг. -пика научно-технологического развития, за которым последовало исчерпание модернизационного потенциала советского проекта. Радиофизики и радиотехники Томска уже в довоенный период показали себя способными генерировать, внедрять и тиражировать технологии, что является еще одним безусловным признаком «центра», хотя в данном случае и регионального, -из-за системных ограничений советской научно -образовательной модели (от проблем с финансированием до общей снисходительности центрального руководства по отношению к нуждам и перспективам сибирской науки) и конкуренции со стороны других радиофизических центров (например, Горького). Регионализация обусловливала пространственную дифференциацию научно-образовательных локальностей, задавая этим ключевые параметры «малой» (Д. Прайс) советской науки. Это придавало томской научно -педагогической корпорации уникальный облик, черты которого органично сочетали в себе организационнокадровую привязку научной деятельности к образовательным учреждениям и вместе с тем самоценность и самодостаточность науки самой по себе (насколько, Профессиональное сообщество томскихученых-радиофизиков в первой половине XX века 205 конечно, это было возможно в тех жестких условиях), что дает определенные основания говорить о гибридном характере вузовского кластера местного научно-образовательного комплекса. Одним из символов этой закрепившейся тенденции и стал СФТИ, решавший одновременно учебные, производственные и перспективные научные задачи. В полной мере это относится и к томским радиофизикам, для научных практик которых институт стал «зоной обмена» - средоточием координирующих и распределяющих усилий. Промышленная же ориентация института обеспечивала радиофизикам положительную обратную связь с радиотехниками, что делало структуру радиофизического сообщества в известном смысле гетерогенной за счет включения в него специалистов из смежных областей. Данный контекст задавал специфику противоречивого положения томской радиофизики в центр-пери-ферийных координатах институционализировавшейся советской науки. Томск, оставшийся «на обочине» индустриализации, обладал в то же время мощным научно-образовательным потенциалом, оказавшимся достаточным для самостоятельного инициирования радиофизических исследований - важнейшего направления современной науки. И этот потенциал был слишком значительным для того, чтобы его игнорировать в ходе советского научного строительства, что и привело к институционализации местной радиофизики на базе связки университет-СФТИ, располагавшей определенными ресурсами для развития уже ведущихся исследований и начала новых. Но этих ресурсов было недостаточно для дальнейшего наращивания потенциала на собственной основе, что в дальнейшей перспективе грозило сужением исследовательских горизонтов до рамок сугубо прикладных опытно-конструкторских разработок, обслуживающих нужды местной инфраструктуры. Война, прервавшая плановый процесс советской индустриальной модернизации, актуализировала альтернативные формы организации научной деятельности и ее связей с производственной сферой. Университетские радиофизики и радиотехники индустриального института, объединенные на платформе СФТИ, стали активными участниками самодеятельной межпрофильной кооперации местного научного сообщества -Томского комитета ученых (ТКУ). Добровольное объединение лидеров томской науки, не имевшее даже собственного аппарата и регулировавшееся исключительно личной инициативой и неформальными связями, стало вполне рабочей точкой входа на региональный уровень для военной, медицинской и пищевой индустрии [7. Л. 7-7 об.]. Комитет явился акселератором разработок всевозможных изобретений, открытий и рационализаторских предложений, по духу в чем-то предвосхищая практику будущих советских научно-производственных объединений. Лежавшие в его основе проектные методы проведения междисциплинарных исследований, позволявшие изыскивать кратчайшие пути промышленной реализации их результатов, преодолевая ведомственно-отраслевые барьеры в экстремальных условиях эвакуации кадров и производственных мощностей, являли собой пример успешного опыта внедрения советских инноваций. Такого рода практика стала предтечей процесса перекраивания центр-периферийной модели, активно развернувшегося в 1950-1960-е гг. Опыт координации научных исследований ТКУ поначалу был институционализирован типичным ведомственным способом: он был преобразован в Научный совет при Томском облисполкоме (подобные советы существовали и в других городах СССР, поэтому здесь не было ничего новаторского). Реальный институциональный прорыв на пути слома узкоспециализированного характера производства знаний и внедрения промышленных разработок обозначился с основанием в 1963 г. Межвузовского научного совета - «прародителя» современного Совета ректоров. Это был первый подобного рода орган в системе советской высшей школы [8. С. 5]. Военное четырехлетие закрепило за вузовским сектором Сибири ведущую роль в формировании регионального научного потенциала. В конце 1940-х - начале 1950-х гг., несмотря на процессы реэвакуации, это позволило центральному руководству и местному научному истеблишменту продолжать оптимистично возлагать на него большие надежды в плане решения актуальных социально-экономических задач макрорегионального масштаба (на фоне того, что вузовская наука, в Томске концентрировавшая абсолютное большинство здешних научных работников, традиционно финансировалась советским государством крайне слабо, в отличие от академической и отраслевой). В принципе, ведущие вузы региональных центров давали определенные на то основания. Прочные позиции успела занять томская радиофизика, распределявшая профильное сообщество между университетом (где сначала была открыта кафедра радиофизики, а затем и радиофизический факультет) и политехническим институтом (выделившим в своем составе радиотехнический факультет), в стенах которого также велась научная работа, постепенно приближавшая его к статусу исследовательского технического университета. Дополнительный вес этой конфигурации придавал резко возросший за годы войны авторитет СФТИ, в котором, собственно, и базировалась университетская радиофизика. При этом институт, как и все томское радиофизическое сообщество в целом, понес известные кадровые потери, что, наряду с недостаточным финансированием и традиционными для Томска инфраструктурными проблемами, делало дальнейшее развитие крайне проблематичным. Со временем лидерство в прикладной радиофизике начинают постепенно возвращать себе политеховские радиотехники, получившие для организации обучения на новом радиотехническом факультете мощное подкрепление напрямую из центра в лице команды молодых преподавателей из Москвы и Ленинграда. Такое вливание «свежей крови» позволило не только достичь обеспеченности факультета научно-педагогическим составом, но и ставить перед обновленным коллективом принципиально новые перспективные задачи, решая их уже на совершенно ином теоретическом уровне. Это произвело кумулятивный эффект: первое А.Г. Костерев, В.В. Расколец, М.Ю. Ким 206 поколение преподавателей радиотехнического факультета, активно вовлекая в науку студентов, успело воспитать первое поколение преподавателей уже целого радиотехнического вуза - ТИРиЭТа, что прекрасно иллюстрируется примером плодотворного сотрудничества Е.И. Фиалко с Ф.И. Перегудовым [9]. Вскоре смешанные коллективы радиотехников ТПИ, состоявшие из преподавателей, аспирантов и выпускников, приступили к выполнению гособоронзаказа. В результате томская радиотехника как минимум на ближайшее десятилетие становилась ближней (и стратегически важной) периферией по отношению к столичному центру как в кадровом, так и в идейном отношении, сохраняя тем самым важнейшие черты макрорегионального центра. В масштабах же томского научно-образовательного комплекса произошедшее значительное увеличение численности высококвалифицированных радиоинженеров, занявших собственную исследовательскую нишу, привело к окончательному разделению местного радиофизического сообщества на две равнозначные части - собственно радиофизиков и радиотехников. Другим итогом первого послевоенного десятилетия стал присущий стыковым эпохам переход количества в качество - томичи вышли на пограничные рубежи радиофизических исследований: на основе статистической радиофизики начинаются разработки проблем кибернетики и системного анализа (признак пятого технологического уклада). Показательно, что они велись одновременно и сообща теоретиками-радиофизиками университета и практиками-радиотехниками «политеха» - под началом Ф.П. Тарасенко и Ф.И. Перегудова соответственно (сказывалась общая принадлежность к научной школе В.Н. Кессениха), имея на выходе признанный мировой научной общественностью результат [10. С. 413-416]. Реализовать же на отечественной ниве полученные наработки, ориентированные на прямое практическое применение, в полной мере так и не удалось - ни в первой половине 1960-х гг., когда на волне совнархозной реформы Ф.И. Пе
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 60
Ключевые слова
радиофизика, Томский государственный университет, Сибирский физико-технический институт, научное сообщество, центр-периферия, теория модернизацииАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Костерев Антон Геннадьевич | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | кандидат исторических наук, доцент кафедры истории и социальной работы | antonkosterev@rambler.ru |
| Расколец Виктор Владимирович | Томский государственный университет ; Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники ; Тюменский государственный университет | кандидат исторических наук, младший научный сотрудник научно-учебной исследовательской лаборатории «Сибирь: исторические традиции и современность» факультета исторических и политических наук; младший научный сотрудник НОЦ «Истории и социальной работы»; младший научный сотрудник школы исследований окружающей среды и общества (Антропошкола) | predator-101@mail.ru |
| Ким Максим Юрьевич | Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники | кандидат исторических наук, заведующий кафедрой истории и социальной работы | maksim.i.kim@tusur.ru |
Ссылки
Алексеев В.В. Центр и периферия в российской истории // Государственный архив Пермской области. URL: https://web.archive.org/web/20080107104327/http://www.archive.perm.m/page.php?id=200 (дата обращения: 10.09.2021).
Узбекова Ю.И. «Центр» и «периферия» в развитии академической науки в восточных регионах страны в XX в. : дис.. канд. ист. наук : 07.00.10. Томск, 2010. 195 с.
Профессора Томского университета : биогр. словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун, А.В. Литвинов; гл. ред. С.Ф. Фоминых; Том. гос. ун-т. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1998. Т. 2. 544 с.
Фоминых С.Ф., Кущ В.В., Потекаев А.И. Организация СФТИ и его деятельность в предвоенный период: исторический очерк // Сибирский физико-технический институт: история создания и становления в документах и материалах (1928-1941 гг.) / под ред. С.Ф. Фоминых. Томск : Изд-во НТЛ, 2005. С. 7-54.
Костерев А.Г. «Отец сибирской физики». Академик В.Д. Кузнецов. Томск : Изд-во Том. гос. ун-та систем управления и радиоэлектроники, 2016. 175 с.
Епонешникова Г.В., Кессених А.В., Мохова Р.Е., Фоминых С.Ф. Письма физика из Томска. М. : Информ-Знание, 2006. 52 с.
ЦДНИ ТО. Ф. 1078 (Томский комитет ученых). Оп. 1. Д. 1.
Совет ректоров вузов Томской области (1963-2013 гг.): история в документах / под ред. Г.В. Майера, П.С. Чубика. Томск : Изд. Дом Том. гос. ун-та, 2013. 336 с.
Фиалко Е.И., Перегудов Ф.И., Немирова Э.К., Серафинович Л.П., Покровский Л.А., Золотарев И.Д., Зубарев Г.С. Некоторые результаты радиолокационных наблюдений метеоров в Томске в период 1957-1959 гг. // Известия Томского политехнического института. 1962. Т. 100. С. 16-19.
Профессора Томского университета : биогр. словарь / С.Ф. Фоминых, С.А. Некрылов, Л.Л. Берцун и др.; отв. ред. С.Ф. Фоминых; Том. гос. ун-т. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2001. Т. 3. 532 с.
Денисов В.П., Райзман М.М., Серафинович Л.П. Его жизнь была подобна метеору. Воспоминания о Феликсе Ивановиче Перегудове // Томский политехник. 2000. Вып. 6. С. 20-29.
Герович В.А. Интер-Нет! Почему в Советском Союзе не была создана общенациональная компьютерная сеть. URL: https://magazines.gorky.media/nz/2011/1/inter-net-pochemu-v-sovetskom-soyuze-ne-byla-sozdana-obshhenaczionalnaya-kompyuternaya-set.html (дата обращения: 12.09.2021).
Костерев А.Г. Феномен советского технократизма: к постановке проблемы (политико-идеологическое и социально-культурное измерения) // Вестник Томского государственного университета. История. 2019. № 58. С. 41-48.
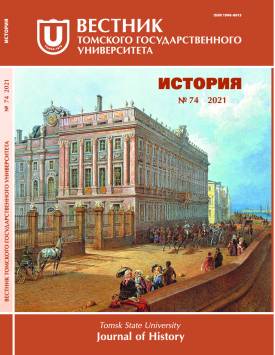
Профессиональное сообщество томских ученых-радиофизиков в первой половине ХХ века: центр-периферийные отношения | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 74. DOI: 10.17223/19988613/74/25
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 396

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью