Белогвардеец-романтик? Рец. на кн.: Ларьков Н.С. Сибирский белый генерал. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. 312 с.
Статья посвящена анализу монографии крупного сибирского историка Н.С. Ларькова, главным героем которой является знаменитый белый генерал А.Н. Пепеляев, одна из самых ярких и харизматичных фигур в истории белого движения в Сибири. Монография, основанная на широком круге архивных источников, последовательно рассказывает о жизни А.Н. Пепеляева - от юности, совпавшей с началом ХХ в., включая Первую мировую войну, участником и героем которой был Пепеляев, до революции 1917 г., перевернувшей жизнь не только героя книги, но и всей России.
White guard romantic? Review of the book: Larkov N.S. Siberian white general. Tomsk: Publishing house of Tomsk universit.pdf Анатолий Николаевич Пепеляев не принадлежит к числу забытых участников Гражданской войны. Имя его известно читателю не только благодаря исследователям, но и благодаря блестящему документальному роману Л.А. Юзефовича «Зимняя дорога», посвященному Якутскому походу генерала Пепеляева 19221923 гг. [1]. Крупный сибирский историк доктор исторических наук Николай Семенович Ларьков посвятил реконструкции биографии своего героя многие годы, и результатом его труда стала солидная монография, вышедшая в 2017 г. в издательстве Томского университета [2]. В основу монографии легли материалы, отложившиеся в центральных и местных архивах, газеты и мемуаристика. В качестве «сверхзадачи» монографии автор видел постижение психологии А.Н. Пепеляева и мотивации его поступков. Н.С. Ларьков стремился написать о Пепеляеве максимально объективно, опираясь исключительно на источники, с должной их внутренней и внешней критикой, выбирая из анализируемых им документов крупицы информации об Анатолии Николаевиче в первую очередь как о человеке, а во вторую - как о военном профессионале. Капитальной проблемой историка было отсутствие вплоть до момента появления книги Ларькова солидного обобщающего труда, посвященного А.Н. Пепеляеву. Все, что писалось о генерале ранее, казалось Н.С. Ларькову чересчур прямолинейным, односторонним, плоским, не говоря уже о встречавшихся в сочинениях историков многочисленных фактических ошибках и сознательных искажениях. Исключением выглядит, пожалуй, только уже упомянутый документальный роман Л.А. Юзефовича «Зимняя дорога», посвященный, однако, лишь Якутскому походу Пепеляева. Юзефович, впрочем, и не претендует на то, чтобы считать свой труд биографией Пепеляева, «мужицкого генерала», по определению талантливого романиста [1. C. 18]. Еще одна задача, которую приходилось решать, -необходимость адекватно «вписать» жизненный путь Пепеляева в общий исторический контекст. С одной стороны, это стандартная для историков задача. Однако, с другой стороны, биография Пепеляева насыщена такими событиями, которые оказались судьбоносными как для самого генерала, так и для страны в целом, начиная от Первой мировой войны и заканчивая «большим террором». Главное внимание в книге обращено автором на период Гражданской войны, ставшей для Пепеляева «звездным часом» - за годы междоусобицы произошел его стремительный взлет от капитана в 1917 г. до генерал-лейтенанта в начале 1919 г., а затем командующего антибольшевистской армией; по определению Ларькова, в это время его герой «был одной из ключевых фигур Белого движения». [2. С. 3]. В своей работе Ларьков постарался раскрыть востребованные в эпоху Гражданской войны способности и человеческие качества Пепеляева и вместе с тем отразить его слабости, показать его масштабные победы и не менее масштабные поражения. Историк стремился исправить в своем труде наиболее заметные фактические ошибки, которые присутствовали в других работах, посвященных Анатолию Николаевичу. В книге Ларькова есть и определенные лакуны, связанные с нехваткой источников: во время Гражданской войны погибла документация штаба I Сибирской армии генерала Пепеляева; историку не удалось познакомиться с материалами дела Пепеляева, хранящимися в Центральном архиве ФСБ. Вместе с тем, полагаю, что на сегодняшний день книга Ларькова - самое полное исследование биографии генерала А.Н. Пепеляева. А.С. Пученков 210 Анатолий Пепеляев был пятым ребенком в семье потомственных военных, глава которой, Николай Михайлович, дослужился до генеральских чинов. Успешная карьера отца не могла не повлиять на выбор профессии его сыновьями, почти все они выбрали в качестве дела своей жизни служение Отечеству. Не стал исключением и Анатолий, закончивший Омский кадетский корпус, среди выпускников которого значилось имя будущего вождя Белого движения генерала Л.Г. Корнилова. [2. С. 10-11]. Свое образование Анатолий Пепеляев продолжил в прославленном Павловском военном училище, по окончании которого он был произведен в чин подпоручика и направлен для прохождения службы в 42-й Сибирский стрелковый полк, командиром которого как раз в то время был назначен его отец [Там же. С. 14]. В канун нового 1914 года А.Н. Пепеляев был произведен в поручики [Там же. С. 16]. Вряд ли он подозревал, что этот год станет переломным и для него, и для всей армии, и для всей страны, и для всего мира. Подобно подавляющему большинству русских офицеров, А.Н. Пепеляев встретил начало Первой мировой войны с энтузиазмом. К моменту начала войны, по его собственному признанию, молодой офицер был убежденным монархистом; его политические убеждения «определяло... воспитание и та офицерская среда, в которой. [он] вращался» [Там же. С. 19]. Храбрый офицер возглавлял команду разведчиков; Пепеляев проявил себя как блестящий командир, заслуги которого были отмечены боевыми орденами, среди которых - Георгиевский крест 4-й степени [Там же. С. 1924]. За два года войны Пепеляев снискал глубокое уважение в военной среде, дослужившись к 1917 г. до чина капитана. Его ожидала, несомненно, успешная военная карьера, предопределенная не только его достоинствами как военного профессионала, но и тем, что Анатолий Николаевич был кадровым офицером, значительная часть которых была выбита за годы войны [Там же. С. 25]. Наступил судьбоносный для России 1917 год. Накануне Февраля Пепеляев, подобно многим представителям русского офицерства, воспринимал царское правительство в качестве основного препятствия на пути к победе над врагом. Деятельность правительства Львова-Керенского и связанный с ней фактический распад старой армии казались ему «гибелью старой России» [Там же. С. 29]. Естественно, что не смог Пепеляев принять и Октябрь: вскоре после большевистской революции Анатолий Николаевич оставил фронт и уехал в Сибирь. В Томске наш герой недолго сидел без дела, начав сотрудничать с антибольшевистским военным подпольем; к этому времени относится и совершенно определенное тяготение Пепеляева к идеям сибирского областничества [Там же. С. 37]. Контрреволюционные организации действовали фактически в отрыве от центра; их взаимодействие, например с белым Югом, было спорадическим, а успех инициированной командующим Добровольческой армией генералом Л.Г. Корниловым миссии в Сибирь генерала В.Е. Флуга вызывает большое сомнение [Там же. C. 38-39]. Немалое внимание Н.С. Ларьков уделяет феноменальной, на мой взгляд, личности будущего одесского диктатора генерала А.Н. Гришина, выдвигая оригинальную версию происхождения его псевдонима «Алмазов» и высоко оценивая его усилия по консолидации антибольшевистского подполья [Там же. С. 3742]. Ларьков правомерно определяет Гришина-Алмазова как «руководителя Западно-Сибирского штаба тайных военных организаций» [Там же. С. 45]. Автор подробно рассказывает об истории антисоветского вооруженного восстания в Томске в мае 1918 г. [Там же. С. 48-52], сразу после успеха которого Пепеляев и его соратники по подполью приступили к «организационному оформлению офицерской и добровольческой массы», при этом военная власть в крае сосредоточилась в руках командующего войсками Западно-Сибирского военного округа А.Н. Гришина-Алмазова, а на посту начальника штаба Томского гарнизона оказался подполковник А.Н. Пепеляев [Там же. С. 53]. Последний вскоре был назначен командиром только что сформированного Средне-Сибисркого корпуса, входившего в состав Западно-Сибирской армии под командованием Гришина-Алмазова. Должность эту Пепеляев занимал 10 месяцев - с июня 1918 до апреля 1919 г. Рассказывая о Сибирской армии в 1918 г., деятельность которой подробно освещена в блестящей монографии Д.Г. Симонова [3], Ларьков обращает внимание на «революционные» отголоски, перешедшие в повседневную жизнь Средне-Сибирского корпуса под командованием Пепеляева: так, офицеры и солдаты, служившие под началом Анатолия Николаевича, обращались друг к другу на «ты» и «брат»; по обоснованному предположению историка, практика эта была перенята Пепеляевым у чехословацких легионеров [2. С. 61]. Пепеляев, в изображении Ларькова, -не лишенный недюжинного ума и определенной гуманности командир, стремившийся искоренить самовольные расстрелы, насилия и истязания [Там же. С. 68]. И уж абсолютно нехарактерным для специфики новоявленных «бонапартов» времен Гражданской войны выглядит недоумение Пепеляева по случаю его производства в полковники, выраженное в письме А.Н. Гришину: «В дальнейшем я не жду никаких наград для себя (работа моя, боюсь, и так награждена слишком), единственным моим желанием является победа над большевиками, восстановление былой славы родной армии и полное восстановление мощи нашей великой, но обессиленной Родины - этой идее я бескорыстно буду служить, докуда хватит моих сил» [Там же. С. 72]. Пожалуй, в этих словах выражено credo Анатолия Николаевича, всю жизнь отдававшего себя служению Родине без остатка. Удивительно, правда, что стремительный взлет и военные победы не вскружили молодому офицеру голову. Трудно, пожалуй, найти другой такой пример в антибольшевистском стане - что на Юге, что на Востоке. Пепеляев, несомненно, понимал противоестественность как самой Гражданской войны, так и обстоятельств, способствовавших его быстрому возвышению, - гордиться победами на поле брани над своими соотечественниками он не желал. Уже одно лишь это позволяет расценивать фигуру Анатолия Николаевича как яркую и незаурядную. Белогвардеец-романтик? 211 Для Пепеляева был характерен абсолютно не наигранный демократизм; он в дни самых кровопролитных боев находился «непосредственно среди бойцов, делил... с ними все трудности боевой обстановки» [Там же. С. 81]. «В старой поношенной шинели, которую он носил еще с германской войны, в обыкновенной солдатской фуражке, сдвинутой набок, он походил на солдата, а не на ответственного начальника, в руках которого находились жизни этих людей, темными, молчаливыми рядами тянущихся за ним по шпалам», -приводит автор слова мемуариста А. Кирилова [2. С. 81]. Средне-Сибирский корпус Пепеляева, отмечает Н.С. Ларьков, отличался высокой боеспособностью, в чем «сыграл свою роль и высокий удельный вес офицеров в частях корпуса, многие из которых сражались тогда в качестве рядовых бойцов» [Там же. С. 88]. Для Пепеляева 1918 год заканчивался триумфально: его имя неразрывно связано с так называемой «пермской катастрофой» Красной Армии, а имя «героя Перми» было в те дни ничуть не менее популярно, чем имя самого Верховного правителя России адмирала А.В. Колчака. За взятие Перми Пепеляев в начале 1919 г. был произведен в чин генерал-лейтенанта. «Громкий успех, широкий общественный резонанс, новый высокий чин налагали на молодого генерал-лейтенанта повышенную ответственность, от него ждали очередных побед», - констатирует автор [Там же. С. 118]. Пепеляеву на тот момент было всего 27 лет. Молодой генерал обладал харизмой, талантом и огромным авторитетом у подчиненных, который был завоеван им кровью, пролитой на полях сражений. Несомненно, он был настоящим народным вожаком. Неудачи на фронте вынудили Колчака пойти на серьезную реорганизацию войск. Северная и Южные группы Сибирской армии развертывались в 1-ю и 2-ю Сибирские армии. Командование 1-й армией было вверено генералу Пепеляеву [Там же. С. 170]. Пепеляев принял командование армией в тяжелые для колчаковцев дни. Командарм бросил все силы на укрепление дисциплины, подъем морального духа в войсках после череды поражений и длительного отступления; Пепеляев издал ряд приказов, направленных на искоренение дезертирства и мародерства. Немалое внимание он уделял и идеологической работе: в собственноручно написанных генералом приказах содержалось заверение о созыве, после победы над большевиками, Учредительного собрания, а также в том, что «земля будет принадлежать трудящимся и отойдет к крестьянам» [Там же. С. 172]. В дни решающих боев между Красной Армией и колчаковцами Пепеляеву «в полной мере приходилось использовать и накопленный боевой опыт, и популярность в войсках, и личную храбрость, чтобы остановить отступление или хотя бы сдержать его темпы и спасти от разгрома свою армию» [Там же. С. 195]. Под талантливым пером автора Пепеляев предстает человеком, который буквально горит за судьбу Белого дела: убеждая Колчака в своей правоте, он осеняет себя крестным знамением, апелляция к Богу содержалась и в его обращениях к чинам армии, и в выступлениях перед солдатами; в полемике с генералом Н.А. Лохвицким Анатолий Николаевич использует матерную лексику [Там же. С. 200-201]. Все эти усилия не могли, конечно, остановить катастрофу Белого движения в Сибири. Став «генералом без армии» [Там же. С. 246], Пепеляев не прекратил борьбу и не опустил руки, видимо, просто не считая это для себя возможным. Анатолий Николаевич, по предположению Н.С. Ларькова, не верил в успех якутских повстанцев, однако, будучи человеком «слова и чести», генерал не мог отказать им в помощи [Там же. С. 266]. Объясняя свое желание продолжать непримиримую борьбу с большевиками до полной победы над ними или до смерти, Пепеляев писал в январе 1923 г.: «1) веру коммунисты не переносят православную, так постоим до конца за нее, святую, поруганную; 2) народ простой против них, ждет нас, надеется, а я верю только в простой народ (крестьянство). Если и восстановится Россия, то только его простым, но упрямым умом (вспомним, что Л.Н. Толстой называл “главными чертами, составляющими силу русского” простоту и упрямство. - А.П.) и мозолистыми руками; 3) наглый вызывающий тон комму-нистич[еского] письма, полный насмешки, презрения и полный самоуверенности в своей правоте, их хитрость и цинизм; 4) душевные настроения, хочется чашу страданий испить до дна (курсив мой. - А.П.)» [Там же. С. 279]. Потрясающий текст, написанный невероятно цельной натурой! Дальнейшая судьба Пепеляева известна. Якутский поход «аргонавтов белой мечты» закончился неудачей. С 18 июня 1923 г. для А.Н. Пепеляева начинается последний и самый тягостный во всех без исключения смыслах период его жизни - советский плен [Там же. С. 288]. Как он того и желал, генерал испил чашу страданий до дна. Начиналось его заключение с определенных надежд: смертная казнь Пепеляеву была заменена на 10 лет со строгой изоляцией и поражением в правах на 5 лет, при этом «режим содержания А.Н. Пепеляева был настолько смягчен, что днем его камеру стали оставлять открытой, ему была предоставлена возможность беспрепятственного выхода из нее» [Там же. С. 294-295]. Более того, в 1928 г. за Пепеляева ходатайствовал когда-то противостоявший ему на фронте видный красный командир С.С. Вострецов, отметивший среди прочих качеств Пепеляева глубокую религиозность, стихийно-меньшевистское мировоззрение, «громадный авторитет среди подчиненных» и предложивший отпустить его на волю и использовать как военспеца. Прошение Вострецова было отклонено наркомом К.Е. Ворошиловым, безапелляционно аттестовавшим Пепеляева как «врага» [Там же. С. 296-297]. В 1930-е гг. режим содержания Пепеляева ужесточился, его срок заключения был продлен еще на три года, генералу была запрещена переписка с супругой [Там же. С. 297]. В 1936 г. Пепеляев неожиданно был освобожден из-под стражи, причем его судьба решалась на самом высшем уровне -с фактического одобрения И.В. Сталина. «Воздухом свободы, хотя и ущербной, - констатирует Н.С. Ларьков, - А.Н. Пепеляев дышал более года». [Там же. С. 301]. В августе 1937 г. западносибирские чекисты вспомнили об А.Н. Пепеляеве, «который идеально подходил на роль организатора и руководителя сфабрикованной А.С. Пученков 212 ими “контрреволюционной повстанческой организации”» [Там же. С. 302]. В августе 1937 г. Пепеляев был арестован, из него были выбиты абсурдные признания, а 7 декабря 1937 г. «тройка» Управления НКВД по Новосибирской области постановила его расстрелять. 14 января 1938 г. приговор был приведен в исполнение. «Место его захоронения осталось неизвестным. Лишь спустя полвека, 20 октября 1989 г., сибирский белый генерал был реабилитирован», - отмечает автор книги [2. С. 307]. Пепеляев «был в известном смысле провинциалом, неискушенным в тонкостях политической борьбы, разделявшим к тому же идеи сибирского областничества. Однако всегда выступал сторонником сильного государства, единой России с мощной армией, которая “должна соответствовать национальному характеру страны”. Сильная власть и государство ассоциировались у этого русского офицера с понятиями Родины, Великой России... В условиях глубочайшего идейнополитического раскола общества, кровопролитной Гражданской войны, экономического коллапса, падения нравов, в окружении немалого числа циников А.Н. Пепеляев выглядел, наверное, идеалистом, “белой вороной” среди белых генералов. Однако не этот ли идеализм вкупе с глубокой верой в Бога составляли стержень его человеческой натуры? Не они ли помогли ему выжить в условиях более чем тринадцатилетнего пребывания в советских тюрьмах, в том числе полуторагодичного заключения в одиночной камере?», -пишет Н.С. Ларьков [Там же. C. 308-309]. «Жестокая логика Гражданской войны не оставляла места для третьего пути. Победителем могла выйти только одна из двух военно-террористических диктатур - красная или белая. Генерал А.Н. Пепеляев не стремился ни к одной из них, однако во имя сохранения Великой России во время Гражданской войны он мирился с колчаковской, а после своего разгрома с большевистской диктатурой. Дожить до реализации своей мечты об идеально устроенном обществе сибирскому белому генералу не довелось. Да и достижимо ли оно?» - подводит итог своему повествованию Н.С. Ларьков. [Там же. С. 310]. Пепеляев в определенной мере, как представляется, был белогвардейцем-романтиком; он, несомненно, надеялся, что Россия, пройдя через страшную драму междоусобицы и преодолев опыт большевизма, сможет очиститься и прийти к более справедливому устройству общества. Сильная и возрожденная Россия, обращенная к своим гражданам, была его идеалом - вопрос о форме правления страны и о ее партийном флаге воспринимался им в этой связи как важный, но не первостепенный; да и вообще не следует рядить Анатолия Николаевича в тогу «эсера», «меньшевика», «кадета», «анархиста» или кого-либо еще - его политические взгляды постоянно эволюционировали - то вправо, то влево. «Свойственная Пепеляеву зыбкость политических убеждений, его неспособность безраздельно примкнуть к какой бы то ни было партии - черта не столько даже интеллигента, сколько взыскующего Божьего Града русского праведника», - пишет о своем герое Л.А. Юзефович [1. C. 370]. И действительно: глубоко и искренне верующий православный христианин, Анатолий Николаевич превыше всего ставил офицерскую честь и служение Отечеству. Русский патриот и стихийный демократ, Пепеляев был не только чужд интриг, столь распространенных в военных и политических кругах, но и глубоко презирал их. «Энергичный и умный военачальник» [4. C. 272.], Пепеляев поистине удивительным образом сочетал в себе таланты полководца, пассионарность неукротимого борца с большевиками и идеализм классического русского интеллигента. Генералу были чужды снобизм и фанаберия; несмотря на свои высокие чины, он всегда оставался верным слугой своего народа, вместе с которым и пытался пробить дорогу к счастью. Фундаментом же его поступков была удивительно чистая и буквально религиозная преданность матери-России, неистовая и искренняя вера в ее прекрасное будущее. Пепеляев -одна из наиболее ярких и обаятельных фигур Белого движения, настоящий белогвардеец-романтик. Был ли закономерен печальный финал жизни этого незаурядного человека? Ответ на этот вопрос читатель сможет найти на страницах прекрасной книги Н.С. Ларькова.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 40
Ключевые слова
Белое движение, Гражданская война, А. Н. Пепеляев, антибольшевизм, религиозный фактор, СибирьАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Пученков Александр Сергеевич | Санкт-Петербургский государственный университет | доктор исторических наук, профессор кафедры новейшей истории России | a.puchenkov@spbu.ru |
Ссылки
Ларьков Н.С. Сибирский белый генерал. Томск : Изд-во Том. ун-та, 2017. 312 с.
Юзефович Л.А. Зимняя дорога. Генерал А.Н. Пепеляев и анархист И.Я. Строд в Якутии. 1922-1923 : документальный роман. М. : АСТ, 2017. 432 с.
Симонов Д.Г. Белая Сибирская армия в 1918 году. Новосибирск : Новосиб. гос. ун-т, 2010. 612 с.
Грондейс Л. Война в России и Сибири / под науч. ред. Р.Г. Гагкуева. М. : РОССПЭН, 2018. 456 с.
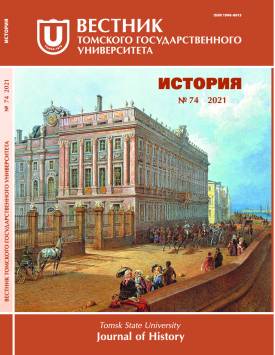
Белогвардеец-романтик? Рец. на кн.: Ларьков Н.С. Сибирский белый генерал. Томск: Изд-во Том. ун-та, 2017. 312 с. | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2021. № 74. DOI: 10.17223/19988613/74/26
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 396

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью