Основная цель исследования - определить, сохраняет ли научную значимость доминирующая в настоящее время в исторической науке гипотеза о причастности князя Владимира и его дружины к масштабной катастрофе, произошедшей в Херсонесе в конце X в. На основе анализа памятников древнерусской письменности, сообщений иностранных авторов и данных археологических исследований опровергается теория масштабного истребления жителей Херсонеса воинами дружины Владимира. Сделан вывод о том, что Корсунский поход князя Владимира значительно ослабил жителей Херсонеса и сделал их легкой добычей эпидемии чумы.
On the question of Prince Vladimir’s involvement into a large-scale catastrophe in the city of Chersonesos in the late X.pdf Древнерусский князь Владимир Святославич - одна из самых ярких личностей отечественной средневековой истории. О князе - крестителе Руси упоминают отечественные летописцы, арабские и византийские историки, германские и западнославянские хронисты, авторы норманнских саг. Несмотря на богатую и разностороннюю источниковедческую базу, о многих исторических событиях эпохи правления Владимира Святославича нам известно очень мало. Так, отечественные летописи после 983 г. как будто теряют интерес к историческим событиям. В «Повести временных лет» и ряде других подобных источников можно найти массу легендарного материала от объемной «Речи Философа» до народных сказок о Никите Кожемяке. Весь данный вставной материал чередуется с рядом «пустых лет» или сообщениями о смерти того или иного исторического деятеля. Создается впечатление, что кто-то попросту вычеркнул из летописи информацию о значимых исторических событиях. Исключение составляют лишь те сообщения, что были связаны собственно с христианизацией Руси. Однако и эти скупые, но чрезвычайно важные сведения утопают в общей массе легендарного агиографического материала. Поход Владимира на Херсонес вызывал большой интерес отечественных исследователей. Однако скудность историографической базы исследования и противоречивость различных данных, сообщенных в источниках, способствовали появлению в отечественной историографии различных точек зрения на некоторые детали Корсунского похода. Так, если причины похода, маршрут движения русской дружины и расположение войск Владимира во время осады Херсонеса исследователями установлены достаточно надежно, то такой важный аспект похода, как его последствия для несчастных жителей Херсонеса, до сих пор вызывает острую полемику в исторических исследованиях. В 1936 г., во время раскопок в северном и западном районах Херсонеса, при исследовании археологического слоя конца X в. были обнаружены следы тотального пожара, руины разрушенных зданий и братские могилы [1. С. 217, 232-238, 252]. Только на кладбище у «Бази лики на холме» обнаружено около 150 могил, из них 10 - с массовыми захоронениями [2. С. 27]. За редким исключением, весь нумизматический материал в слоях, связанных с пожарами, относится к IX-X вв. [3; 4. С. 62]. Многочисленные клады, найденные исследователями в разрушенных кварталах Херсонеса, также относятся к концу X в. [5. С. 461; 6. С. 84]. В этой связи в отечественной гуманитарной науке возникла гипотеза, согласно которой люди, захороненные в братских могилах, были убиты дружинниками Владимира во время Корсунского похода [4. С. 65; 6. С. 84; 7. С. 28-29]. С данной точкой зрения категорически не согласны сторонники сейсмической теории, по мнению которых тотальный пожар и гибель значительного числа населения в северных и западных районах Херсонеса были вызваны мощным землетрясением [8. С. 77; 9]. Влияние же Корсунского похода на жизнь жителей Херсонеса, по их мнению, было незначительным [8. С. 80]. Таким образом, в современной отечественной историографии нет консолидированной точки зрения относительно последствий Корсунского похода князя Владимира. Большинство отечественных исследователей, как сторонники теории причастности князя Владимира и его дружины к масштабной катастрофе, произошедшей в Херсонесе в конце X в., так и их оппоненты - приверженцы сейсмической теории, использовали при реконструкции исторических событий письменные источники и материалы археологических исследований 3090-х гг. XX в. Между тем к началу XXI в. накопилась некая «критическая масса» нового археологического материала, позволяющая более детально изучить многие аспекты Корсунского похода. Кроме того, в исследовании, при реконструкции исторических событий, произошедших в Херсонесе в конце X в., были впервые использованы сообщения западноевропейских хроник об эпидемии чумы, свирепствовашей в Германии в конце X - начале XI в. Сопоставление данных источников с материалами археологических исследований Херсонеса конца X-XI в. позволило реконструировать неизвестные нам до сих пор печальные страницы из жизни местных жителей той эпохи. М.Н. Козлов 40 Определить, сохраняет ли научную значимость доминирующая в настоящее время в исторической науке гипотеза о причастности князя Владимира и его дружины к масштабной катастрофе, произошедшей в Херсонесе в конце X в. - основная цель данной статьи. Наиболее информативными источниками изучения поставленной в данном исследовании темы являются отечественные письменные источники: «Повесть временных лет», а также один из списков «Жития князя Владимира». Важное значение имеют также отрывочные сообщения византийских, германских историков и хронистов, данные восточных авторов - Льва Диакона, Михаила Пселла, Иоанна Скилицы, Титмара Мерзен-бургского, Константина Асохика, Аль-Малкина. Исключительное значение в свете изучения причин и последствий Корсунского похода имеют также результаты раскопок средневекового Херсонеса конца X - начала XI в., особенно его северных и западных районов [1; 2; 4. С. 68-146]. Можно предположить, что страшные последствия похода князя Владимира на Херсонес во многом являлись следствием ожесточенного сопротивления жителей города и жесткой позиции местной элиты во время переговоров с князем Владимиром. Так, из «Повести временных лет» мы узнаем о том, что жители Херсонеса «боряхуся кр'ьпко изъ града». Владимир пытался договориться с архонтом о сдаче города, но «он не послушаша того». Город был занят лишь по вине предателя, когда местные защитники «изнемогоша гладомъ и водною жаждою» [10. С. 49-50]. Как следует из источника, сразу после прибытия русского отряда под стены Херсонеса между Владимиром и руководством города начались переговоры о сдаче. Можно предположить, что в дальнейшем переговоры периодически возобновлялись, и чем больше осложнялась ситуация в осажденном городе, тем больше в Херсонесе появлялось сторонников сдачи города. В конечном итоге во время очередных переговоров осажденные приняли условия русского князя. В отечественных письменных источниках упоминаются ренегаты, помогавшие Владимиру добиться цели: священник Анастас Корсунянин и варяг Ижберн. А.А. Роменский предположил, что Анастас Корсунянин и Ижберн - это два имени одного и того же человека (христианское и языческое) [11. С. 11]. Однако в таком случае неясно, зачем варягу-наемнику понадобилось брать греческое имя Анастас? К тому же в средневековой традиции прозвище человека указывало на место его рождения. То есть Анастас Корсунянин - это человек, родившийся в городе Корсунь. Скорее, можно согласиться с мнением С.Б. Сорочана, Л.В. Марченко и В.М. Зубаря о том, что в городе существовала партия сторонников сдачи города, ведущая тайные переговоры с противником [12. С. 293]. Согласно данным археологии в Херсонесе конца X в. действительно находились воины-норманны. Об этом свидетельствуют обнаруженные исследователями останки людей, захороненных в конце X в. по языческим норманнским канонам, и сопровождающий материал скандинавского происхождения [2. С. 28-29]. Норманны-наемники могли настаивать на сдаче города Вла димиру, в войске которого находилось немало их соотечественников. По мнению В.Г. Василевского, среди варягов воинского гарнизона Херсонеса вполне могли находиться и те, что ушли на службу в Византию из Киева в 980 г. [13. С. 181]. Кроме официальных переговоров с руководством города, воины Владимира вполне могли общаться с тайными сторонниками русского князя посредством стрел с записками, упоминаемых в русских источниках. О том, что Владимир Великий не гнушался тайными переговорами с воеводами своих противников, свидетельствует отрывок из «Повести временных лет», в котором приводится любопытный рассказ о том, как воеводы-варяги князя Ярополка, соблазненные обещаниями Владимира, уговорили своего повелителя выйти из осажденного Владимиром Родня на переговоры к брату [10. С. 36]. После сдачи Херсонеса в городе ожидаемо начались репрессии против местной элиты, чья жесткая переговорная позиция стоила жизни многим воинам Владимира. Так, в списке жития Владимира особого состава находим подробное описание трагедии, произошедшей с семьей архонта в Херсонесе после сдачи города: «И въниде Владимиръ въ градъ и дроужина его, кънязя Корсоуньского и съ кънягынею поима, а дъщерь ею къ себъ възя въ шатьръ, кънязя же и кънягыню привяза оу шатьрьныя сохы и съ дъщерию ею предъ ними беззаконие сътвори, и по трехъ дьньхъ кънязя и кънягыню повеле съмьрти предати, а дъщерь ею дасть за преждереченаго Жъдьберна съ мъногымь имениемь и постави его наместьникъмь Корсоуню градоу» [14. С. 111]. Скорее всего, Владимир не ограничился расправой над архонтом и его семьей. Репрессии должны были обрушиться на всю местную элиту (кроме ренегатов, перешедших на сторону Владимира). Слухи о расправах Владимира над жителями Херсонеса дошли до тогдашней Германии. Так, Титмар Мерзенбургский упомянул в своей Хронике «бесчинства, творимые Владимиром над бедными данайцам» [15. С. 91]. Неслучайно византийский историк Лев Диакон назвал захват Херсонеса Владимиром одной из двух тягчайших бед того времени наряду с завоеванием болгарами Веррии [16. С. 91]. Не подлежит сомнению и факт грабежа захваченного города воинами Владимира. Так, во многих отечественных письменных источниках сообщается, что Владимир привез из Херсонеса «м'ьдянь двъ капищи, и 4 кони мъдяны, иже и нынъ стоять за святою Богородицею, якоже нев'ьдуще мнять я мрамаряны суща» [10. С. 52]. В польской хронике Мартина Броневского конца XVI - начала XVII в. приводится любопытный рассказ том, как Владимир заставил местных греков снимать медные ворота с одной из херсонесских церквей [17. С. 23]. Расправа над частью местной элиты и грабежи жителей Херсонеса могли сопровождаться поджогами и вызвать тотальный пожар в северной и западной частях города. Однако данный факт не объясняет наличия братских могил в некрополях Херсонеса. Люди, захороненные в общих могилах конца X в., не были К вопросу о причастности князя Владимира к масштабной катастрофе конца X в. в Херсонесе 41 убиты холодным оружием. Останки людей со следами смертельных боевых травм были обнаружены в единичных случаях [18. С. 213]. К тому же, как верно заметил В.В. Хапаев, тела убитых воинами Владимира мирных жителей были бы захоронены оставшимися в живых родственниками согласно православным канонам, а не брошены бессистемно в одну общую могилу [8. С. 80]. Публичная расправа над частью городской элиты Херсонеса, упорствующей в сдаче города, была единственной альтернативой поголовному истреблению всех горожан. Весьма поредевшая русская дружина видела захваченный город своей законной добычей и жаждала мести за долгое и ожесточенное сопротивление жителей Херсонеса. Владимиру необходимо было успокоить свое войско и не допустить поголовного уничтожения горожан. Русскому князю был необходим многолюдный нормально функционирующий Херсонес как козырь в дальнейших переговорах с византийским императором. Таким образом, братские могилы жителей Херсонеса, обнаруженные в археологическом слое конца X в. в северной и западной частях города, не были напрямую связаны с Корсунским походом князя Владимира. В настоящее время все большую популярность набирает так называемая сейсмическая теория, согласно которой многочисленные жертвы в Херсонесе были вызваны страшным землетрясением, произошедшим в конце X-XI в. О фатальном землетрясении в Византии в конце X в. действительно сообщают многие письменные источники. Так, данное стихийное бедствие упоминает в своей Истории Лев Диакон: «Вечером того дня, когда обычно праздновалась память великомученика Димитрия, страшное землетрясение, какому равного не было в те времена, опрокинуло башни Византия, повалило множество домов, которые стали могилами для их обитателей, соседние с Визан-тием селения разрушило до основания и причинило смерть мирным жителям [16. С. 91]. Сообщение Льва Диакона позднее повторили компиляторы Михаил Пселл и Иоанн Скилица [19. С. 92, 102], а также армянский писатель конца X - начала XI в. Константин Асохик [Там же. С. 179]. Сирийский автор середины XIII в. Амид-Аль-Малкин сообщил о том, что стихийное бедствие помимо самого Константинополя затронуло также город Никомедию, находящийся недалеко от византийской столицы: «В четырнадцатый год Василия, царя римлян, который был 379 (годом гиджры), были в Константинополе большие землетрясения, и упала третья часть храма св. Софии и обрушились многие здания в Никомедии на своих обитателей [20. С. 82]. Все без исключения письменные источники датируют масштабное землетрясение концом X в. И этой датировке можно верить. В самом деле, о каком землетрясении в начале XI в. (по версии В.В. Хапаева [8. С. 77]) или во второй половине XI в. (по мнению А.И. Романчук [21. С. 409]) мог писать Лев Диакон, если он скончался в Малой Азии около 1000 г.? В известных нам источниках говорится о человеческих жертвах лишь в самом Константинополе и его окрестностях. Херсонес же находился от столицы им перии на значительном расстоянии. Кроме того, не очень ясно, почему масштабное землетрясение, наделавшее бед окрестностям столицы империи, так избирательно разрушила Херсонес - только северную и западную части, а остальные районы остались неповрежденными? Согласно данным археологии, в юговосточном, портовом и южном районах Херсонеса повсеместные слои разрушения зафиксированы не были [5. С. 461]. Как правило, при землетрясении люди погибают под обломками зданий или от спровоцированных стихийным бедствием наводнений и пожаров. Согласно археологическим данным, в конце X в. действительно произошел масштабный пожар в северной и западной частях города, но среди обнаруженных исследователями останков людей в братских могилах не встречены обожженные кости или человеческие останки со следами травм, которые бы были характерны для людей, погибших при пожаре или при обрушении зданий [18. С. 213]. Таким образом, скорее всего, люди, чьи останки были найдены в коллективных захоронениях, умерли не в результате землетрясения. В братских могилах захоронены люди разных возрастов, умершие в одно и то же время своей смертью. Их останки были бессистемно свалены в большие ямы [2. С. 27]. С.А. Беляев предположил, что захороненные в данных могилах люди умерли от какой-то заразной болезни, но сам же опроверг свою теорию предположением, что людей, умерших во время эпидемий, хоронили на окраинах города [Там же. С. 28]. Эту гипотезу охотно поддержал В.В. Хапаев [8. С. 80]. Однако в средневековой Европе не существовало практики хоронить умерших во время эпидемий на окраинах поселений. Даже во время пандемии Черная смерть трупы умерших от чумы бессистемно сваливали в большие чумные ямы, выкопанные в освященной земле вблизи городских церквей и монастырей. Так, Джованни Боккаччо в предисловии к «Декамерону» описывает процедуру захоронения умерших следующим образом: «На переполненных кладбищах при церквях рыли преогромные ямы и туда опускали целыми сотнями трупы, которые только успевали подносить к храмам. Клали их в ряд, словно тюки с товаром в корабельном трюме, потом посыпали землей, потом клали еще один ряд - и так до тех пор, пока яма не заполнялась доверху [22. С. 12]. Описание погребения умерших от чумы людей из сообщения Боккаччо точно соответствует процедуре погребения в братских могилах конца X в., открытых археологами в северной и западной частях Херсонеса. Так, например, в могиле № 22 на кладбище у «Базилики на холме» погребенные были не положены, а брошены. Они лежали не ровными рядами, а кое-как, иногда наискось могилы. Не были выдержаны и горизонтальные слои. Углубления для захоронения были вырыты в насыпном грунте, а сами могилы оформлены кое-как; стенками им служили положенные на землю архитектурные детали [2. С. 27]. Как и в Европе во время пандемии Черная смерть, трупы одновременно умерших людей разных возрас- М.Н. Козлов 42 тов бессистемно сваливали в огромные ямы вблизи церквей. К тому же, как правило, дома, в которых люди умерли от чумы, сжигались вместе со всем содержимым. Церкви и монастыри во время чумы становились главными рассадниками заразы. В культовых зданиях находились трупы умерших до погребения, здесь же собиралось население города, вымаливая себе и своим близким спасение от чумы. Церкви и монастыри часто использовались и в качестве лазаретов, где больных чумой пытались лечить чумные доктора. Таким образом, культовые здания в северной и западной частях города вполне могли сжечь сами жители Херсонеса, стремясь остановить распространение эпидемии в городе. Данную гипотезу подтверждает тот факт, что, по данным археологических исследований, в указанный период был не один, а несколько пожаров, произошедших примерно в одно и тоже время [3. С. 143]. Чума вполне могла прийти в Херсонес вместе с торговыми кораблями из западной Европы. Она вовсю уже бушевала в то время в германских землях, ослабленных голодом. Саксон Грамматик описывает голод в тогдашней Западной Европе следующим образом: «В то время необычайно плохая погода стала причиной гибели урожая и очень высоких цен на зерно. Тяготы голода совершенно истощили оставшихся без еды людей, и было решено перебить всех стариков и младенцев [23. С. 305-306]. Голод в Европе спровоцировал эпидемию чумы, которая началась, по данным Титмара Мерзен-бургского, в 983 г. в землях полабских славян и чрезвычайно их ослабила: «Король опять подчинил ослабленных чумой восставших славян. Сильная жара нанесла большой вред плодам, а жестокая смертность - людям» [15. С. 53]. Далее в своей хронике автор регулярно сообщает о чуме в Германской империи вплоть до 1000 г. Так, в записи за 999 г. мы находим в источнике следующее: «Между тем в некой деревне, называемой Гордорф, родился ребенок, наполовину человек, в остальном похожий на гуся. Великую чуму принес этот урод за грехи наши» [Там же. С. 53-56]. Сообщения о голоде и чуме в 988-989 гг. находим также в Кведлинбургских анналах: «Страшная летняя жара погубила почти весь урожай. Вскоре последовала сильная смертность среди людей. Появились кометы, за которыми последовал страшный мор среди людей и скота, особенно среди коров [24. С. 47]. Схожие данные сообщает нам и Хроника Саксона Анналиста [25. С. 219]. О том, что голод и чума обрушились не только на Германию, но и на византийские земли, сообщает нам Лев Диакон: «И на другие тягчайшие беды указывал восход появившейся тогда звезды. И крайне бедственный голод, болезни, засухи и бурные порывы гибельных ветров случились тогда» [16. С. 91]. Лев Диакон, сообщивший о болезнях в византийских землях, умер приблизительно в 1000 г. в Малой Азии, а значит, эпидемия чумы должны была начаться в конце X в., между 988 (время ухода русской дружины) и 1000 г. Если бы чума пришла в город до ухода русской дружины, то русские воины принесли бы ее на Русь и об эпидемии в восточнославянских землях сообщили бы русские летописи. Жители Херсонеса уже были ослаблены осадой и последовавшим за ним голодом. Неслучайно в древнерусских письменных источниках подчеркивается, что жители Херсона во время осады «изнемогша гладемъ» [14. С. 111]. Значительная часть взрослого населения погибла, обороняя город от вражеского нашествия или во время последующих за сдачей Херсонеса репрессий русской дружины. После ухода русской дружины из Херсонеса в городе осталось измученное войной и голодом население, существенную часть которого составили дети. Не удивительно, что значительная часть человеческих останков, найденных в братских могилах, оказалась детскими. Так, в одной из могил конца X в., открытых археологами в северной части Херсонеса, были найдены останки 32 детей, лежащих в беспорядке. В другой братской могиле были найдены останки 11 детей разных возрастов [1. С. 233, 237]. Таким образом, можно предположить, что в братских могилах, обнаруженных в археологическом слое конца X - начала XI в. северного и западного районов города хоронили умерших от чумы, случившейся после ухода русской дружины из города в конце X в. Тотальный пожар, вызвавший разрушение зданий, был спровоцирован самими херсонесидами, сжигавшими здания, ставшие рассадниками заразы. Согласно данным археологии, глобальная катастрофа, случившаяся в Херсонесе в конце X в., привела к катастрофическому сокращению населения города, упадку ремесел и торговли [9. С. 182]. О гуманитарной катастрофе, произошедшей в Херсонесе в XI в., красноречиво свидетельствует тот факт, что часть оставшихся в живых жителей города была вынуждена ютится в нежилых помещениях: склепах или водозаборных цистернах [8. С. 78-79]. В целом же можно сделать вывод, что князь Владимир и его дружина были косвенно причастны к катастрофе, произошедшей в Херсонесе в конце X в. Часть жителей города погибла во время осады или в результате последовавших за сдачей города репрессий. Осада и военные действия ослабили население Херсонеса, однако большая часть жителей города, судя по состоянию захоронений, погибла в конце Х в. во время эпидемии неизвестной болезни, вероятнее всего -чумы, которая свирепствовала в то время в Европе.
Белов Г.Д. Раскопки в северной части Херсонеса в 1931-1933 гг. // Материалы и исследования по археологии СССР (МИА). 1941. № 4. С. 202-268.
Беляев С.А. «Базилика на холме» в Херсонесе и «Церковь на горе» в Корсуни, построенная князем Владимиром // Byzantinorussica. 1994. № 1. С. 7-47.
Туровский Е.Я., Яшаева Т.Ю. Христианские древности из слоя пожара Х в. в юго-восточном районе Херсонеса // ΧΕΡΣΩΝΟΣ ΘΕΜΑΤΑ: империя и полис : IX Международный Византийский Семинар : материалы науч. конф. Севастополь : Колорит, 2017. С. 143-145.
Якобсон А.Л. Раннесредневековый Херсон // Материалы и исследования по археологии СССР (МИА). 1959. № 63. 364 с.
Завадская И.А. Катастрофа в Херсоне в конце X-XI вв.: критика гипотезы о землетрясении // Материалы по археологии, истории и этногра фии Таврии. 2010. Вып. XVI. С. 455-487.
Айбабин А.И., Макарова Т.И. Крым в X - первой половине XIII вв. // Крым, Северо-Восточное Причерноморье и Закавказье в эпоху Сред невековья VI-XIII веков / под ред. Б.А. Рыбакова. М. : Наука, 2003. С. 68-146.
Белов Г.Д. Северный прибрежный район Херсонеса // Материалы и исследования по археологии СССР (МИА). 1953. № 34. С. 11-31.
Хапаев В.В. Некрополи средневекового Херсона как источник по истории разрушения города в начале XI века // Материалы по археологии и истории античного и средневекового Крыма. 2012. Вып. IV. С. 77-84.
Романчук А.И. Слои разрушения Х в. в Херсонесе: к вопросу о последствиях Корсунского похода Владимира // Византийский временник. 1989. Т. 50. С. 182-188.
Повесть временных лет. М.-Л. : Изд-во АН СССР, 1950. 239 с.
Роменский А.А. Корсунский поход князя Владимира: обстоятельства осады и захвата города // Древняя Русь. Вопросы медиевистики. 2016. № 1 (63). С. 5-15.
Сорочан С.Б., Зубарь В.М., Марченко Л.В. Жизнь и гибель Херсонеса. Севастополь : Библекс, 2006. 826 с.
Василевский В.Г. Собрание трудов. СПб. : Изд-во Имп. Акад. наук, 1908. Т. 1. 401 с.
Житие князя Владимира особого состава // Шахматов А.А. Корсунская легенда о крещении Владимира. СПб. : Изд-во Тип. Имп. Акад. наук, 1906. С. 110-116.
Титмар Мерзенбургский. Хроника : в 8 кн. / под ред. И.В. Дьконова. М. : Русская панорама, 2009. 256 с.
Лев Диакон. История / под ред. Г.Г. Литаврина. М. : Наука, 1988. 238 с.
Броневский М. Описание Татарии. Киев : Изд-во Стрельбицкого, 2015. 79 с.
Иванов А.В. Внутригородские некрополи конца X-XIV вв. как элемент исторической топографии византийского Херсона // Древности : харьковский историко-археологический ежегодник. 2012. Т. 11. С. 211-222.
Василевский В.Г. Собрание трудов. СПб. : Изд-во Имп. Акад. наук, 1909. Т. 2, ч. 1. 295 с.
Василевский В.Г. Собрание трудов. СПб. : Изд-во Имп. Акад. наук, 1912. Т. 2, ч. 2. 427 с.
Романчук А.И. Исследования Херсонеса-Херсона : раскопки, гипотезы, проблемы. Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2008. Т. 2: Византийский город. 544 с.
Бокаччо Дж. Декамерон / пер. Н. Любимова. М. : Фирма АРТ, 1992. 464 с.
Саксон Г рамматик Деяния даннов / пер. с лат. яз. и коммент. А.С. Досаева, И.А. Настенко. М. : Русская панорама, 2017. Т. 1. 607 с.
Кведлинбургские анналы // Немецкие анналы и хроники X-XI столетий / пер. И.М. Дьяконова, В.В. Рыбакова. М. : Русский Фонд Содействия Образованию и Науке, 2012. С. 15-89.
Саксон Анналист. Хроника 741-1139 / пер. с лат. и коммент. И.В. Дьяконова. М. : Русская панорама, 2012. 712 с.
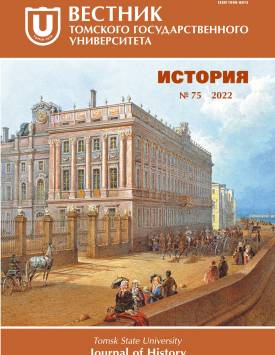

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью