К проблеме зауральской урбанизации: генезис, развитие и функции городских структур
Предложена гипотеза, характеризующая динамику урбанизационных процессов в Зауралье в широком хронологическом диапазоне - от зарождения протогородских структур в конце II тыс. до н.э. до появления первого российского военного, политического, административного, торгово-ремесленного и культурного центра Сибирского края. На основе анализа археологических материалов установлены причины и предпосылки появления поселений предгородского и городского типов, определены их историко-культурные особенности и функциональное назначение в разные хронологические периоды.
To the problem of urbanization of trans-urals: genesis, development and function of urban structures.pdf Введение Проблемам урбанизации посвящено множество работ как в отечественной, так и в зарубежной литературе, а само понятие «город» предстает сложным и многогранным явлением. Тем не менее в учебниках, научнопопулярных книгах, энциклопедических словарях и научных публикациях дано практически одно и то же определение поселения городского типа с некоторыми вариациями. Этот термин, как и сами критерии выделения города, подвергался изменениям со временем. Исторически он происходит от наличия на площади поселения оборонительных сооружений - рва, вала, деревянной стены [1. С. 140], а этимология слова «город» - «град» дословно означает огороженное, защищенное место [2. С. 17-16]. С развитием урбанизации города «обрастали» новыми функциями, каждая из которых в тот или иной исторический период могла быть превалирующей, и становились многофункциональными центрами. В XX в. под этим термином в основном понимают крупный населенный пункт, жители которого преимущественно не заняты сельскохозяйственной деятельностью [3. С. 281]. Зарождение процесса урбанизации в Зауралье и Сибири в целом исследователи связывают с началом российской колонизации, когда в конце XVI в. здесь появились первые города и остроги. Концепция, характеризующая генезис и развитие урбанизации в этом регионе до прихода русских, практически не рассматривается. Но по археологическим данным известны памятники древнего периода, раннего и позднего Средневековья, безусловно, не имеющие больших размеров, но наделенные характерными для городского поселения признаками: наличием ремесла, торговли, власти, предметов военного оснащения (и, соответственно, военного дела как специализации), элементов городской застройки, фортификационных сооружений. Однако построение модели урбанизации на региональном уровне возможно только в хронологической последовательности: от зарождения протогородских структур до появления первой сибирской российской столицы. Широкий хронологический диапазон раскопанных в лесостепном и подтаежном Зауралье памятников позволяет рассмотреть поселения городского типа как по отдельности, так и в сравнении с поселенческими структурами предшествующего и последующего времени и способствует реконструкции исторического процесса урбанизации. Крепости являлись центрами возникновения и трансляции культурных инноваций, обусловливавших изменения в древних и средневековых обществах и определявших развитие региона в целом. Изучение градообразования в Зауралье приобретает особое значение еще и потому, что по своему географическому положению этот регион находится в зоне межкультурных и межцивилизационных контактов, где активно взаимодействовали носители многих культур, развивавшихся в разных ландшафтных зонах: в лесу, лесостепи и степи. Археологические источники свидетельствуют, что основное место локализации укрепленных поселков - лесостепная полоса, с запада ограниченная горами Урала, с юга - обширными степями Казахстана, с севера - массивом тайги. Это крупный микрорайон, по которому протекают реки Исеть, Тобол, Ишим, большое количество притоков, имеется много озер. Территория благоприятна для ведения разных видов хозяйственной деятельности: скотоводства, охоты, рыболовства, собирательства дикоросов. К проблеме зауральской урбанизации 173 Изменения климатических условий в лесостепи и на сопредельных территориях в древности приводили к подвижкам населения с севера и юга, в результате чего шел активный процесс культурогенеза. С одной стороны, сюда чаще проникали нововведения, с другой -нередко возникала социальная напряженность между коллективами. Эти факторы стимулировали процесс зарождения и развития укрепленных поселков. Вопросы методологии. Для построения любой исторической модели необходима репрезентативная источниковая база. Археологический материал, характеризующий различного рода поселения, фортификации, жилищные, производственные и иные комплексы, материальную и духовную культуру и хозяйственную деятельность древнего и средневекового населения Зауралья, служит надежным основанием для изучения процесса урбанизации этого региона. Письменные источники позднего Средневековья и Нового времени вместе с данными археологии и этнографии позволяют получить сведения о городских поселениях аборигенного населения, установить особенности возникновения первых русских сибирских городов - Тюмени и Тобольска, выявить закономерности и тенденции их развития, место и значение в истории периода освоения русскими Сибири. Неоспорим тот факт, что для всестороннего анализа зауральского городского поселения той или иной эпохи, определения причин и обстоятельств его появления, а также особенностей поселенческих структур на разных этапах урбанизации необходим междисциплинарный подход. Привлекая разные методологические подходы, естественнонаучные и гуманитарные методы, можно проследить достаточно длительные стадии протогородского и раннегородского существования, выявить признаки трансформации предгородского поселения собственно в город, вычленить историко-культурные особенности городских структур бронзового и раннего железного веков, раннего и позднего Средневековья, Нового времени. Комплексный анализ археологических, письменных, картографических и иных материалов способствует исследованию разных аспектов процесса урбанизации как в конкретном территориально-хронологическом плане, так и в историческом масштабе. В подобного рода исследованиях используются культурологический, структурный, системный, феноменологический, синергетический, ареальный и другие подходы [4], а также разнообразные методические приемы: традиционно-исторические, типологические и экспериментально-трасологические методы, поиск аналогий, статистические приемы обработки данных, палинологические, палеозоологические, палеоботанические и химические анализы, способы картографирования, абсолютное и относительное датирование и ряд других [5]. Немаловажно при изучении урбанизационного процесса установить межкультурные контакты, явления аккультурации, воздействие одной культуры на другую, заимствования протогородских и городских форм жизнеустройства и преемственности в их развитии, а также рассмотреть поселенческие структуры древних и средневековых обществ в следующих ракурсах: территориально-поселенческом (геоландшафтном, экологическом и демографическом), производственно-экономическом, архитектурном, историческом, социологическом и др. На следующем шаге возможна разработка типологии протогородов и городов по таким показателям, как размеры и плотность заселения поселков, производственная, хозяйственная и торговая деятельность их жителей, особенности архитектурно-планировочной композиции и фортификационной системы поселений, их административно-политическое, религиозное значение и уровень социальной стратификации коллективов. Если двигаться в этом направлении, то урбанизационные процессы раскрывают основные этапы, пространственные закономерности и плотность заселения территории Зауралья в тот или иной период, систему жизнеобеспечения древнего и средневекового зауральского населения, особенности социальной, в том числе семейной, организации их жителей, административно -политический статус протогородов и городов в определенную эпоху. Интерпретация их функционального назначения подразумевает ответ на вопрос: являлись ли они центрами военной либо политической, административной, хозяйственной, торговой или культурной деятельности, - при этом необходимо учитывать влияние внешних и внутренних факторов, а также историко-культурные особенности поселенческих структур тех или иных конкретно-исторических обществ. Воссоздание архитектурного облика древних и средневековых поселенческих структур эффективно при типо-логизации построек и оборонительных сооружений и реконструкции их внешнего вида. Укрепленные поселения Зауралья Первые укрепленные поселения в лесостепном Тоболо-Ишимье появляются в эпоху поздней бронзы, в XI в. до н.э. Возникновение городищ связывают с природно-климатическими изменениями в конце II -начале I тыс. до н.э., получившими название «экологический стресс» [6]. Одно из самых ранних укрепленных поселений в зауральском регионе - городище Заво-доуковское 11, принадлежавшее пахомовской культуре и датированное концом XI в. до н.э. В ходе исследований установлено, что небольшой пахомовский поселок располагался на невысокой гриве у старицы р. Ук, состоял из неукрепленного посада и крепости, защищенной сравнительно неглубоким рвом, огибавшим ее по дуге с напольной стороны. На дне рва, судя по обнаруженным ямкам, были установлены столбы, образовывавшие бревенчатую стену типа тына или частокола. Впоследствии ров оказался заброшенным, а на расстоянии около 5 м от него был выкопан новый, рядом с которым на внутренней площадке насыпан земляной вал, при этом фортификационные сооружения стали более мощными и круговыми. Кто представлял опасность для жителей поселка, точно сказать невозможно, но, исходя из общих культурных процессов, происходивших на территории Тоболо-Исетья, предположительно это были черкаскульские коллективы. Возведе- О.М. Аношко, С.В. Берлина, С.И. Цембалюк 174 ние фортификационных сооружений, а также следы их перестроек, полагаем, указывают на обострение отношений, по неустановленной пока причине, «заводо-уковской» пахомовской общины с ее соседями. При этом как на других участках Тоболо-Исетского междуречья пахомовские и черкаскульские коллективы мирно сосуществовали и занимали разные экологические ниши, что объясняется различиями в их системах жизнеобеспечения [7]. На бархатовских укрепленных поселениях (Миас-ское, Красногорское) выявлены все элементы, свойственные фортификационной системе древности: рвы, валы, дополнительные деревянные и земляные сооружения [8. С. 204-205]. Небольшие размеры рвов и валов указывают на малую вероятность существования трудно преодолимых заграждений, характерных, например, для населения эпохи бронзы Южного Кавказа и Восточной Европы [9, 10]. Тем не менее использование высоких крутых берегов и дополнительное укрепление вала бревенчатой стеной усиливали защиту бархатовских городищ от нападений. Появление фортификаций на заключительном этапе бронзового века фиксируется не только у представителей бархатовской культуры, но и у их соседей - сузгунского (Абатское 6, Чудская гора, Чеганово 3), гамаюнского (Андреевские городища 5 и 7, Палкинское, Фунтусовское и др.) населения и у приишимских групп, оставивших памятники с крестовой керамикой [11. С. 33-41; 12. С. 58-59; 13. С. 39; 14. С. 101; 15]. Все это говорит об усилении военной опасности, которую почувствовало население разных районов Западной Сибири в конце эпохи бронзы. Причину появления крепостей в этот период большинство исследователей соотносят с климатическими изменениями - повышением уровня воды в реках, следствием чего стала миграция на юг таежных групп -носителей крестовой керамики, что привело к возникновению здесь социальной напряженности и строительству местным населением фортификаций с целью защиты от чужеземцев [16. С. 105; 17. С. 42]. При этом городища данного периода отличаются от более поздних, относящихся к раннему железному веку, менее мощными укреплениями и являются не столь многочисленными. В первую очередь они выполняли функцию жилого поселка, и лишь затем - оборонительную. В переходное от бронзового к раннему железному веку время получили распространение поселения, защищенные фортификациями круговой планировки (известно более 45) [18. С. 153]. Они были оставлены носителями иткульской культуры, сооружавшими, судя по небольшим параметрам валов и рвов, деревянные заборы с канавкой у основания [19]. Данные крепости локализовались в основном на границе тайги и лесостепи, зачастую имели упорядоченную планировку: жилища располагались по кругу с внутренней стороны фортификаций, а в центре - большая незастроенная площадка, возможно, для содержания и охраны скота. Для памятников иткульской культуры характерны как одиночные, так и сдвоенные площадки, достигавшие от 1 до 9 тыс. кв. м, реже до 64 тыс. кв.м. В этот же период появились первые укрепленные поселки населения баитовской культуры, которые на раннем этапе ее существования обносились заборами-частоколами, установленными в неглубокий ров, грунт из которого использовался для насыпи вала (Боровуш-ка, Бочанецкое). На баитовских городищах, помимо обычной хозяйственной деятельности (гончарство, обработка шкур, дерева), зародилось металлообрабатывающее ремесло [20]. То есть укрепленные поселения становились ремесленными центрами. Уже в начале раннего железного века, на поздней стадии функционирования баитовской культуры, мощность оборонительных линий резко возросла, появились предвратные башни (Лихачевское, Большой Имбиряй 3) [21. С. 58; 22]. Во-первых, это связано с развитием экономики и сменой характера скотоводства, что вызвало социальную стратификацию общества, а во-вторых, с проникновением в лесостепь степных коллективов, с формированием саргатской общности, что могло вызвать социальную напряженность в среде населения. В зауральской лесостепи в эпоху раннего железа одновременно проживали носители баитовской, гороховской и саргатской культур, что привело к росту плотности обитателей и, как следствие, к увеличению количества поселений и крепостей в несколько раз по сравнению с бронзовым веком. Если для эпохи поздней бронзы нами зафиксировано 12 городищ, то в раннем железном веке отмечено более 70 единиц, а для средневекового периода - 35 [23]. Около половины городищ раннего железного века было оставлено смешанным населением, что свидетельствует о контактах и ассимиляции в среде древнего общества. Но, вероятно, не все контакты носили мирный характер, так как для этого времени фиксируются эволюция и многообразие решений в устройстве фортификаций. Ряд анализов средствами ГИС показал, что ведущими факторами в расположении городищ были безопасность и пригодность рельефа для устройства укреплений, а также экологическая емкость территории, наличие природных богатств. Основная функция поселков заключалась, на наш взгляд, в сохранении жизни и имущества. Полагаем, что со временем отдельные городища постепенно трансформировались в политические и экономические центры. Анализ возможностей телекоммуникации показал, что население городищ могло сигнализировать другим поселкам об опасности. Гипотеза же о расположении на пересечении важных экономических путей или возникновение как форпостов освоения территории не подтвердилась [23]. Скорее, наоборот, население городищ, расположенных в удобном и экологически емком месте, постепенно увеличивалось (в том числе за счет возникновения селищ за пределами фортификаций), и крепости приобретали новые функции. В III веке до н.э. - I веке н.э. основным населением Зауралья стали представители гороховской и саргат-ской культур, имевшие торговые связи с Приуральем, сакским степным миром, Китаем и Передней Азией [24. С. 291-300]. В этот период наблюдается своеобразный «расцвет» конструкций и вариаций фортификаций: укрепления в плане округло-овальных, трапециевидных, подтреугольных форм, с выступами-башнями, часто двух-трехплощадочные, появилась эшелониро- К проблеме зауральской урбанизации 175 ванная оборона. Из элементов укрепления зафиксированы эскарпирование склонов, строительство стен в виде плетней, частоколов, стен в пазово-шиповой технике, сооружение клетей, заполненных землей, при этом оборонительные стены могли располагаться как на валу, так и во «рву» - канавке по периметру поселка. То есть реализовывались различные схемы-сочетания элементов укреплений: вал с сооруженной на нем стеной и рвом у основания, стеной, установленной в канавку по периметру поселка, стеной, установленной с внутренней стороны рва. Зафиксированы укрепление стенок рва деревом, создание сложных входов и выступов в оборонительных линиях, интерпретируемых некоторыми исследователями как прообраз бастиона (башни) [25. С. 16]. Так, на Коловском городище зафиксированы стена в технике заплота, стена-плетень, стена с клетями, заполненными мусором в теле вала, поверх, вероятно, укрепленная частоколом / плетнем(?), у основания стен проходили рвы, для одного из них зафиксировано укрепление стенки деревом, между стеной и рвом отмечена берма [25, 26]; городище Ак-Тау по периметру было обнесено стеной-плетнем, установленной на вал, а ров у основания был облицован деревом [27. С. 129]. На Рафайловском городище зафиксировано несколько этапов перестройки фортификаций, из элементов отмечены стена, сооруженная в технике заплот, установленная на валу, укрепление стенок рва деревом на участке у въезда [28]. Для периода эпохи раннего железного века Старо-Лыбаевского городища Н.П. Матвеевой реконструирована стена, усиленная башней [29]. На гороховско-саргатском городище Павлиново исследователями реконструированы срубные деревянные конструкции в теле вала, позволяющие повысить его высоту и мощность, поверх вал был укреплен частоколом, ров, предположительно, облицован деревом [30. С. 248]. На городищах Чудаки, Мало-Казахбаевское, Марьино Ущелье 4 зафиксировано строение фортификаций в виде частокола, установленного в канаву глубиной до 2 м [31-34]. На наш взгляд, в этом многообразии фортификационных элементов и вариативности их совмещения отражается поиск оптимальных архитектурных решений для повышения обороноспособности поселков. При исследовании памятников выделены элитарная военизированная верхушка общества, слой рядовых воинов и простых жителей, кроме того, в могильниках и на поселениях раннего железного века зафиксированы предметы роскоши, военное вооружение, предметы импорта [24, 35]. Эти факторы указывают не только на социальную стратификацию общества, но и на наличие ремесла, военного дела, торговли, которые также являются признаками городов. При этом данные признаки характерны не для всех укрепленных поселений. В лесостепной зоне известно около 40 крепостей данного периода, среди них только шесть городков имеют признаки крупных социально-политических центров (городища Батаково, Коловское, Марьино ущелье, Павлиново, Рафайловское, Чудаки). На их цитадели прослежены следы ремесла, упорядоченная застройка, наличие элитных жилищ, свидетельства международной торговли / обмена, а за пределами оборонительных линий - неукрепленные посады. То есть в раннем железном веке шел процесс выделения из ряда укрепленных поселков отдельных городищ, которые становились социально-экономическим и административным центром округи. На рубеже веков на процесс урбанизации в Зауралье повлияло великое переселение народов, торговые связи были нарушены, а большая часть населения ушла с завоевателями на запад. В эпоху раннего и развитого Средневековья количество городищ, как и поселений в целом, сократилось, но увеличились параметры фортификаций городков, отличавшихся большой площадью и мощностью оборонительных конструкций, а их схема стала относительно унифицированной (укрепление тела вала с помощью тарас, клетей, установление поверх дополнительных заборов, частоколов, плетней, наличие рва у основания вала, усиление рва с помощью вертикально установленных кольев). Так, на памятниках бакальской культуры зафиксированы бревенчатые стены, обмазанные глиной, и глинобитная башня (Малое Бакальское городище); стена и башня, обмазанные глиной, изучены на городище Ласточкино Гнездо, на этом же памятнике отмечено укрепление стенок рва деревом на участке у въезда, и под башней исследован подземный ход [36]; башнеобразные выступы изучены на Логиновском городище [37]. Тарасы в основании стены и сооружение бастионнообразного выступа зафиксированы на городище Усть-Утяк 1 [38. С. 48]. На Большом Бакальском городище зафиксированы элементы деревянной стены, на валу первой площадки - предположительно тарас, на валу второй площадки - частокол [38]. На Колов-ском городище изучены тарасы, установленные в теле вала и заполненные мусором, в том числе строительным [26]. На Усть-Терсюкском городище изучены въезд и частично стена, установлен факт облицовки тела вала жердями, со стороны поймы мыс был эскарпирован, в основании эскарпа установлен частокол [38]. На юдинских памятниках изучены деревянные конструкции или срубы в теле вала, а также частоколы во рву и за его пределами (Юдинское городище [39]); частокол во рву отмечен на Красногорском городище [40]; деревянными заборами поверх вала были укреплены городища Святой Бор - V и Криволукское, на последнем зафиксирована предположительно наблюдательная вышка [41]. Формированию и актуализации укреплений в лесостепной зоне способствовала инфильтрация тюрков начиная с VII в. н.э. [42]. При этом если для юдинско-го населения, ареал обитания которого сопоставим в основном с лесной зоной, отмечено множество мелких укрепленных поселков, то для бакальского населения, занимавшего буферную зону между лесом и степью, фиксируется процесс формирования и выделения больших центров-городов из общей массы укрепленных поселений - к ним можно отнести Большое Бакальское, Усть-Терсюкское городища, возможно, Красногорское. Археологические материалы свидетельствуют, что в Средневековье значительно вырос социально-экономический статус отдельных укрепленных поселений, О.М. Аношко, С.В. Берлина, С.И. Цембалюк 176 не только выполнявших оборонительную функцию, но и имевших административно-политическое и религиозное значение. Переломным моментом в историческом процессе урбанизации являлся период позднего Средневековья. По немногочисленным письменным источникам, в основном сибирским летописям, известно, что в XIV в. на зауральской территории, в среднем течении Тобола и междуречье Туры и Тавды, сложилось татарское государственно-политическое объединение - Тюменское ханство, вошедшее в состав улуса Джучи (Золотой Орды) и оказавшееся вовлеченным в мировую политическую и экономическую систему, что привело к активизации процесса тюркизации населения и изменению исторически сложившейся урбанизационной структуры [43. С. 62-72; 44]. Резиденция хана в это время находилась в Чимге-Туре, являвшейся форпостом исламской культуры в сибирском регионе. Судя по ремезовским чертежам и поздним картам XVIII в., этот татарский город, защищенный земляным валом и широким рвом с напольной стороны высокого мыса р. Тюменки, не только выполнял военно-оборонительную функцию, обеспечивавшую охрану богатств хана и знати, но и главным образом был крупным центром караванной торговли. В исторической части Тюмени раскопками выявлен слой, связанный с культурой сибирских татар, но, к сожалению, содержавший рядовой материал [45. С. 177-180; 46. С. 51]. В конце XV в. столица нового Сибирского ханства, подчинившего Тюменское, была перенесена в Кашлык (Сибир, Ис-кер), располагавшийся на краю обрывистого берега р. Иртыш, дополнительно укрепленного глубокими оврагами р. Сибирки и мощной фортификацией, представленной рвом по дну лога и двойной линией деревянных стен с фланкирующими П-образными выступами [47. С. 55]. Постоянное обрушение иртышского берега привело к уничтожению основной площади этого памятника, однако на сохранившихся участках в разные годы проведены небольшие археологические исследования, установившие несколько этапов застройки города и показавшие конструктивные особенности его фортификационной системы [48]. Помимо Искера - главного административного и военного центра Сибирского ханства, другими военно-опорными пунктами в западносибирском регионе были Явлу-Тура (р. Тобол), Кучум-гора (р. Ишим), Кызыл-Тура (Усть-Ишим), Тон-Тура (р. Омь) и др. Мощным толчком к преобразованию зауральского региона и Сибири в целом послужило покорение Сибирского ханства Московскому государству и продвижение русских землепроходцев на восток с конца XVI в., что привело к образованию новых городов и острогов [49]. Археологические материалы, полученные при раскопках этих памятников, свидетельствуют, что городские поселения, возникшие на просторах Сибири в процессе ее колонизации, не только выполняли функции военно-управленческой крепости, но и были опорными пунктами ведения ремесленных, промысловых и сельскохозяйственных занятий, а главное - распространения ценностей русской культуры [50]. Многолетние археологические исследования Тобольска свидетельствуют, что на раннем этапе российской колонизации военно-оборонительная функция Тобольска была наиважнейшей. Сеть улиц и расположение кварталов этого города исторически сложились под влиянием локализации и конфигурации деревянных острожных укреплений, возведенных в разные периоды XVII в. [51; 52; 53. С. 25-27; 54; 55]. В результате археологических исследований удалось реконструировать размеры, устройство и внешний вид посадских укреплений [56]. К ним отнесены остатки частоколов, представленных несколькими канавами с древесным тленом от столбов и являвшихся частью острога в разные периоды его функционирования. Данные планиграфии и стратиграфии указывают на разновременность и периодический ремонт исследованных тыновых сооружений, что подтверждает информацию письменных источников, свидетельствующих о перестройке, переносе с одного места на другое и гибели острожных укреплений при пожарах. Самая мощная линия фортификаций представлена канавой, в которую, судя по фрагментам бревен в ее заполнении и их отпечаткам на дне котлована, были установлены столбы, образовывавшие сплошную стену типа тына. На изученном участке фортификационной линии также обнаружены остатки основания деревянной башни, наземная конструкция которой не сохранилась. Вдоль частокола с башенкой выявлена еще одна линия столбов, являвшихся опорами пристроенного к ней помоста, с которого в случае необходимости было удобно и наблюдать за неприятелем, и обстреливать его. По историческим данным, укрепления, построенные вокруг посада Тобольска в 1688 г., были не только самыми мощными в истории города, но и самыми последними по времени, поэтому позднейшую фортификационную линию с помостом и башенкой, зафиксированную в ходе раскопок, мы склонны относить именно к этому времени. Письменные источники показывают роль Тобольска как административно-политического, духовного и культурного центра сибирского края вплоть до второй четверти XIX в., являвшегося местом пребывания представителей российской государственной исполнительной и судебной власти, сибирской епархии [57-59]. Тобольск являлся не только торговым центром, но и местом интеграции русских переселенцев и полиэтнических групп коренного населения Сибири, здесь осуществлялись межкультурные контакты, носившие в основном мирный характер, процессы аккультурации и адаптации, заимствования бытового уклада, зарождались новые духовно-культурные и жизнеобеспечивающие традиции, распространявшиеся на остальные сибирские территории. Исследователи отмечали, что коренное население напрямую или опосредованно через столичный город в культурном и духовном плане испытывало влияние Европейской части России [57, 60]. Археологические материалы подтверждают данную точку зрения: находки из культурного слоя в основном российского происхождения, среди них предметы, связанные с христианской атрибутикой, - кресты-тельники, перстни, пуговицы, печати, подвески и т.п. К проблеме зауральской урбанизации 177 Самым ценным артефактом, обнаруженным при расчистке сруба дома, является меднолитая позолоченная панагия XVT-XVTI в., которая попала в первую столицу Сибири при первых архиепископах учрежденной здесь в 1620 г. епархии [61]. Свидетельством Тобольска как религиозного центра являются культовые постройки: сохранились каменные храмы позднего происхождения, а самые ранние зафиксированы лишь в результате археологических исследований - фундаменты каменной ограды Софийского двора и западных Святых ворот конца XVII в., остатки двух крестильных купален [62. С. 50], часть стены алтарной апсиды каменной Никольской церкви, построенной в 40-х гг. XVIII в. [59. С. 70, 95; 62. С. 260]. На верхнем и нижнем посадах города также изучено несколько участков культурного слоя с захоронениями, осуществленными по традиционному православному погребальному обряду [53. С. 30]. Процесс российской колонизации Зауралья и Сибири резко увеличил потребности населения в различных товарах, что, соответственно, привело к активизации налаживания внешних торговых связей и формированию местных производств, ориентированных на внутреннюю реализацию на городском рынке [63, 64]. Тобольск, основанный на пересечении транзитных торговых путей, был связующим звеном сибирского региона с Центральной Россией, Европой и Азией [65. С. 120]. Если анализировать данные исторических источников, то развитие тобольского рынка происходило в сторону расширения ассортимента как импортных, так и товаров местного производства, необходимых для активного обмена. В первой четверти XVII в. в российской столице Сибири существовало мелкотоварное производство, прежде всего кожевенное, мыловаренное, дерево- и металлообрабатывающее, портняжное, многие привозные товары стали вытесняться местными, продаваемыми и в других сибирских городах и деревнях, что привело к укреплению и расширению торговых связей Тобольска. В конце XVII - начале XVIII в. появились небольшие предприятия в винокурении, стекольнофаянсовом и суконном производствах, крупные кожевенные заводы, ориентированные на внутренний и внешний рынок [63. С. 25-61]. В конце XVIII-XIX в. также действовали салотопенные, клееварные и свечные заведения, получила развитие писчебумажная промышленность [66, 67]. Как известно по историческим источникам, в XIX в. Тобольск утратил свое влияние не только как административно-политический, но и как главный торговый центр Сибири, что связано с перемещением сухопутного сибирского тракта от Екатеринбурга на Тюмень, через Ялуторовск и Ишим [58. С. 59-61]. В целом историческая интерпретация обнаруженных на площади столичного города в ходе раскопок объектов (производственных сооружений, посадских жилых построек, усадеб, торговых рядов, городских укреплений, мостовых, фундаментов церквей, приходских кладбищ, тюремного двора и др.) дает возможность утверждать, что Тобольск с момента своего основания был полифункциональным городом, являвшимся военным, административно-политическим, торгово-ремесленным, духовным и культурным центром сибирского края. Лишившись столичных управленческих функций и главных торговых транзитных путей, он превратился в уездный город дореволюционной России. Таким образом, на археологических материалах лесостепной и подтаежной зон Зауралья можно проследить зарождение укрепленных поселений и трансформацию их в протогорода. Они появились в период поздней бронзы, количество их возросло в раннем железном веке, в этот же период наблюдалось большое разнообразие форм и схем фортификаций - шел поиск оптимальных решений, выделялись крупные социальноэкономические центры. Городское поселение приобретало в ходе исторического развития самые различные формы, последовательно сменявшие либо дополнявшие друг друга, - от крепостей до военного, политического и административного центра сибирского края. Факторы, влияющие на зарождение и развитие протогородов и городов, следующие: климатический и связанный с ним миграционный, что создавало социальную напряженность в обществе; социально-экономический (стратификация общества, торговля, обмен, ремесло) и поттестарный; формирование в городах административно-управленческих центров. Без сомнения, свою роль играли и пути сообщения, сырьевые ресурсы и связанные с ними производственные центры. К сожалению, построению более точной модели урбанизации Зауралья препятствуют малая изученность и отсутствие точных датировок ряда поселений для древних эпох, что затрудняет определение их функционального назначения и социально -экономического статуса. Тем не менее полагаем, что предложенный нами ракурс рассмотрения археологических материалов ставит новые задачи в их интерпретации.
Ключевые слова
Зауралье,
модель урбанизации,
протогорода,
городские структурыАвторы
| Аношко Оксана Михайловна | Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр СО РАН | кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора археологии и естественно-научных методов | okanoshko@yandex.ru |
| Берлина Светлана Владимировна | Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр СО РАН | кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора археологии и естественно-научных методов | svb82@mail.ru |
| Цембалюк Светлана Ивановна | Федеральный исследовательский центр Тюменский научный центр СО РАН | кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора археологии и естественно-научных методов | svetac80@mail.ru |
Всего: 3
Ссылки
Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка : 80 000 слов и фразеологических выражений. 4-е изд. М. : Азбуковник, 1999. 944 с.
Гутнов А.Э., Глазычев В.Л. Мир архитектуры : лицо города. М. : Молодая гвардия, 1990. 352 с.
Новый энциклопедический словарь. М. : Большая рос. энцикл. : РИПОЛ классик, 2007. 1456 с.
Илюшина В.В. Эволюция культуры лесостепной части Западной Сибири второй четверти II - середины I тыс. до н.э. : автореф. дис.. канд. культурологии. Челябинск, 2011. 26 с.
Аношко О.М. Теоретико-методологические и методические основы исследования процесса урбанизации Сибири // AB ORIGINE : археолого-этнографический сборник Тюменского государственного университета. Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2012. Вып. 4. С. 4-12.
Молодин В.И. Экологический «стресс» на рубеже II-I тыс. до н.э. и его влияние на этнокультурные и социально-экономические процессы у народов Западной Сибири // Культура как система в историческом контексте: опыт западносибирских археолого-этнографических совещаний : Материалы XV Междунар. Зап.-Сиб. археологической конф. Томск, 19-21 мая 2010 г. Томск : Аграф-Пресс, 2010. С. 22-24.
Аношко О.М., Агапетова Т.А. Новые данные по пахомовской культуре в Тоболо-Исетье // Андроновский мир : сб. ст. Тюмень : Изд-во Тю мен. гос. ун-та, 2010. С. 118-137.
Матвеев А.В., Аношко О.М. Зауралье после андроновцев: Бархатовсая культура. Тюмень : Тюменский дом печати, 2009. 416 с.
Кушнарева К.Х. К вопросу об обороне поселений Южного Кавказа (IX-II тыс. до н.э.) // Фортификация в древности и средневековье. СПб. : Ин-т истории материальной культуры РАН, 1995. С. 7-11.
Рысин М.Б. Фортификация Юго-Восточной Европы в эпоху бронзы // Фортификация в древности и средневековье. СПб. : Ин-т истории материальной культуры РАН, 1995. С. 17-21.
Борзунов В.А. Зауралье на рубеже бронзового и железного веков. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. ун-та, 1992. 188 с.
Зимина О.Ю., Зах В.А., Скочина С.Н., Колмогоров П.А., Галкин В.Т., Аношко О.М. Городище Чеганово 3 в Нижнем Притоболье // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2005. № 6. С. 58-72.
Матвеев А.В., Горелов В.В. Городище Ефимово 1 : препринт. Тюмень : Ин-т проблем освоения Севера СО РАН, 1993. 76 с.
Потемкина Т.М., Корочкова О.Н., Стефанов В.И. Лесное Тоболо-Иртышье в конце эпохи бронзы (по материалам Чудской горы). М. : Паимс, 1995. 157 с.
Ткачев А.А. Культурно-хронологические комплексы Абатского Приишимья (по материалам городища Абатское VI). Тюмень : Ин-т проблем освоения Севера СО РАН, 2003. Вып. 4. С. 40-44.
Бельтикова Г.В., Борзунов В.А., Корякова Л.Н. Некоторые проблемы археологии раннего железного века Зауралья и Западной Сибири // Вопросы археологии Урала. 1991. Вып. 20. С. 102-114.
Косарев М.Ф. Западная Сибирь в древности. М. : Наука, 1984. 244 с.
Сизов О.С., Зимина О.Ю. Особенности системы жизнеобеспечения и пространственного размещения поселений иткульской культуры в Притоболье (VIII-VI вв. до н.э.) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2012. № 4 (19). С. 150-159.
Зимина О.Ю., Зах В.А. Нижнее Притоболье на рубеже бронзового и железного веков. Новосибирск : Наука, 2009. 232 с.
Цембалюк С.И. Баитовская культура начала раннего железного века в лесостепном и подтаежном Притоболье : автореф. дис.. канд. ист. наук. Тюмень, 2017. 20 с.
Цембалюк С.И. Характеристика поселений и жилищ баитовской культуры // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2009. № 10. С. 57-64.
Цембалюк С.И., Берлина С.В. Комплекс раннего железного века городища Лихачевское в Приишимье // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 3 (26). С. 55-65.
Берлина С.В., Костомаров В.М., Попов Н.А. Городища лесного Тоболо-Ишимья в эпоху бронзы - средневековье (опыт классификации и анализа в среде ГИС) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 3 (22). С. 79-86.
Матвеева Н.П. Социально-экономические структуры населения Западной Сибири в раннем железном веке (лесостепная и подтаежная зоны). Новосибирск : Наука, 2000. 399 с.
Берлина С.В. Жилая и оборонительная архитектура населения западносибирской лесостепи в раннем железном веке (по материалам саргатской культуры) : автореф. дис.. канд. ист. наук. Тюмень, 2010. 18 с.
Матвеева Н.П., Берлина С.В., Рафикова Т.Н. Коловское городище Новосибирск: Наука, 2008. 240 с. (Древности Ингальской долины: археолого-палеоэкологическое исследование; вып. 2).
Хабдулина М.К. Городище Ак-Тау как архитектурный комплекс // Знания и навыки уральского населения в древности и средневековье. Екатеринбург : Наука, 1993. С. 112-143.
Матвеева Н.П., Ларина Н.С., Берлина С.В., Чикунова И.Ю. Комплексное изучение условий жизни древнего населения западной Сибири. Новосибирск : Изд-во СО РАН, 2005. 228 с.
Матвеева Н.П., Алиева Т.А. Башни в фортификационном строительстве раннего железного века (саргатская культура) // Вестник Томского государственного университета. История. 2016. № 4 (42). С. 140-143.
Среда, культура и общество лесостепного Зауралья во второй половине I тыс. до н.э. : (по материалам Павлиновского археологического комплекса) / Л.Н. Корякова, М.И. Дэйр, А.А. Ковригин, С.В. Шарапова, Н.А. Берсенева, С.Е. Пантелеева, Д.И. Ражев, П. Курто, Б. Хэнкс, Е.Г. Ефимова, А.А. Каздым, О.В. Микрюкова, О.А. Сахарова. Екатеринбург-Сургут : Маггелан, 2009. 298 с.
Сальников К.В. Городище Чудаки в Челябинской области по раскопкам 1937 г. // Советская археология. 1947. Вып. 9. С. 221-238.
Козеко О.Е., Кузнецова А.Э. Мало-Казакбаевское городище гороховской культуры // Поселения: среда, культура, социум : материалы тематической науч. конф. СПб. : Изд-во С.-Петерб. гос. ун-та, 1998. С. 117-119.
Берлина С.В. Крепости гороховской культуры в системе укреплений эпохи раннего железа западно-сибирской лесостепи // Человек и Север: археология, антропология, экология : материалы Всерос. конф. Тюмень, 26-30 марта 2012 г. Тюмень : Изд-во Ин-та проблем освоения Севера СО РАН, 2012. Вып. 2. С. 88-91.
Берлина С.В. Городище гороховской культуры Марьино ущелье IV // Вопросы истории Сибири : сб. науч. ст. памяти В.А. Могильникова. Омск : Изд-во ОмГПУ, 2014. Вып. 9. С. 96-101
Корякова Л.Н. Ранний железный век Зауралья и Западной Сибири (саргатская культура). Свердловск : Изд-во Урал. ун-та, 1988. 239 с.
Рафикова Т.Н., Берлина С.В. Фортификации городища Ласточкино гнездо-1 эпохи средневековья: к проблеме культурных контактов // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2014. № 4 (27). С. 69-76.
Генинг В.Ф., Евдокимов В.В. Логиновское городище (VI-VII вв.) // Вопросы археологии Урала. 1969. Вып. 8. С. 102-127.
Рафикова Т.Н., Берлина С.В., Кайдалов А.И., Сечко Е.А. Фортификации раннего и развитого средневековья лесостепного и подтаежного Зауралья // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2013. № 4 (23). С. 42-51.
Викторова В.Д. Памятники лесного Зауралья в X-XIII вв. н.э. // Ученые записки Пермского государственного университета. 1968. № 191. С. 240-256.
Матвеева Н.П. Новые средневековые памятники из северной лесостепи Притоболья // Актуальные проблемы древней и средневековой истории Сибири. Томск : Том. гос. ун-т, 1997. С. 245-262.
Матвеева Н.П., Рафикова Т.Н. Новые данные о юдинской культуре (по материалам Криволукского городища) // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2005. Вып. 6. С. 105-116.
Рафикова Т.Н. Бакальская культура лесостепного и подтаежного Тоболо-Ишимья : автореф. дис.. канд. ист. наук. Тюмень, 2011. 19 с.
Маслюженко Д.Н. Этнополитическая история лесостепного Притоболья в средние века. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2008. 168 с.
Парунин А.В. Русские летописи как источник по истории Тюменского ханства // Средневековые тюрко-татарские государства : сб. ст. Казань : Ин-т истории им. Ш. Марджани АН РТ, 2013. Вып. 5: Вопросы источниковедения и историография истории средневековых тюрко-татарских государств. С. 57-64.
Матвеева Н.П., Матвеев А.В., Зах В.А. Археологические путешествия по Тюмени и ее окрестностям. Тюмень : Ин-т проблем освоения Севера СО РАН, 1994. 190 с.
Семенова В.И. Археология и картография города Тюмени (о соотношении русской и местной традиций в городском ландшафте) // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 3 (23). С. 48-51.
Зыков А.П., Косинцев П.А., Трепавлов В.В. Город Сибир - городище Искер (историко-археологическое исследование). М. : Наука, Вост. лит., 2017. 559 с.
Зыков А.П. Археологические исследования городища Искер // Уральский исторический вестник. 2012. № 3 (36). С. 145-153.
Вилков О.Н. Сибирский город конца XVII - первой четверти XVIII века в современной русской советской историографии // Сибирь в прошлом, настоящем и будущем. Новосибирск, 1981. Вып. 1: Сибирь в эпоху феодализма и капитализма. С. 39-42.
Черная М.П. Сибирский город конца XVI - начала XVIII в. в историко-археологическом отражении (историографический аспект) // Вестник Томского государственного университета. История. 2009. № 3 (7). С. 95-112.
Беляев Л.А. Отчет об археологических исследованиях земляного вала г. Тобольска летом 1986 г. // Архив ИА РАН. Р-1. № 111504.
Сладкова Л.Н. Отчет об археологических раскопках в нагорной исторической части г. Тобольска Тюменской области по ул. Октябрьская, произведенных летом 1998 года // Научный архив ТГИАМЗ.
Адамов А.А., Балюнов И.В., Данилов П.Г. Город Тобольск : археологический очерк. Тобольск, 2008. 114 с.
Матвеев А.В., Аношко О.М. Археологические открытия в Тобольске // Наследие Тюменской области. Тюмень : Тюмен. изд. дом, 2011. С. 49-55.
Аношко О.М., Игнатов С.В. Особенности ранней застройки Тобольска по археологическим данным // AB ORIGINE : археологоэтнографический сборник Тюменского государственного университета. Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2014. Вып. 6. С. 78-90.
Матвеев А.В., Аношко О.М., Клименко А.И. Остатки старинных тобольских укреплений на мысу Чукман // AB ORIGINE : археологоэтнографический сборник Тюменского государственного университета. Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2012. Вып. 4. С. 76-91.
Копылов А.Н. Очерки культурной жизни Сибири XVII - начала XIX в. Новосибирск : Наука, 1974. 252 с.
Копылов Д.И., Прибыльский Ю.П. Тобольск. Свердловск : Сред.-Урал. кн. изд.-во, 1975. 224 с.
Кочедамов В.И. Тобольск (как рос и строился город). Тюмень : Кн. изд-во, 1963. 156 с.
Софронов В.Ю. Тобольск - культурный центр Западной Сибири в XVIII в. : автореф. дис.. канд. ист. наук. Омск, 1999. 33 с.
Матвеев А.В., Аношко О.М., Алиева Т.А. Тобольская панагия // Археология, этнография и антропология Евразии. Новосибирск, 2012. № 2 (50). С.104-113.
Данилов П.Г. Археологические исследования на месте Никольской церкви Тобольского кремля // Тобольск научный - 2013 : материалы X Всерос. науч.-практ. конф. Тобольск, 2013. С. 259-260.
Вилков О.Н. Ремесло и торговля Западной Сибири в XVII в. М. : Наука, 1967. 324 с.
Резун Д.Я., Беседина О.Н. Городские ярмарки Сибири XVIII - первой половины XIX в. Новосибирск : Наука, 1992. 154 с.
Вилков О.Н. Очерки социально-экономического развития Сибири конца XVI - начала XVIII в. Новосибирск : Наука, 1990. 316 с.
Бочанова Г.А. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири второй половины XIX в. Новосибирск : Наука, 1978. 393 с.
Копылов Д.И. Обрабатывающая промышленность Западной Сибири в XVIII - первой половине XIX в. Свердловск : Изд-во СГПИ, 1973. 265 с.
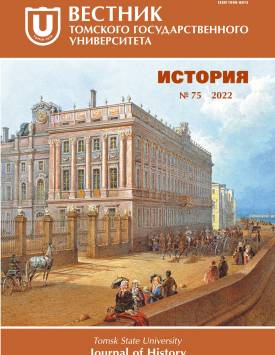

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью