Изложены результаты комплексного историко-археологического исследования топографии и планиграфии Каштакского острога и связанных с ним объектов сереброплавильного промысла конца XVII - начала XVIII в. (северовосточные предгорья Кузнецкого Алатау). Острог располагался на низком мысу вблизи от источника проточной воды и места обнаружения серебряной руды. Составлен общий топографический план всех объектов Каштакского сереброплавильного промысла и подробный план археологических остатков укрепленной части острога с указанием идентифицированных объектов.
Topography and planigraphy of the Kashtak fortress: experience of complex historical and archaeological research.pdf В ходе разведки выявлено наличие хорошо видимых западин от оградительного рва и некоторых сооружений, а также отсутствие значимых повреждений культурного слоя. Уточнена топография укрепленной части острога и некоторых входов в рудные копи, установлены размеры, конфигурация и плани-графия рельефно выделяющихся остатков сооружений, собран подъемный материал на разных участках комплекса. Согласно донесениям боярского сына Семена Лаврова от сентября 1696 г., после прибытия к месту промысла, он «почал ставить острог над речками Большим и Малым Каштатом, на мысу... » [3]. Более точное описание топографии укрепленного Каштакского поселения приведено в дневальной записи берг-мейстера Никифора Клеопина, посетившего место бывшего острога в 1744 г.: «Междо сих обоих Кашта-ков на мысу или стрелке видно бывал городок четве-ростенный» [4]. Анализ геоморфологии и инструментальная топографическая съемка 2017 г. подтвердили, что укрепленная часть острога была приурочена к приустьевому мысовидному участку, образованному первой надпойменной террасой левого берега р. Каштак (Большой Каштак) и правым берегом р. Малый Каштак. Остатки оградительного рва зафиксированы на ровной площадке высотой не более 4 м над урезом воды в р. Каштак, при расстоянии до русла около 25-40 м (рис. 2). Скорее всего, это идентично топографии поселения конца XVII - начала XVIII в. На первый взгляд данный участок явно невыгоден с военно-фортификационной точки зрения. Относительно низкое местоположение острога могло объективно затруднить контроль над местностью. Над местом острога буквально нависает высокая, покрытая густым лесом гора на правом берегу р. Большой Каштак (перепад высот 30-50 м). Противоположенная сторона мыса на левом берегу р. Малый Каштак представляет собой высокий холм (перепад высот до 40 м). Каштакский острог, воздвигнутый в 1697 г. на небольшой одноименной речке в северо-западных предгорьях Кузнецкого Алатау, на рубеже XVII-XVIII вв. имел важнейшее геополитическое значение для России. Острог, поставленный ценой резкого обострения вражды с енисейскими кыргизами, и находящийся под его защитой сереброплавильный комплекс были критически важны для продвижения интересов России на европейском направлении. В 1696 г. здесь было обнаружено одно из первых в России местонахождений серебра, в котором так остро нуждалось русское государство в преддверии грядущих реформ. Вероятнее всего, добыча серебряной руды и выплавка драгоценного металла продолжались до 1699 г., после чего работы на руднике были прекращены. Сам острог, переставший быть базой сереброплавильного промысла, использовался как пограничный форпост несколько дольше. Окончательно он был уничтожен («срыт») по решению русской администрации Томска в период с 1703 по 1706 г., после ухода кыргызов со Среднего Енисея и снятия военной угрозы с юго-восточного направления. Все имеющиеся письменные источники по Каш-такскому острогу собраны и систематизированы в монографическом исследовании [1], ранее опубликован и чертеж острога, приведенный в работе С.У. Ремезова (рис.1) [2]. Имеющихся письменных данных достаточно для подробной (иногда вплоть до отдельного месяца) летописи существования острога и работы рудодобывающего и сереброплавильного промысла. Но при этом лишь приблизительно известны размеры острога и его конфигурация, месторасположение входов в штольни, отсутствует информация о планиграфии жилых, производственных и складских сооружений внутри укрепленной площади. Восполнение этих пробелов возможно при сопоставлении письменных сведений и результатов археологического изучения остатков острога, проведенного в мае 2017 г. сводным отрядом археологов и историков Федерального исследовательского центра угля и углехимии СО РАН, Кемеровского Топография и планиграфия Каштакского острога 183 Рис. 1. Изображение Каштакского острога и рудника из «Хорографической чертежной книги» С.У. Ремезова І4-ЛІ- смешанный березово-сосновый лес I О I - курган ш - кустарники горизонтали с высотными I ф |- единичные березы отметками I»" I- луговая растительность ГШ Каштакскии острог водоем I входы в штольню - дорога ГЖ1 - место подъемных сборов I пті|- поворотные точки керамики Рис. 2. Ситуационный план окрестностей острога и входов в копи (штолен) А.Г. Марочкин, А.С. Сизев, А.Н. Ермолаев, И.А. Плац 184 Особенности местной геоморфологии были прекрасно известны и томской администрации, и Сибирскому приказу еще на стадии подготовки строительства: «А с правую сторону реки Каштака гора высокая, на ней лес же березовый и листвяг, а лесом елани, а с левую сторону реки Каштаку, сверху идучи, от речки Малого Коштаку, гора высокая ж, а по ней лес и елани...» [5]. Остальные остроги региона - Томский, Кузнецкий, Верхотомский - приурочены к господствующим над местностью холмам. Мунгатский и Сосновый остроги, даже располагаясь на равнинных участках, обеспечивали контроль водного пути и близлежащих окрестностей. Тем не менее функциональное назначение вышеперечисленных острогов и Каштакского различно. Оборонительная функция этих укрепленных пунктов направлена на контроль и защиту относительно обширных прилегающих территорий с пашенными крестьянами, в то время как Каштакский острог рассчитан непосредственно на оборону сереброплавильного и рудодобывающего комплекса. В таком случае Каштакский острог не только не теряет в своей оборонительной функции, но, наоборот, полностью ее выполняет, не противореча указу Петра: «...и поставить на том месте, гдерудо-плавныя места явились, в пристойных и крепких местах избы, и огородить тыном, и обвести рвом со всякими крепостьми, чтобы было от незапного прихода им, Александру и работным людем, безопасно» [6]. Кроме того, предпочтение именно этому участку могло быть отдано из-за большой ровной площадки с мягкой почвой, пригодной для быстрого сооружения оградительного рва и углубленных в землю построек. Немаловажно и то, что на территории острога жили более 50 человек и планировалось доведение численности населения до 250 человек [7]. В таком случае близкий доступ к постоянному источнику проточной воды для питья, хозяйственных и производственных нужд становился ведущим мотивом выбора именно этого места в ближайших окрестностях найденного выхода серебросодержащих руд. По совокупности данных из письменных документов 1697-1744 гг. ранее сделаны выводы том, что острог представлял собой правильный прямоугольник с общей длиной стен по периметру около 80 сажен (172 м), при этом каждая из сторон была длиной до 20 сажен (43 м) [1. С. 22]. Проведенные во время разведки измерения существенно уточняют приведенные характеристики (рис. 3). Выяснилось, что четырехугольный ров без разрывов опоясывал всю площадку, и это соответствует тексту отписки томского воеводы В.А. Ржевского в Москву «... и около всего острогу и башен рвом окопали» [8]. По письменным источникам, ширина и глубина рва достигали 3 аршин (около 2 м) [3]. По современному состоянию глубина рва на разных участках варьирует от 0,6 до 0,7 м, ширина достигает 3,5 м. На относительно крутых участках спуска к пойме р. Каштак и Малый Каштак остатки рва наименее выражены, но все же хорошо прослеживаются. Углы рва ориентированы по сторонам света, т.е. двумя сторонами острог имел ориентацию по оси югозапад-северо-восток (вдоль линии мыса), а другими двумя - по оси юго-восток-северо-запад (перпендикулярно мысу). Линия рва, соединяющая противоположные углы острога, с каждой из сторон немного вогнута внутрь, поэтому углы площадки незначительно выдаются вперед. Это обстоятельство может быть связано с фортификационной спецификой русских крепостей Нового времени, когда башни зачастую выступали за пределы стен [9], что позволяло их защитникам лучше контролировать участки обороны, вплотную прилегающие ко рву и ограде. В Верхнем Приобье подобный прием археологически зафиксирован на Умревинском остроге [10]. Вала как такового нет, его остатки слабо читаются с внутренней стороны рва. Уже отмечалось, что начиная с XVIII в. вал на сибирских острогах превращается в бруствер перед стенами [11]. На применение именно этой практики указывает как отсутствие каких-либо упоминаний о вале в документах периода существования острога, так и данные из дневниковых записей Н. Клео-пина, сделанных при осмотре руин Каштакского острога в 1744 г.: «Из оного внутрь городка наметано земли, коя обросла, подобно валу, дерном» [4]. Измерения велись по контуру бруствера, что позволяет соотнести полученные данные с размерами стен. Длина северо-восточной стороны составила 49,4 м, юго-восточной - 46,5 м, юго-западной - 47,9 м, северо-западной - 51,3 м. Следовательно, площадь укрепленного участка около 2 400 м2, с общей протяженностью стен по периметру в 195,1 м. Разница с указанной в письменных документах длиной стен составила более 23 м. Теоретически ее можно объяснить неточностью обмеров после строительства, но это маловероятно. В росписи Каштакского острога С. Лаврова есть фрагмент: «Да он же Семен доставливал острогу двенадцать саженей печатных...» [12]. Этот участок текста может быть свидетельством расширения площади острога. Печатная сажень - одно из названий официальной трехаршинной сажени (216 см) [13]. В таком случае доставленные 12 саженей печатных оставляют 25,9 м, что близко к этой самой разнице. Согласно все той же росписи, в остроге были построены «на четырех углах четыре избы; а на трех избах были построены три башни, а на четвертой избе построена греку Александру Левандинову с товарыщи белая горенка. А перед тою горенкой построены сени и покрыты драньем... Да в том же остроге построена для всяких государевых припасов анбар мерою до восьми аршин, да две кузницы, мерою кузница до восьми аршин. Да в остроге же построено для служивых и работных людей четыре юрты земляных, да за острогом построена баня подле речки Каштак» [12]. То есть, по письменным данным, острог вмещал несколько строений с типичным для русских крепостей функционалом. Доподлинно известно и то, что как минимум некоторые из этих сооружений были углублены в землю («земляные юрты») и, следовательно, могут быть видны на современной поверхности. Но планиграфию этих построек, за исключением привязки «изб» и «белой горенки» к углам, письменные источники не раскрывают. Не проясняет ее и рисунок из «Хорографической чертежной книги Сибири» [2]. 185 Топография и планиграфия Каштакского острога Рис. 3. Топографический план Каштакского острога Во время инструментальной топографической съемки на внутренней площадке острога зафиксировано семь западин от углубленных в землю строений и сооружений (№ 1-7). Еще три западины (№ 8-10) находятся за пределами огороженной рвом площадки. Съемка проведена в мае, при очень низкой траве, поэтому можно говорить о фиксации всех объектов, сколько-нибудь различимых на поверхности (см. рис. 3). Западины № 1-4 округлой формы, диаметром около 6 м и глубиной до 0,3 м. Все они расположены несимметрично, у разных стен острога, во всех случаях на расстоянии 8-10 м от центральной линии рва. Эти западины в рамках рабочей гипотезы можно идентифицировать как остатки земляных юрт «для служивых и работных людей». Скорее всего, этим понятием обозначались крытые дерном полуземлянки наподобие остяцкого мыг-кат [14]. Площадь западин достигает 30-35 м2, следовательно, площадь самих полуземлянок составляла в среднем около 40 м2, что достаточно для размещения (пусть и не очень комфортного) 1015 человек в каждой из них. Западина № 5 расположена по центру юго-восточной стены, на расстоянии до 5 м от центральной линии рва. Эта западина наиболее выразительна, в том числе за счет обваловки из вынутого грунта. Даже сейчас хорошо читается подпрямоугольная форма западины с коридорным выходом в сторону юго-восточной стены. Глубина западины от верхней точки достигает 1,7 м, А.Г. Марочкин, А.С. Сизев, А.Н. Ермолаев, И.А. Плац 186 длина по оси ЮЗ-СВ - 6,4 м, ширина по оси СЗ-ЮВ -4,6 м. Длина коридора по оси СЗ-ЮВ составляет 3,9 м, ширина по оси ЮЗ-СВ до 1,5 м. Этот объект надежно идентифицируется как «казенный анбар» хранения стратегических припасов и оружия: «Да в казенном анбаре сорок три мушкета, три лагуна да бочка пушечного и ручного пороху без весу, полпяты свинки свинца без весу ж». В пользу этого говорит фундаментальность строения, что видно даже по сохранившимся его остаткам. Судя по всему, это был полностью углубленный в землю бункер с мощным перекрытием из вынутого грунта. Размеры анбара, по письменным источникам, соотносимы с размерами зафиксированной западины (до 8 аршин = 5,69 м). Похожий объект известен на территории Саянского острога и обозначен С.Г. Скобелевым и А.В. Шаповаловым как пороховой погреб [15]. Западина № 6 находится в восточном углу острога. Она подпрямоугольной формы, длиной по оси СЗ-ЮВ до 3,5 м, шириной по оси ЮЗ-СВ 2,2 м, глубиной до 0,4 м. Надежной идентификации не имеет, можно сделать предположение, что эта западина была подпольным помещением восточной угловой башни. Следует отметить, что на месте трех других угловых башен никаких следов нет, что может быть объяснено постановкой башенных срубов непосредственно на грунт. Западина № 7 расположена в северном углу острога в округлой насыпи диаметром до 6 м. Западина Г -образной формы длиной по оси З-В - 4 м, шириной по оси С-Ю - 2,6 м, глубиной до 0,4 м. На площади объекта обнаружены куски горной породы, фрагменты глиняных кирпичей. Этот объект, скорее всего, связан не с жилым строением, а с остатками сереброплавильного горна. Находки кусков породы на удивление четко, учитывая прошедшее время, совпадают с наблюдениями Никифора Клеопина в 1744 г.: «В одном углу внутрь городка смотрено печище, при котором меж-до кирпичных обломков сыскан сок, каков при плавке руд бывает» [4]. В уже упомянутой росписи Семеном Лавровым указано на то, что из «белой горенки» через сени есть ход к часовне на проезжих воротах: «А перед тою горенкою построены сени и покрыты драньем. К часовне и в часовню двери из ево, Александровых сеней» [12]. На рисунке Каштакского острога из «Хорографической чертежной книги» С.У. Ремезова северный угол представляется наиболее близким к схематично обозначенным проезжим воротам с часовней. Западины № 8-10, расположенные за пределами рва, идентифицировать по письменным источникам без проведения земляных работ не представляется возможным. Западина № 8 расположена с внешней стороны рва, на расстоянии около 8 м от северо-западной стены. Форма этой западины близка к прямоугольной, с длиной сторон до 4 м и глубиной до 0,35 м. Надежной идентификации не имеет. Западина № 9 расположена с внешней стороны северного угла, на расстоянии 8-10 м рва. Этот объект глубиной до 0,5 м имеет подпрямоугольную со скругленными углами форму, с длиной по оси ЮЗ-СВ до 7,8 м и шириной по оси СЗ-ЮВ до 4,6 м. Надежной идентификации не имеет. Западина № 10 расположена в 10 м к северо-востоку от северного угла острога, на береговом склоне р. Каштак. Диаметр этой округлой западины достигает 4,2 м при глубине относительно современной поверхности до 0,4 м. Одна из нерешенных проблем изучения Каштак-ского сереброплавильного промысла заключается в определении точного месторасположения входов в рудные штольни. Во многих документах периода существования промысла имеется разрозненная информация, по большей части касающаяся глубины и протяженности самих горных выработок. Подробная информация о местоположении входов в копи представлена хуже. Из рисунка Каштакского острога, сделанного греческими мастерами (см. рис.1), следует, что все копи и входы в них располагались на склоне мысовидного участка с левой стороны устья р. Малый Каштак, входы в штольни можно надежно идентифицировать на рисунке острога и окрестностей по соответствующим подписям [2]. В отписке А. Левандиана от марта 1698 г. говорится о том, что первая штольня была заложена непосредственно на берегу, неподалеку от острога: «И где прежде сего явилась руда, в краю речки Каштаку, и та жила пошла в болото. И мы зачали работать на оном месте на старом, где нам указали, для того, что блиско острога» [16]. В конце того же документа он пишет о переносе копей выше по склону: «И я ныне выкопал наверху иную яму, в глубину шести сажен трехаршинных» [Там же]. В мае того же года Семен Лавров указывает: «А ныне, государь, грек Александр Левандианов со товарыщи почали промышлять руду вновь серебряную руду вниз по речке Каштаку, в горе, мерою от острога пятьсот саженей печатных. ... А у прежней подкопной ямы, где простроены насосы и льют воду безпрестанно, днем и ночью. А у другой подкопной ямы в горе, против отрогу... » [17]. Воевода В.А. Ржевский, опять же в мае 1698 г., отписывает царю Петру I о наличии четырех копей: «А он, Александр, в новопостроенном остроге работает у серебряного рудоплавного дела на четыре подкопа...» [7]. Указание на существование четырех копей или просто на их множественное число имеется и в других документах этого периода, но точных указаний нет. Немногим более информативны дневниковые (дневальные) записи все того же Н. Клеопина от 1744 г. Им отмечено, что «... оные видны по течению Большаго Каштака, на правой стороне, повыше немного городка. Разстоянием от речки сажен тритцать, снизу немалой горы... По течению Малого Каштака, на левой стороне, повыше немного городка, близ речки, видна она бывшая копь» [4]. То есть по имеющимся письменным данным достоверно известно что горных выработок было несколько, располагались они, скорее всего, на разных берегах р. Большой Каштак и уже через несколько десятилетий почти полностью разрушились - «оныя все засорились и оплыли» [Там же]. Косвенно наличие копей на правом берегу р. Большой Каштак подтверждает Топография и планиграфия Каштакского острога 187 наличие моста, обозначение которого имеется на греческом чертеже (см. рис. 1). В ходе сплошной разведки осмотрены прибрежные участки правого и левого берегов р. Каштак на расстоянии до 1,5 км вверх и вниз по течению от остатков острога. Ширина осмотренных участков достигала 400-500 м. К сожалению, остатки правобережных копей не найдены. Но в окрестностях острога, на левом берегу р. Малый Каштак, обнаружено три оплывших западины (см. рис. 2). Есть все основания считать их остатками первых штолен 1697-1698 гг. Штольня № 1 имеет вид овальной западины длиной 4,9 м (запад-восток), шириной 3,9 м (север-юг) и глубиной до 1,1 м. Расположена в скалистом выходе склона левого берега р. Малый Каштак в 300 м к югозападу от устья, на высоте около 20 м от уровня воды в р. Большой Каштак и около 6 м от уровня воды в р. Малый Каштак. Скорее всего, она связана с попытками 1698 г. увести выработки вверх по склону для избавления от грунтовых вод. Штольню № 1 можно соотнести со входом в рудник на левом берегу р. Малый Каштак, обозначенном подписью «от устья подкоп до жилы 6 саженей». Штольня № 2 - круглая западина диаметром до 6,2 м при глубине до 1,7 м. Расположена на пологом склоне в 150 м к северо-западу от устья, на высоте около 10 м от уровня воды в р. Большой Каштак. Как и штольня № 1, может быть связана с поздними работами 1698 г. Штольня № 2 соотносится со входом на правом берегу р. Каштак у кромки воды, на рисунке подписана: «в глубину 6 саженей от порогу». Штольня № 3 - круглая западина диаметром до 6 м при глубине до 1,7 м. Расположена на предпойменном участке левого берега р. Большой Каштак в 150 м к северо-западу от устья р. Малый Каштак, на высоте около 3 м от уровня воды в р. Большой Каштак. По всей видимости, это и есть остатки первоначального «подкопа», который пришлось оставить «для того, что та жила пошла в глубину ниже реки и около самой жилы пришли водные ключи великия» [7]. Штольня № 3 , вероятнее всего, является входом на правом берегу р. Каштак с подписями «ямы в 6 саженей» и «руда». В осыпи левого берега р. Малый Каштак, в 168 м к западу от устья (т.е. между штольнями № 1 и № 3), обнаружено два фрагмента от лепных и доработанных на ручном гончарном круге сосудов со следами горизонтальных однонаправленных параллельных заглаживаний на внутренней стороне. По своей морфологии такая керамика близка русской посуде Притомья XVIII в. и может иметь прямое отношение к исследуемому промыслу. Суммируя изложенные результаты комплексного историко-археологического исследования Каштакского сереброплавильного промысла, выделим три позиции. Во-первых, установлены точное местоположение острога и его топографическая специфика - расположение в низине, на единственном в окрестностях удобном мысу с ровной площадкой, в непосредственной близости от неограниченного источника проточной воды и вблизи от места первоначального обнаружения серебряной руды. Обращение к письменным источникам свидетельствует о заблаговременном выборе места под острог со всем знанием местной топографии для оптимального выполнения основной задачи по организации сереброплавильного промысла. Подтверждена топографическая достоверность имеющегося рисунка Каштакского острога из «Хорографической чертежной книги». Во-вторых, выявлены точные размеры укрепленной площадки острога, идентифицированы некоторые известные по письменным данным строения и установлена их планиграфия. Выявленная ориентация острога (углами по сторонам света) удостоверяет точность в этом отношении схематического рисунка из «Хорографической чертежной книги». Вместе с тем метрические измерения археологических остатков острога меняют представление о его размерах сторону увеличения и позволяют по-новому подойти к интерпретации некоторых документов (сведения С. Лаврова о «доставлении» острога). Более или менее точная идентификация ряда построек внутри острога (анбар, греческий угол, земляные юрты) обозначила закономерность их расположения вдоль стен острога, с оставлением центрального пространства свободным от углубленных в землю строений. Вероятно, именно здесь располагались две кузницы и другие хозяйственные строения, бывшие полностью наземными. В-третьих, относительно надежно зафиксированы остатки только тех рудных копей, что располагались вблизи острога через р. Малый Каштак, но на том же левом берегу р. Большой Каштак. Их зафиксированное расположение не противоречит письменным данным и уточняет их в плане точных расстояний. Местонахождение единственной вынесенной в форпост копи на противоположенном правом берегу р. Большой Каштак остается неизвестным.
Добжанский В.Н., Ермолаев А.Н. Каштакский сереброплавильный промысел: сборник документов и материалов. Кемерово : Тип. ИНТ, 2016. 192 с.
Добжанский В.Н., Ермолаев А.Н. Рисунок Каштакского острога и рудника из «Хорографической чертежной книги» С.У. Ремезова // Вест ник Кемеровского государственного университета. 2014. № 3 (59). Т. 2. С. 170-175.
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 199. Оп. 2. Д. 393/3. Л. 36 об.-40 об.
РГАДА. Ф. 271. Оп. 1. Кн. 854. № 52. Л. 510-511 об.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 478. Ч. 3. № 41. Л. 1-4 об.
Полное Собрание Законов Российской Империи. Собрание 1-е. СПб. : Тип. II Отд. С.Е.И.В.К., 1830. Т. 3. № 1561. С. 268-270.
Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук (СПбФ АРАН). Ф. 21. Оп. 4. Д. 12. № 136. Л. 261-262.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 393/3. Л. 48-52.
Черная М.П. Томский кремль середины XVII - XVIII вв. Проблемы реконструкции и исторической интерпретации. Томск : : Изд-во Том. ун-та, 2002. 198 с.
Горохов С.В., Бородовский А.П. Юго-западная угловая башня Умревинского острога // Культура русских в археологических исследованиях. Омск : Наука, 2017. С. 324-329.
Бородовский А.П., Бородовская Е.Л. Русские остроги XVIII в. на территории Новосибирской области : учеб. пособие. Новосибирск : Науч.-произв. центр по сохранению историко-культурного наследия, 2003. 42 с.
РГАДА. Ф. 199. Оп. 2. Д. 478. Ч. 3. № 1.
Романова Г.Я. Объяснительный словарь старинных русских мер. М. : Ун-т Дмитрия Пожарского, 2017. 304 с.
Шатилов М.Б. Ваховские остяки : (этнографические очерки). Томск : Изд. Том. краевого музея, 1931. 185 с. (Труды Томского краевого музея; т. 4).
Скобелев С.Г. Пороховой погреб Саянского острога XVIII века // Вестник Новосибирского государственного университета. 2012. Сер. История. Филология. 2012. Т. 11, вып. 3. С. 273-279.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 12. № 137. Л. 262- 63 об.
СПбФ АРАН. Ф. 21. Оп. 4. Д. 18. № 309. Л. 518 об.-520.
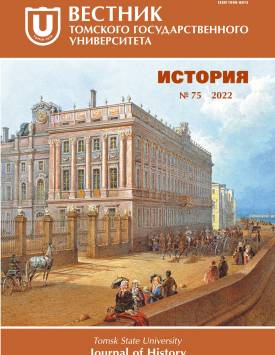

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью