Интерес к гендерной проблематике в современном мире стимулирует изучение ретроспективы женского жизненного опыта через деконструкцию имеющихся эго-документов. В статье рассматривается обретение идентичности юной Роксандрой Стурдзой, наследницей влиятельных родов господарей Молдавии и Валахии. Раскрываются факторы становления ее личности, модели поведения и способы действия в условиях эмиграции семьи в Российскую империю на фоне геополитических трансформаций конца XVIII - начала XIX в.
«I owe everything to myself only»: Roxandra Sturdza - acquisition of identity in the era of transformations of the late .pdf Имя Роксандры Стурдзы у современного читателя, даже любителя исторической литературы, вряд ли вызывает определенные ассоциации в памяти. Но более двух веков, что отделяют нас от событийной канвы ее «истории жизни», открывают новые возможности как изучения субъективных параметров женского опыта, так и переосмысления исторического процесса во всей его противоречивости и неоднозначности. Реконструкция жизненного мира Роксандры Стурдзы (1786-1844) позволяет ухватить индивидуальное, человеческое измерение ключевых событий российской и европейской истории конца XVIII - начала XIX в., что были составляющими ее «рисунка жизни». Она - непосредственный свидетель правления Александра І в Российской империи, работы Венского конгресса европейских государств 1814-1815 гг., более того - идейная вдохновительница «Акта о Священном союзе», который обязывал монархов защищать христианские ценности. В историографии имя Роксандры Стурдзы эпизодически упоминается в контексте изучения персоналий, с которыми наша героиня тесно общалась, или событий, где ее сопричастность общеизвестна. Наиболее основательной работой в персональном аспекте до сих пор является исследование переписки Роксандры с французским религиозным философом Жозефом де Местром и французским литературоведом Ш. де Сент-Бёвом, опубликованное А. Марковичем в 1939 г. в рамках издательского проекта «Литературное наследство» [1]. Публикацию исследователь сопроводил детальным освещением ключевых жизненных этапов героини, он попытался воссоздать ее мыслительный склад, вписать ее индивидуальность в общую духовную атмосферу петербургского высшего света, выявить побудительные мотивы деятельности. В современной научной литературе имя Роксандры Стурдзы всплывает в очерках о жизни императрицы Елизаветы Алексеевны, чьей фрейлиной она служила [2]. Упоминают о Роксандре и в работах, посвященных ее младшему брату Александру Стурдзе, - писателю, государственному деятелю, дипломату [3. С. 5; 4. С. 158; 5. С. 178]. В аспекте событийном фамилия Стурдза (сестра и брат) становится объектом изучения в контексте выявления их ролей в истории создания Священного союза, а также обоснования персональной значимости Роксандры в формировании его идейного пространства [6]. Отметим, что в Украине интерес к семье Стурдза актуализируется в контексте историко-региональных исследований одесских краеведов и журналистов, чье внимание привлекает филантропическая и меценатская деятельность ее представителей в регионе [7]. Гордятся именитой землячкой («девушкой с амбициями») и молдавские коллеги, не преминувшие поместить очерк о Роксандре Стурдза в краеведческий сборник «Бессарабские истории» [8]. Резюмируя вышеизложенное, имеем все основания констатировать отсутствие на сегодняшний день специальных научных исследований, посвященных жизни и деятельности Роксандры Стурдзы. Подготовленная статья открывает цикл исследований ее личности, задача которого - выявить факторы обретения идентичности, формирования «ментального мира» женской личности, модели поведения и способы действия в условиях трансформаций конца XVIII - начала XIX в. Источниковую базу изучения жизнедеятельности Роксандры Стурдзы составляют мемуары («Записки»), написанные ею на французском языке в 1829 г. На время составления «Записок» она уже носила фамилию мужа - графиня Едлинг, под которой они были опубликованы на русском [9] и французском языках [10]. Методический арсенал изучения источников неразрывно связан с подходами, продиктованными постмодерной гуманитаристикой. Исходя из статуса «первоисторич-ности личности», автобиографический анализ, содержащийся в «Записках» Р.С. Едлинг (Стурдзы) приобретает самоценный и в определенной степени самодостаточный характер, а ее «история жизни» превращается в акт смыслоконструирования и придания целостности во многом спонтанному женскому жизненному опыту. Роксандра Стурдза, появившаяся на свет в Константинополе 12 октября 1786 г., по рождению принадлежала к знатнейшей и богатейшей фамилии Османской империи. Ее дед Константин Мурузи (грек по происхождению) был Молдавским господарем (1777-1782) и полиглотом. Влиятельность княжеского рода Мурузи обязывала найти подходящую партию для старшей дочери Султаны Константиновны (17621836) - матери Роксандры. Честолюбивый отец остановил свой выбор на представителе молдавского боярского семейства Стурдза - Скарлате Дмитриевиче (1750- 1816). Таким образом, в семье С.Д. Стурдзы объединились ветви двух влиятельных родов - Стурдза и Мурузи, представители которых были господарями Молдавии и Валахии. Отец нашей героини - Скарлат Дмитриевич Стурдза - получил обязательное для наследственного аристократа блестящее образование: окончил Лейпцигский университет, - и начал служебную карьеру в Османской империи. Но его жизненные обстоятельства оказались непосредственно вовлеченными в событийную канву российско-турецкого противостояния за влияние в Черноморском регионе и на Балканах, Драч О.А. «Всем обязана лишь себе самой»: Роксандра Стурдза - обретение идентичности 7 основой чего на протяжении веков выступал религиозный фактор. Как обмечают исследователи, активизация продвижения российских интересов обусловлена «греческим проектом» Екатерины II, предполагавшим создание новой Греческой империи на Востоке [11. С. 34]. Апеллируя все той же религиозной преемственностью, Россия выступала теперь в качестве естественной избавительницы греков от ига неверных. Это обстоятельство вносило в возникавшие между россиянами и греками отношения новый оттенок, ибо Россия оказывалась не только покровительницей Греции, но и ее наследницей [Там же. С. 36]. В условиях геополитического противостояния двух империй православный С.Д. Стурдза, наследник одного из древнейших родов молдавского боярства, известного поддержкой борьбы христиан за освобождение от турецкого гнета [12. С. 181], оказался в ситуации личного выбора: сохранить верность служебной присяге османскому султану или встать под знамена освободителей малой родины от неверных, т.е. принять сторону России. Он выбрал последнее и во время российско-турецкой войны 1787-1791 гг. был членом дивана Молдавского княжества, который возглавляла российская администрация, подчинявшаяся главнокомандующему. Условия Ясского мирного договора (29 декабря 1791 г.) предусматривали возврат Молдавии и Валахии под турецкое господство. Подтверждались привилегии, предоставленные населению Молдавии и Валахии договором 1774 г. [13. С. 287-288]. Однако, опасаясь преследований со стороны турецких властей, значительное число жителей покинули Молдавское княжество, большинство из них переселились за Днестр. Логично предположить, что подписание Ясского мира усложнило положение Скарлата Дмитриевича при султанском дворе, и потому биографы Стурдза считают политическую подоплеку основанием решения семьи эмигрировать в Россию. Не довольствуясь традиционными объяснениями, осмеливаемся предположить, что сменить подданство и покинуть родину (Молдавское княжество) семью Стурдза-Мурузи вынудило что-то более значимое. До конца прояснить ситуацию помогают эго-документы, где дочь отмечает: «Мне было пять лет, когда родители мои решились покинуть страну свою и поселиться в России» [9. С. 194]. Анализ материалов «Записок» приоткрывает завесу семейных распрей между матерью Султаной Константиновной и ее старшим братом Александром Константиновичем Мурузи (1750-1816), спровоцированных смертью их отца. Несомненно, дочь была хорошо информирована о семейном конфликте, и ее взгляд на ситуацию изнутри восполняет лакуны официальных биографов. Предполагаем, что предметом раздоров между родными братом и сестрой Мурузи стало богатое отцовское наследство. Именно фамильные раздоры, по мнению дочери, склонили семью С.Д. Стурдзы принять приглашение российской стороны. Через сорок лет после этого судьбоносного решения родителей Роксандра Скарлатовна откровенно отметила, что в дальнейшем они нередко сожалели об этом [Там же]. Жизнь в новой северной стране, как свидетельствует семейная история, была нелегкой. Управлять молдавскими имениями из Санкт-Петербурга, где отныне проживала семья Стурдза, было невозможно, а длительные поездки через всю страну изматывали Скар-лата Дмитриевича. Кроме того, обнаружились и довольно меркантильные причины - расстройство огромного состояния, оставленного в управление чужим людям. Проживать в Санкт-Петербурге большой семьей, где подрастало пятеро детей, было довольно накладно. Выходом стало переселение в провинцию. Дочь отмечает, что отец купил в Могилевской губернии имение (Устье) - «убежище для молдавских эмигрантов» [Там же. С. 195]. Бремя повседневных хлопот об устройстве имения, воспитании и образовании детей на новом месте с достоинством несла мать нашей героини. Целеустремленная и настойчивая дочь молдавского господаря преобразовывала жизненное пространство семьи в соответствии со статусными установками, немалое влияние на которые, несомненно, оказывала ностальгия по родным южным местам. Очень скоро белорусское имение Стурдзы могло похвалиться прекрасными садами, палисадниками и невиданными в северном климате растениями [Там же]. Приоритетом женской миссии традиционного общества, конечно же, была роль матери, функционально несущей ответственность за здоровье, уход, воспитание и подготовку детей к будущей жизни. Султане Константиновне необходимо было взрастить наследников в вере предков, светских понятиях и принципах, неотъемлемой составляющей чего было хорошее образование. Появившаяся на свет в православной семье поданных Османской империи, Роксандра принадлежала к родовой аристократии (молдавское боярство). Няня-гречанка знакомила девочку с бытовой культурой, основанной на общечеловеческих и этнических ценностях, неотъемлемой составляющей которой было и «наслоение» религиозной аксиологии. Именно этой «на редкость верующей женщине», опекавшей Рок-сандру и ее младшего брата Александра, приписывают значительное влияние на формирование их религиозного мировоззрения [12. С. 181]. Уважение к религии внушал детям с ранних лет также «истинно благочестивый христианин отец» [9. С. 195]. Немаловажным аспектом становления личности ребенка было формирование гендерной идентичности, что предполагало четкие воспитательные установки для каждого пола. Без сомнения, дочь растили в соответствии с традициями семейного окружения Стурдза-Мурузи, но уже с поправкой на новое подданство родителей (Российская империя). Семья всерьез занималась воспитанием детей, не просто повторяя опыт своих родителей, а внося новое, требуемое временем. Это создавало благоприятные возможности для диалога педагогических традиций и культур. Таким образом, в процессе целенаправленного обучения ценностям культуры в домашней обстановке маленькая Рок-сандра испытывала влияние взаимоотношения идентичностей [14. С. 214]. Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 8 Эпоха «просвещенного» XVIII в. выдвинула и новые социальные задачи, где образцом был европейски образованный человек, предъявив при этом серьезные требования к формированию личности не только мальчиков, но и девочек. Образцом женского стиля бытового поведения в исследуемый нами период была «образованная женщина - особа, владевшая одним-двумя иностранными языками, умеющая прекрасно излагать свои мысли и в разговоре, и на бумаге; она следит за новинками литературы и искусства, занимается самообразованием. Такая женщина умеет поддержать разговор на любую тему; она играет на музыкальных инструментах, танцует; всегда модно и уместно одета; ее манеры безупречны» [15. С. 214]. Соответственно, дворянских дочерей обучали «наукам и искусствам», которые помогали реализовать господствовавший идеал. Отметим, что в глухой белорусской провинции начала XIX в. семья Стурдза имела наставников для домашнего обучения детей. Способствовал этому иноземный опыт проживания, поскольку, как отмечают исследователи, учителей и гувернанток в дворянские семьи Российской империи выписывали из-за границы [14. С. 99]. Усадьба Стурдзы напоминала академию: в ней постоянно жили несколько преподавателей, среди которых своей образованностью выделялся Jean Joseph Dopagne, прибывший вместе с ними из Турции. Именно учителя, по воспоминаниям Роксандры, скрашивали долгие зимние вечера в родительском доме [9. С. 195]. Результатом немалых педагогических усилий стала основательная образованность детей, включая девочек, свободно владевших французским, новогреческим и молдавским языками, сведущих в истории, философии и риторике. В последующем этот «образовательный капитал» Роксандры станет ключевым фактором ее социальной реализации. Не менее важной составляющей был воспитательный потенциал наследников, включавший знание норм этикета, утонченных форм поведения, внешнего изящества. Повседневная жизнь дворян подчинялась правилам приличия (распорядок дня, одежда, еда, «убранство интерьера», прием гостей, застолье), и эти многочисленные правила усваивали с ранних лет, в процессе социализации под руководством опытных наставников [16. С. 4]. Главным достоинством светского человека было умение соблюдать нормы этикета легко и естественно, с чем Роксандра в дальнейшем отменно справлялась и в петербургских гостиных, и в качестве хозяйки в родительском доме. Кроме того, девушкам внушались христианские идеи любви и всепрощения, верности старинным устоям, благочестия, идеалы жертвенности и служения. Но, как отметила Роксандра в мемуарах, «чтение многих философских сочинений потрясло в нас веру» [9. С. 195]. По сути, ребяческую набожность сменило молодое вольнодумство. К тому же воспитание на примерах античных героев сформировало у юной Роксандры не только обязательный спектр добродетелей. Рассказы педагогов посеяли и зерно честолюбия в благодатной душе наследницы молдавских господарей, которое со временем прорастет. Взросление детей определило очередной этап в жизни семьи Стурдза, целью которого было совершенствование их образования и знакомство со светской жизнью столичной знати. В 1801 г. Роксандра с родными покидает провинциальную усадьбу в Могилевской губернии и переселяется в Санкт-Петербург. Судьбоносность этого события в мемуарах она связывает с «дней Александровых началом». Долгое затворничество семейства Стурдза в провинции не способствовало сохранению прежних связей в Санкт-Петербурге, а потому многообещающие контакты надо было создавать заново. Однако это происходило плохо, со значительными усилиями и скромными итогами, среди служебных обид и семейных несчастий [1. С. 380]. Роксандра начала осваивать светскую жизнь столицы в скромном кружке («кружок греческих патриотов») [17. С. 593]. Провинциалка откровенно скучала в непривычной обстановке, но безропотно исполняла условности салонной среды. Отсутствие привычной девичьей восторженности и просто внутренней удовлетворенности от двухлетнего петербургского однообразия наша героиня выказывает в «Записках», отмечая собственный энтузиазм от кратковременного возвращения семьи в белорусское имение [9. С. 197]. Но радость длилась недолго. Смерть сестры вследствие внезапной и скоротечной болезни стала тяжелой утратой для семьи, и особенно для Роксандры, которая лишилась друга детства. Очень скоро семью постигнет еще одно испытание - смерть старшего сына. Чтобы отвлечь дочь от тяжелого уныния, родители выхлопотали ей место фрейлины при дворе, что обязывало Роксандру вернуться к светской жизни (осень 1805 - первая половина 1806 г.). Постигшие семью испытания определенно стали фактором взросления девушки и переосмысления ничем не примечательного предыдущего опыта светской коммуникации. Отныне она - старший ребенок в семье; на нее возлагали надежды, и это ко многому обязывало. В свою очередь, со стороны родителей дополнительным фактором усиленных забот о Роксандре было желание «пристроить дочь», внешне непримечательную и без богатого приданного. Так как основой социальной жизни женщины являлось замужество, то семейное сообщество прилагало к этому значительные усилия. Те, кто не был замужем, в большинстве жили хуже, к ним относились с жалостью или даже подозрением [18. С. 84]. И в этом контексте служба фрейлиной при дворе расширяла для 19-летней Роксандры возможности устройства ее дальнейшей судьбы. Начав службу на положении фрейлины без специального назначения («их императорских величеств»), «не имея ни покровительства, ни богатства, ни замечательной наружности», Роксандра осознала, что ей уготована более чем скромная роль [9. С. 198]. Но наделенная природным интеллектом, воспитанная в духе классических греко-византийских образовательных традиций, она выказала врожденную сметливость. Приоритетом личных усилий девушки было возобновление благополучия семьи Стурдза, где на подходе вступления в столичное общество были еще младшие Драч О.А. «Всем обязана лишь себе самой»: Роксандра Стурдза - обретение идентичности 9 дети - брат Александр и сестра Елена. Основами ее поведенческой линии и коммуникации в светском обществе были откровенность, благожелательность и простота поведения. Без показного выпячивания Стурдза пыталась снискать уважение и дружбу нужных людей метким словом, движением, взглядом, предоставляя возможность сторонним оценивать ее [9. С. 199]. Апробацию избранной жизненной тактики она начала в двух местах: в окружении вдовствующей императрицы и в доме морского министра П.В. Чичагова. При дворе Марии Федоровны она сосредоточила внимание на старой графине Ш.К. Ливен, воспитательнице великих княжон. Потраченные усилия были вознаграждены: она была замечена и допущена к частому общению с княжнами. Благоприятные отзывы влиятельной графини Ливен о новой подопечной в обществе императрицы-матери обеспечили Роксандре расположение последней. Более того, вскоре Стурдзе стало известно, что она уже накануне фрейлинства у «вдовствующей» [1. С. 380]. Подчеркнем, что именно графиня Ливен была центром всех интриг при Александре I; и от нее зависела дальнейшая судьба служащих людей [19. С. 192]. Вторым центром обретения Роксандрой знакомств стал дом морского министра Чичагова, чему способствовало давнишнее (на правах соседей по белорусскому имению) знакомство с хозяином. При этом быть вхожим в дом адмирала непросто, его характеризуют «как, быть может, самый закрытый во всем Санкт-Петербурге» [20. С. 58]. На приемах, устраиваемых министром Чичаговым, бывало много иностранцев, и судьба свела Стурдзу с влиятельными личностями эпохи, среди которых ревностный католик, идеолог политического консерватизма Жозеф де Местр и его брат, посол Наполеона в России, маркиз Арман де Коленкур. Плеяда замечательных личностей среди знакомых Роксандры дополнилась и ее соплеменниками. В родительском доме она сблизилась с князем Ипсиланти, сыном Валашского господаря, их родственником, который нашел прибежище в России. Но наиболее примечательным в своей жизни через призму десятилетий Роксандра Стурдза считает знакомство с графом И.А. Каподистрия, греческим патриотом, посвятившим жизнь идее освобождению родины и перешедшим на дипломатическую службу к Александру I после Тильзитского мира (1807). Общую атмосферу столичного высшего света начала XIX в. влиятельная современница характеризовала как «офранцуженное общество, где эмигранты и иезуиты были своими людьми» [21. С. VI]. Роксандра не преминула извлечь из него все, что могло питать ее мечты и помогать ее стремлениям. Особо подчеркнем влияние на наследницу молдавских господарей Жозефа де Местра, который неординарностью положения в петербургском свете, своими идеями и личными особенностями воплощал искомое ею. Основой их сближения стало родственно-общее ощущение жизни. Она, как и он, чувствовала себя «родов униженных обломком» [1. С. 384]. Они оба были изгнанниками, желающими укорениться на новой стране, что так и не стала родиной. Для обоих прошлое - это блестящее положение их семей на родовой земле; настоящее -постоянное осознание своей жизненной второстепенности (полунужда / полудостаток, полуунижение / полупочет) при избытке гордости и сил; будущее -прежде всего восстановление прошлого, борьба за реставрацию, за возвращение того, что было, при помощи того, что есть. Публичными оппонентами мыслителю и апологету католицизма в салоне Чичагова отваживались быть немногие. Но наделенная умом Роксандра осмеливалась. Жозеф де Местр оценил и поддержал такое дарование начинающей собеседницы, что она отметила в своих «Записках»; особая склонность, выказываемая ей Местром, подтверждается его письмами [1. С. 392394; 9. С. 200]. Ее беседы с авторитетным интеллектуалом выстраивались по модели учитель-ученица, подчас она осмысливала предлагаемые опытным метром принципы применительно к своей судьбе - к родовым утратам в прошлом, к двойственному положению в настоящем, к большим притязаниям на будущее. В лице Роксандры, которая выказывала склонность к мистике, великий оратор масонской ложи Жозеф де Местр, казалось, нашел благодатную почву для распространения своих идей. Анализ их переписки дает возможность определить «духовную пищу», рекомендованную ей наставником для прочтения, а именно три капитальных сочинения, посвященных католицизму, мистике и политике: речи проповедника Ж.-Б. Масий-она, труды известного мистика и духовного отца мартинистов Л.-К. де Сен-Мартена, а также собственную работу де Местра «Размышления о Франции» [1. С. 396]. Перечень книг, необходимых для ознакомления Mademoiselle, как именует ее философ в своей корреспонденции, дает основания предположить, что, кроме явного интереса к ее уму, были и скрытые намерения «благодетельного педагога»: сделать из внимательной ученицы последовательницу католической веры. Но неприметная Роксандра, чей генотип вобрал многопоколенный византизм, прекрасно понимала важность сохранения своей наследственной право-славности для нынешнего момента и особенно будущего. В словесных баталиях на религиозную тематику, где со стороны Местра, близкого к иезуитам, главенствовала целевая установка к унии Русской православной церкви с Римом, невозмутимая оппонентка, ясно видя это, не утруждала себя поиском контраргументов. Молдавская княжна сразу дала понять своему метру, что «сознательно предана своей церкви», возведя неприступную стену в этом аспекте их общения [9. С. 200]. Роксандра - желанная собеседница для Местра, поскольку в ее существе имелось то, чего требовала «философская трапеза»: женственность ее манер и облика сочеталась с мужским складом ума и воли. В свою очередь, и для начинающей свои шаги в петербургском свете Р. Стурдзы дружба с влиятельным мыслителем была полезной. «Все знали об удовольствии, которое он находил в разговорах со мною, и это обращало на меня общее внимание», - так через два десятилетия Роксандра воздаст должное своему проводнику в светском восхождении [Там же]. К тому же Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 10 Местру было уже за шестьдесят, а Роксандре только за двадцать. Эта почти сорокалетняя разница в возрасте помогает оценить моральное удовлетворение, какое должна была испытывать Стурдза. В суете светского общения Роксандра всегда помнила о главном: продвижении интересов семьи Стурдза. Политический романтизм сочетался в ней с житейской трезвостью. Роксандра была со «старой партией»; старики представлялись ей надежнее в том аспекте, что покровительство статс-дамы графини Ливен и фрейлины графини В.Н. Головиной скорее и ближе вело к цели. Действительно, таланты и красноречие последней, а также ее близкая дружба с императрицей Елизаветой Алексеевной делали ее салон приятным, а потому Роксандра сочла целесообразным поддерживать контакты с хозяйкой. При этом Стурдза «не дала себя совратить в католичество» проживавшей в доме Головиной эмигрантке принцессе Тарентской, статс-даме казненной королевы Марии-Антуанетты [10. С. 45; 21. С. XVI]. Как отмечает очевидец, «при дворе, где красота всегда предпочиталась уму, в Роксандре Скарлатовне Стурдзе видели только безобразнейшую из фрейлин, и все от нее отдалялись» [22. С. 567]. Но долгожданный «случай» сблизил ее с молодой императрицей Елизаветой Алексеевной. Роксандра дала себя заметить одной из влиятельнейших женщин «молодого двора» - графине В.Н. Головиной, чье содействие обеспечило назначение Р.С. Стурдзы фрейлиной к жене царя Александра І. Впоследствии оказалось, что это было частью продуманного плана «старой партии» постепенного окружения молодой императрицы иными людьми, нежели она сама себе выбрала [1. С. 380]. Впрочем, для Рок-сандры такая комбинация обусловлена в первую очередь семейными обстоятельствами, а именно ее настойчивым желанием «определиться жить во дворце, чтобы не оставлять брата в столице без руководства и присмотра в связи с отъездом родителей в имение» [9. С. 199]. При этом императрице «казалось невероятным, чтобы мать согласилась разлучиться со мною» [Там же. С. 208]. Новая патронесса Роксандры - императрица Елизавета Алексеевна (урожденная принцесса Баденская) -выделялась интеллектуальностью, склонностью к уединению, отстраненностью от политики и жизни двора, бездетностью и неудачной семейной жизнью. Многие современники видели в ней фигуру романтическую, страдающую и исполненную нравственных достоинств [2. С. 188]. Роксандра разделяла бытующее мнение и «почитала ее несчастною, воображала, что она нуждается в женщине-друге, и готова была посвятить себя ей» [9. С. 208]. «Фрейлиной ее величества императрицы», т.е. уже состоящей при Елизавете Алексеевне, Роксандра именуется с 1809 г. [1. С. 394]. Именно эту дату можно считать рубежной в новом периоде жизни фрейлины Стурдзы: «...тогда ее распознали и невольно стали благоговеть перед необыкновенным превосходством ее ума» [22. С. 596]. Но за показным преклонением угодников новоназначенная служащая, воспитанная проницательной матерью, сумела разглядеть простую человеческую зависть [9. С. 209]. Хронология влиятельности (1807-1812) Жозефа де Местра в среде «старой партии» высшего общества Санкт-Петербурга, основывавшаяся на его неофициальной, но общеизвестной роли секретаря Александра І, коррелирует с пятилетием, ставшим для Роксандры решающим в завоевании положения при дворе, сближении с императором. Если графиня Головина сыграла главную роль в том, что Стурдза получила фрей-линство, то, в свою очередь, именно Местр сблизил Роксандру с самой Головиной. Взлелеянный в девичьих мечтах случай представился: с 1809 г. фрейлина императрицы Елизаветы Алексеевны Роксандра Стурдза отмечена современниками в своем возрастающем влиянии.
Маркович А. Жозеф де Местр и Сент-Бев в письмах к Р. Стурдзе-Эдлинг // Литературное наследство. М. : Ин-т мировой лит., 1939. Т. 33. С. 379-456.
Лямина Е., Эдельман О. «Не стану я жалеть о розах»: интеллектуальный гардероб императрицы // Российские императрицы. Мода и стиль. Конец XVIII - начало XX века. М. : Кучково поле, 2013. С. 188-201.
Романюк В.П., Ершов Л.А. Быть, а не казаться: Александр Стурдза и его время. Киев : Автограф, 2004. 295 с.
Лямина Е. Несостоявшийся вкладчик «Современника». О бытовании устных мемуаров в пушкинском кругу // Studia Russica Helsingiensia et Tartuensia X: «Век нынешний и век минувший»: культурная рефлексия прошедшей эпохи : в 2 ч. Тарту : Tartu Ulikooli Kirjastus, 2006. Ч. 1. С. 151-169. URL: http://www.ruthenia.ru/document/541993.html (дата обращения: 13.11.2018).
Минаков А.Ю. А.С. Стурдза: интеллектуальная биография православного мыслителя // Христианское чтение. 2016. № 1. С. 176-194.
Парсамов В.С. «Апокалипсис дипломатии» («Акт о Священном союзе» в интерпретации К.-В. Меттерниха, баронессы Крюденер, Жозефа де Местра и Александра Стурдзы) // Освободительное движение в России. Саратов, 2003. Вып. 20. С. 44-66.
Губарь О. Эдлинг Роксандра Скарлатовна (1786-1844) // Они оставили след в истории Одессы : одесский биографический справочник. URL: http://odessa-memory.mfo/mdex.php?id=454 (дата обращения: 12.11.2018).
Тарнакин В., Соловьева Т. Девушка с амбициями // Тарнакин В., Соловьева Т. Бессарабские истории : историко-краеведческие журналист ские расследования. Киев : Pontos, 2011. С. 151-154.
Еще из записок графини Эделинг, урожденной Стурдзы : с неизданной французской рукописи (писано в 1829 г.) // Русский архив. 1887. Вып. 2. С. 194-228; Вып. 3. С. 289-304; Вып. 4. С. 405-440.
Edling R. Memoires de la comtesse Edling (nee Stourdza) demoiselle d'honneur de Sa Majeste l'imperatrice Elisabeth Alexeevna. Moscou : Impri-merie du S-t Synode, 1888. 284 р. URL: https://archive.org/details/mmoiresdelacomt00edligoog/(acceder: 10.11.2018).
Зорин А. Кормя двуглавого орла.. Русская литература и государственная идеология в последней трети XVIII - первой трети XIX века. М. : Новое лит/ обозрение, 2001. 416 с.
Фурсенко В. Эдлинг, графиня Роксандра Скарлатовна // Русский биографический словарь А.А. Половцова. СПб/ : Тип. Главного упр. уделов, 1912. Т. 24. С. 181-184.
Трактат вечного мира и дружбы, заключенный между Империею Всероссийскою и Оттоманскою Портою в Яссах 29.12.1791 // Полное Собрание Законов Российской империи. СПб., 1830. Т. 33. С. 287-293. URL: http://doc.histrf.ru/18/yasskiy-mirnyy-dogovor/ (дата обращения: 15.11.2018).
Солодянкина О.Ю. Иностранные гувернантки в России (вторая половина XVIII - первая половина XIX века). М. : Academia, 2007. 512 с.
Пономарева В.В., Хорошилова Л.Б. Русское женское образование в XVIII - начале ХХ вв.: приобретения и потери // Мир истории. 2000. № 6. URL: http//www.tellur.ru/~historia/archive/06-00/women.htm) (дата обращения: 15.04.2017).
Лаврентьева Е.В. Повседневная жизнь дворянства пушкинской поры. Этикет. М. : Молодая гвардия, 2007. 166 с.
Степанов М. Жозеф де Местр в России // Литературное наследство. М. : Жур.-газ. объединение, 1937. Т. 29/30: Русская культура и Франция. С. 577-726.
Абрамс Л. Формирование европейской женщины новой эпохи. 1879-1918. М. : Изд. дом Гос. ун-та - Высшей школы экономики, 2011.408 с.
Из дневника П.Г. Дивова // Русская старина. 1900. Вып. 1. С. 187-194.
Де Местр Ж. Петербургские письма. 1803-1817 / сост. Д.В. Соловьева. СПб.: ИНАПРЕСС, 1995. 336 с.
Записки Варвары Николаевны Головиной (1766-1819) / под ред. Е.С. Шумигорского. СПб. : Тип. Суворина, 1900. Разд. паг.
Вигель Ф.Ф. Записки : в 2 кн. М. : Захаров, 2003. Кн. 1. 608 с.
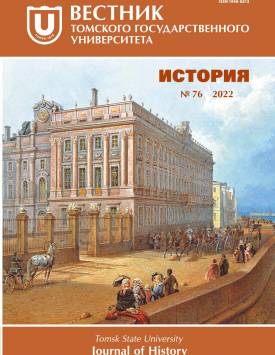

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью