На основе архивных документов и материалов рассматриваются и анализируются смысловые составляющие реагирования военнослужащих ОКДВА - выходцев из сельской местности - на проводимые властными структурами СССР процессы коллективизации сельского хозяйства и раскулачивания. Отмечается, что реакция военнослужащих была неоднозначной и зависела от различных политико-идеологических и социальноэкономических аспектов жизни, региона проживания и принадлежности к определенному социальному слою.
The reaction of the military personnel of the Special Red Banner Far Eastern Army (SRBFEA) and their relatives to collec.pdf Армейская среда всегда является прямым отражением процессов, происходящих в стране. Приходя на военную службу, призывник приносит определенную информацию из своей социальной среды бытования. Взгляды, мысли, настроения и чувства, вносимые призывником, имеют значительное влияние на атмосферу общих настроений военнослужащих. В период кардинальных социально-экономических и политических трансформаций в стране настроения армейской среды в немалой степени формируются за счет информации, получаемой из писем от родных, близких и друзей, которая характеризуется высокой степенью эмоциональности и радикализма. Исследования реакции военнослужащих и их родных на процессы коллективизации и раскулачивания в СССР в начале 1930-х гг. появились в историографии лишь в последнее двадцатилетие. В советский период необходимость в подобных исследованиях отсутствовала, так как общепринятым было представление, что создание коллективных хозяйств и борьба с кулачеством, проводимые под руководством партии и правительства, поддерживались всем советским народом, а частичные критические суждения исходили от классово враждебных элементов. В постсоветский период в связи с открытием архивных фондов, а также с активизацией междисциплинарного подхода в исторической науке началось исследование реагирования населения страны, включая военнослужащих, на события в Советском Союзе и за рубежом. Как правило, основной упор делался на выявлении и анализе реагирования на значимые политические, военные, экономические, социальные и других события 1930-х гг. как в стране в целом [1-6], так и в отдельных регионах [7-12]. Значительную помощь в этом оказали опубликованные сборники документов и материалов советского партийно-политического руководства, а также специальных служб, в которых нашло отражение отношение населения различных регионов страны к мероприятиям в области сельского хозяйства [13, 14]. Реагирование военнослужащих РККА - выходцев из села - и их родных на проведение коллективизации и раскулачивания в исследованиях получило лишь фрагментарное отражение [15]. Первым и, пожалуй, единственным на данный момент полноценным исследованием, затрагивающим реагирование военнослужащих РККА на коллективизацию и связанные с ней процессы, является монография Н.С. Тархо-вой [16]. Однако анализ реагирования на процесс коллективизации и раскулачивания военнослужащих, проходящих службу на Дальнем Востоке СССР в начале 1930-х гг., и их родных, проживавших в сельской местности, до сих пор не получил должного внимания со стороны исследователей [17, 18]. Исходя из этого, целью данной работы является анализ архивных материалов, посвященных реагированию военнослужащих ОКДВА и их родных, жителей сельской местности регионов СССР, на процесс коллективизации и раскулачивания в начале 1930-х гг. Армия в СССР, начиная с 1925 г., формировалась за счет призыва гражданского населения на основе квот Генерального штаба по родам войск и службам. Призывались на службу из всех слоев населения, кроме представителей так называемых «эксплуататорских классов» - детей купцов, промышленников, священнослужителей, дворян, казаков, кулаков, участников белого движения и др. Классовый принцип призыва был отменен только в 1939 г. Как правило, основой РабочеКрестьянской Красной Армии становились выходцы из семей рабочих, служащих, интеллигенции и крестьян. Именно крестьяне составляли большинство постоянного и переменного армейского контингента. Поэтому их настроения, взгляды и мысли рассматривались властями наиболее пристально, особенно в период социалистических преобразований деревни. В 1928 г., в связи с начавшимися коренными преобразованиями в сельской местности СССР, «крестьянские настроения» в армейской среде значительно усилились, что заставило армейские политические органы заняться анализом таких настроений. Под «крестьянскими настроениями» политические органы РККА понимали всю совокупность психологического состояния крестьянина-красноармейца, связанного не только с пребыванием в армии, но и с особой ментальностью сельского человека. Усматривая в крестьянстве источник потенциального политического протеста, властные структуры тщательно осуществляли политический контроль над ним. Органы Объединенного государственного политического управления при Совете Народных Комиссаров СССР (ОГПУ), политические отделы Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА), Рабоче-Крестьянского Красного Флота (РККФ) и политические отделы пограничной охраны Управления пограничной охраны и войск ОГПУ обязаны были периодически направлять в ЦК РКП(б), местные партийные органы соответствующие политические информационные сводки, основу которых, так же как и обзоров армейских политорганов, составляли выдержки из писем, полученных красноармейцами из дерев- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 14 ни, а также цитирование их высказываний на различных собраниях и в разговорах. В письмах к красноармейцам деревня выражала свои чувства открыто, без оглядки на власть и цензуру. В них настроения крестьянства определялись, прежде всего, острым критическим отношением к различным аспектам политики советской власти в деревне [15. С. 181]. Дальневосточный регион значительно позже вступил в полосу кардинальных социально-экономических изменений в деревне, однако на его территории проходили службу жители других регионов страны, большинство из которых были призваны из сельской местности. Являясь носителями «крестьянских настроений», они способствовали возникновению опасений о предстоящих далеко не позитивных изменениях, которые в скором времени охватят самый восточный регион страны. Так, в призыве 1928 г. в Сибирском военном округе (СибВО) доля крестьян составляла 63%, в призыве 1929 г. Особой Дальневосточной Армии (О ДВА) -60,7%. При этом значительная часть сибирского и дальневосточного крестьянства принадлежала к зажиточным, Сибирь и Дальний Восток по этому показателю превосходили все остальные регионы РСФСР: 6,7% - в Сибири, 7% - в Дальневосточном крае (для сравнения, в Центрально-Черноземном регионе - 2,3%, в среднем по РСФСР - 3,7%, УССР - 4%) [18. С. 104]. При характеристике сельского населения Дальнего Востока необходимо учитывать высокий уровень религиозности и широкое распространение в регионе в 1910-1920-е гг. идей протестантизма. Для молодежи -представителей протестантских групп (баптистов, адвентистов, пятидесятников и др.) - служба в армии была запрещена. Ф.М. Путинцевым были проанализированы причины этих запретов: «...боязнь войны, страхи родных, нежелание расстаться с ценным работником и кормильцем, запугивание тяжелой службой в армии, нашептывания пресвитеров и кулачества. Пожилые сектанты боятся отпускать молодежь в Красную армию еще потому, что оттуда многие возвращаются безбожниками» [19. С. 31]. В конце 1920-х -начале 1930-х гг. государство приступило к борьбе за установление безрелигиозного общества, и в этих условиях лидеры баптистов, адвентистов, евангельских христиан на съезде в Хабаровске приняли резолюцию по безоговорочному служению в Красной Армии [20. С. 106]; служба в армии была признана «оброком» [21. Ф. Р-481. Оп. 3. Д. 91. Л. 25]. Молодежь потянулась в армию поучиться, понабраться новых впечатлений после тяжелой нужды крестьянской жизни, дабы не отстать от товарищей. В свою очередь, в Красной Армии ставили задачи по перевоспитанию «сектантской» молодежи, многие из которых были успешно реализованы. Значительная часть сводок о «крестьянских настроениях» в армейской среде приходилась на начало 1930-х гг., что было связано с вовлечением в орбиту сельских преобразований территории Дальнего Востока. Первая реакция деревни на мероприятия властей, согласно письмам, - шок и неприятие происходящего. Крестьяне не понимали, зачем власть осуществляет хлебозаготовки в «таком грабительском масштабе». «Крестьянам совсем житья не стало от этих хлебозаготовок, раньше не было хлебозаготовок, а хлеба много было, а теперь все выметают и на посев не оставляют. По-моему, никаких хлебозаготовок не надо, пусть каждый крестьянин будет волен в своем хлебе, а если государству нужен хлеб, пусть берет на рынке и покупает у купцов», - указывалось в письме, направленном красноармейцу 56 пограничного отряда (ПО) Бурлакову, середняку [22. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 242. Л. 20]. Анализ содержания специальных политических докладных, сводок и сведений, исходящих от армейских политических и специальных органов ОДВА-ОКДВА, свидетельствует о значительном росте в красноармейской среде с начала 1930-х г. настроений, связанных с мероприятиями, проводимыми в деревне. Данные настроения быстро охватили весь контингент военнослужащих, прежде всего - выходцев из деревни. В зависимости от принадлежности к определенной крестьянской прослойке настроения вирировали от положительных до крайне отрицательных. Согласно информации политотделов, так называемая кулацко-зажиточная часть, как правило, выступала против коллективизации и раскулачивания, заявляя, что «лучше пойти в ссылку, чем быть в коллективе лодырей». Красноармеец 1-й дивизии Шестаков, из семьи кулака, в ходе обсуждения раскулачивания заявлял: «Раз кулак будет хорошо работать, почему бы его не оставить в колхозе». «Эта чертова власть разоряет крестьян. Пусть попробуют, поживут с беднотой. Сейчас в деревнях начинается смута, и если так же будет продолжаться дальше, то факт, что начнутся восстания», - заявлял красноармеец 36-й дивизии Кречетов, кулак. «Крестьян кругом жмут, теперь выдумали ликвидацию кулака. Пусть лучше пропадет все хозяйство, но в коллектив никогда не пойду», - говорил красноармеец 26-й дивизии Вольф, зажиточный [Там же. Д. 244. Л. 61]. Выходцы из семей середняков высказывали сомнения в правильности государственных мероприятий. Те же, кто зависел от кулака, выступали против коллективизации. Середняки часто говорили: «И без колхозов можно прожить, и так хорошо поодиночке»; «На колхозы надеяться нельзя, ибо их самих еще надо два года кормить». «Наши не хотели войти в коллектив, но их насильно заставили, угрожая, что если не войдут в колхоз, то лишим права голоса и уволим вашего сына из Армии. А нам говорят здесь, что коллективизация добровольная», - говорил красноармеец 2-й дивизии Сафонов, середняк. «В деревне поголовное раскулачивание, жить стало невозможно. Для крестьянина спасение одно - перейти в колхоз, хотя бы это и было против его желания», - заявлял красноармеец 1-й дивизии Лукин, середняк [Там же. Л. 61]. Бедняки, несмотря на общую поддержку коллективизации, в отдельных случаях сочувственно недоумевали: «Почему так сразу сильно взялись загонять в колхозы, надо было бы постепенно, а городского нэпмана не трогают»; «Почему партия решила ликвидировать кулака, когда на нем держится соввласть». Подобное поведение объяснялось тем, что кулаки в стремлении получить поддержку со стороны середняцко-бедняцкой группы прибегали к помощи такти- Исаев А.А., Федирко О.П. Реакция военнослужащих ОКДВА и их родных 15 ческого маневра, который заключался в утверждении о том, что в деревне идет не процесс ликвидации кулака, а «волна истребления всего крестьянства как класса». В результате подобной обработки некоторая часть бедняков и батраков высказывала сомнения в необходимости вступать в коллективные хозяйства. «Я сам, когда приеду домой, все ровно не пойду в коммуну. Если и пойду, то только в коллектив, а то в коммуне такая же дисциплина, как и в Армии», - заявлял красноармеец 5-й бригады Плащинский, из бедняков [22. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 244. Л. 61]. Из анализа содержания писем, поступавших от различных социальных групп деревни в адрес военнослужащих, видно, что середняцкая и бедняцкая группы крестьян писали преимущественно о практике и методах коллективизации. Они жаловались на принудительное втягивание в коллективы (колхозы и коммуны), на безвыходные и невыносимые условия для индивидуального крестьянского хозяйства и в отдельных случаях оправдывали свое вступление в колхоз именно этим обстоятельством. Зажиточные крестьяне писали о раскулачивании, сообщали о катастрофическом положении деревни, арестах, высылках, о массовом бегстве кулачества и крепких середняков, о повстанческом движении и т.д. Вместе с тем значительный процент писем содержал апелляцию деревни к армии, призыв к защите крестьян от поборов и притеснений властей всех рангов. «Товарищи красноармейцы, вы должны усматривать, что над вашими отцами, матерями, братьями, сестрами делают... Неужели вы не видите, что кругом делается, как издеваются над народом? Красная Армия, как мертвая, ничего не делает. Куда гонят народ? За какие преступления сажают в тюрьму.» - слова из письма красноармейцу 26-й дивизии, бедняку, члену ВЛКСМ Денисову из Барабинского округа Сибирского края от брата, женатого на дочери кулака. Данное письмо Денисов сдал политруку [Там же. Л. 60]. «Прошу обратиться ко всем красноармейцам, что вы служите в армии, а тут народ грабят, идет безобразие, самосуд, нет правил и законов, идет убийство... Если можно, то помогите, дорогие красноармейцы, и пропишите, как там, тоже так грабят или нет», - говорилось в письме от дяди из Рубцовского округа Сибирского края, адресованном красноармейцу 36-й дивизии [Там же. Л. 36]. Наряду с воззваниями о помощи к армии имела место и обратная реакция - обвинения красноармейцев в проблемах деревни. Мол, весь изъятый у крестьян хлеб идет на поддержание и обеспечение Красной Армии. «Теперь в деревне нигде куска хлеба не достанешь. Крестьяне говорят - вы у нас хлеб забрали, там и получайте, прямо беда; на красноармейца смотрят, как на зверя, а причем мы здесь, если хлеб берут для государства», - говорилось в письме военнослужащему 58-го ПО, члену ВЛКСМ Куликову [Там же. Д. 242. Л. 21]. Помимо писем негативного характера, отмечалось значительное количество писем с положительной оценкой происходящих изменений в сельской местности. Как правило, это письма от бедняцкой и батрацкой частей деревни. Отчасти это также являлось следствием воздействия красноармейцев на родных и близких при помощи писем домой. «И все мы убедились на ваше мнение и думаем вступить в коллектив и поднять его так, чтобы была польза государству», -говорилось в письме красноармейцу Саперного батальона Никитину из Иркутского округа. «Валя, ты должен поддержать советскую власть, так как она создает законы правильно. Ты писал, чтобы мы вступили в колхоз, и это писал правильно и пиши еще, что колхоз самое правильное мнение. Скоро заработаем по-новому, по-колхозному», - говорилось в письме красноармейцу 4-го полка 2-й дивизии Волкину [Там же. Д. 244. Л. 35]. Политические отделы армии, флота и пограничной охраны ОГПУ, а также партийные организации частей и подразделений, понимая угрозу, которую подобные письма несут в армейскую среду, проводили соответствующие политико-идеологические разъяснительные мероприятия с целью изменения «крестьянских настроений» в сторону глубокого понимания проводимых властью мероприятий на селе. С их помощью руководство оказывало существенное влияние и активное воздействие на личный состав. Целью являлось не столько воспитание, сколько поддержка и восхваление мероприятий, проводимых руководством страны (решений партии и правительства, успехов советского народа в строительстве социализма и др.). В результате подобной работы красноармейцы писали коллективные письма на родину, агитируя за сдачу хлеба государству и вступление в колхозы и коммуны. В некоторых воинских частях деревни и села по месту жительства красноармейцев вызывались на социалистическое соревнование по наискорейшей сдаче хлеба государству. Имелось много случаев, когда красноармейцы в индивидуальных письмах призывали своих родителей к сдаче хлеба государству и оказанию содействия по хлебозаготовкам. «Примите самое горячие участие в хлебозаготовительной кампании. Этим самым вы будете участвовать в проведении в жизнь пятилетки, и не слушайте тех, кто сейчас старается идти против этой кампании, потому что с ними вам как семье красноармейца не по пути. Это кулацкие выдумки, которыми они стараются подорвать пятилетку. Я прошу вас все имеющиеся излишки хлеба сдать государству», - писал домой красноармеец 55-го ПО, из бедняков. «Подымайте трудовое крестьянство на выполнение государственного задания по хлебозаготовкам, этим мы шевельнем наш тыл для активной помощи советскому государству в борьбе с врагом», - писал в свою деревню красноармеец 59-го ПО Божутин [Там же. Д. 242. Л. 19-20]. Политаппараты ряда воинских частей и подразделений умело использовали как положительные письма, идущие из деревни (через многотиражки, в разъяснительной работе), так и ответы местных органов по запросам. Так, в донесении 55-го пограничного отряда, в частности, говорилось, что «описываемые в письмах факты о перегибах местных властей в процессе коллективизации по запросу специальной комиссии связи не соответствуют действительности. На 40-50 жалоб только 4 случая подтверждались» [Там же. Л. 20]. Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 16 В связи с этим имели место случаи, когда даже сами «недовольные» высказывали «недоверие к тому, что им пишут». Однако работа вокруг красноармейских писем в целом велась чрезвычайно слабо, прежде всего в деле расследования фактов, приведенных в письмах, и привлечения к ответственности их авторов. Так, политотдел 8-й кавалеристской дивизии, имея поток писем с Северного Кавказа, не послал туда своего представителя для выяснения реального положения дел на месте, чтобы затем полученный конкретный материал использовать в политико-идеологической работе с красноармейцами. Ответы же местных партийных и советских организаций на запросы, делаемые по письмам и докладным, поступающим от красноармейцев, или совсем не подавались, или подавались с большим опозданием [22. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 485. Л. 185]. Понимая важное значение работы с письмами, влияющими на настроения и тем самым на отношения красноармейцев к партии и государству, политотдел управления пограничной охраны (УПО) в ряде своих указаний заострил внимание частей на вопросах усиления работы среди партийцев, комсомольцев и беспартийного актива на местах. В ее основу было положено четкое и ясное разъяснение задач партии по социалистическому строительству в городе и деревне. Это, в свою очередь, способствовало пониманию начсоставом, партийцами, комсомольцами, беспартийным активом (рабочие, батраки, бедняки, часть середняков) необходимости и важности проведения линии партии и правительства по вовлечению их как активных помощников в регулирование политических настроений, которые имели решающее значение. В этом отношении политаппараты частей добивались значительных результатов, опираясь в своей работе по регулированию настроений на указанные прослойки [Там же. Д. 242. Л. 20]. Вследствие проводимой политико-идеологической разъяснительной работы в частях и подразделениях ОКДВА настроения основной массы красноармейцев рассматривались как вполне здоровые. Официальная отчетная документация демонстрировала, что личный состав правильно уяснял и расценивал мероприятия партии по колхозному строительству и ликвидации кулачества как класса. Об этом свидетельствовали волна массового колхозного движения, вступление красноармейцев в коллективы целыми подразделениями. Ярким подтверждением этого являлись многочисленные советы родным и близким в письмах - вступать в колхозы, в отдельных случаях даже под угрозой разрыва. «Если не вступите, то я вам больше писать не буду, я не хочу вас знать»; «Ты, Ульяна, должна во что бы то ни стало вступить в коллектив, иначе я с тобой порываю всякую связь. Ты должна в этом убедить отца, и чтобы я уже приехал в коллектив». Наконец, это подтверждалось фактами резкого отпора и открытого массового осуждения красноармейцами кулацких проявлений, советами в письмах родным «принять на селе кулаку решительный отпор, довольно быть рабами кулаков и т.д.» [Там же. Д. 244. Л. 38]. Несмотря на усиление политико-идеологических массовых разъяснительных мероприятий, ряд политических органов частей и подразделений ОКДВА в начале 1930-х гг. констатировал увеличение ярко выраженных отрицательных настроений среди военнослужащих. Это было вызвано проведением сплошной (форсированной) коллективизации на всей территории страны. Из общей массы выделялись отдельные красноармейцы, настойчиво ведущие так называемую кулацкую агитацию. В разговоре с красноармейцами они демонстрировали свое активное несогласие с политикой партии и советской власти по вопросам хлебозаготовок, колхозного строительства и нажима на кулака, выражая подчас явно антисоветские взгляды. Они клеймили коммунистов и комсомольцев, обвиняя их во всех проблемах страны и невежественном отношении к населению. «Коммунисты - это те, кто раньше был вором и мошенником»; «Коммунистов и комсомольцев надо перестрелять, тогда легче жить будет». Социалистическое соревнование опошлялось и дискредитировалось. Имели место случаи, когда красноармейцы из зажиточных семей устраивали социалистическое соревнование по мату (употреблению нецензурной лексики)! Политическая же работа вокруг данных фактов не проводилась [Там же. Л. 26-37]. Порой слабая и часто запоздалая ответная реакция политических органов частей и подразделений ОКДВА являлась большим тормозом в развитии политикоидеологической работы вокруг информации, приходящей из деревни. Косность и отсутствие инициативы военно-политических работников низшего звена, которые обязаны были оперативно реагировать на поступающую информацию, не позволяли своевременно пресекать отрицательные настроения в армейской среде. В ожидании соответствующих директив из центра упускалось время, которым носители и распространители отрицательной и критической информации (и тем самым и настроений) активно пользовались, вовлекая в свою орбиту все новых военнослужащих. Имели место случаи, когда красноармейцы, получив информацию от сослуживцев о бесчинствах, творимых в коллективных хозяйствах, голоде и других ужасах, происходящих в деревне, становились ярыми противниками всех социалистических процессов. «У меня жена входит в коллектив, а я не хочу, и придется мне с ней расходиться. Я лучше пойду в город, чем в колхоз, а крестьянством теперь заниматься невозможно», - высказывался стажер 2-й дивизии в Хабаровске. «Я получил из дома письмо, просят совета -вступать или нет в коллектив. Я ответил, чтобы не вступали. Лучше уеду на Украину и там буду работать, чем на кого-то работать и гнуть спину», - говорил командир отделения 2-й дивизии Тежек. «Насильно загоняют в колхоз, но я не пойду и своему семейству не советую. Пусть что хотят делают, для меня все равно, а за разных лодырей в этих колхозах, пожалуй, никто работать не будет», - говорил красноармеец 9-й бригады Релков. «До сплошной коллективизации надо подождать, этот вопрос не обдуман, только выброшенный необдуманный лозунг - машинизация сельского хозяйства. Она слабо поставлена и не сумеет обслужить новые колхозы... В селе не коллективизируют, как мы выражаемся, а насильно загоняют кре- Исаев А.А., Федирко О.П. Реакция военнослужащих ОКДВА и их родных 17 стьян в колхозы...» - высказывался на политзанятии красноармеец 5 бригады Подворков, служащий. «Нам, наверное, не придется свободно просуществовать, не удержится наша власть, все равно весь мир скоро всколыхнется, и, наверно, будет кровопролитие. Если сказать прямо, то все недовольны соввластью... хотя крестьяне и идут в колхоз, но у них на сердце совсем другое», - слова из выступления красноармейца 9-й бригады Карпенко, середняка [22. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 244. Л. 40]. Доверие к информации от родных и близких было гораздо выше, чем к партийно-политическим органам власти и управления. Многочисленные сообщения о фактах искривления и перегибов в практике колхозного строительства (принудительное втягивание в колхозы) и ликвидации кулака (извращение линии партии в отношении середняка), получаемые из дома, оказывали существенное влияние на формирование недовольства и усиливали агитацию кулаков. Они иногда умело преувеличивали случаи искривления партийной линии на местах. Так, каптер 106-го полка 36-й дивизии Полишкевич, из семьи зажиточных крестьян, подойдя к группе красноармейцев рабочих по кухне, говорил: «Разве это власть, когда всех обобрали да ограбили. Теперь никакого житья не стало, только и знают -гнать... Кто пойдет в коллектив, тот совсем пропащий человек, там жизнь еще хуже будет». «Эти коммуны -сущая чепуха, разве мало в них входило крестьян, и оттуда бежали. Потому что там сплошной обман, затянут туда, возьмут все хозяйство, оставят голодным и выбросят. Я вам [красноармейцы] советую подумать об этом и не кричать, что давай запишемся». «Вы дураки [обращение к сослуживцам после политзанятий], вам говорят, а вы верите. Я никогда в эти коммуны не пойду... Если бы я попал в строй и в моих руках была бы винтовка, я бы этих гадов, которые агитируют за колхозы, беспощадно перебил», - утверждал красноармеец 9-й кавалеристской бригады, хлебопекарь Мак-симчук из семьи кулака [Там же. Л. 39]. «Я никогда не пойду против кулака, я всегда жил у кулаков и не согласен, чтобы их ликвидировали, так как нам, батракам, не на что будет существовать, а в коллективах нас не прокормят - сами голодом сядут», - говорил курсант политшколы 25-й дивизии Варфоломеев, из семьи батрака. «Кулак не враг, он помогает батракам прожить, не будь кулака, негде будет батраку прожить, не будет, где работать, а в колхоз и совхоз я ни за какие деньги не пойду», - утверждал курсант политшколы 2-й дивизии Паленчина, из семьи батрака [Там же. Л. 40]. Ненормальное положение, связанное с политически нездоровой информацией, поступающей с письмами от родных и близких, помимо объективных причин (влияние деревни, агитация кулацкого элемента в армии), является также результатом отсутствия достаточной воспитательной работы с комсомольцами в частях армии. Комсомол, выступая, по мнению властей, одним из основных проводников линии партии и правительства, в том числе и в армейской среде, порой занимал совершенно противоположную позицию. Можно предположить, что призванные в армию комсомольцы, как и несоюзная молодежь, в основном были деревенскими, тем самым являясь неотъемлемой частью крестьянского мира, и сохранили приверженность традиционному устройству деревни, разделяя чаянья и заботы сельских жителей. «Устроили какие-то колхозы, дурманят нашему брату голову. Я 20 лет не был в колхозе и еще 20 лет проживу без него, а в комсомоле я состою от нечего делать. Я не дорожу им, пусть хоть сегодня выгоняют», - высказывался красноармеец 26-й дивизии Шушарин, член ВЛКСМ, из семьи батрака. Красноармеец 9-й бригады Макаров, кандидат в члены ВЛКСМ, для курения разорвал газету, взятую в ленинском уголке. На замечание красноармейца по этому поводу, он заявил: «.ну их [нецензурное ругательство], они половину врут, а если все будут грамотными, то работать некому будет. Вот вы говорите, что рост промышленности есть, крестьянство растет, но это все неверно, крестьянство разоряется сейчас все» [Там же. Л. 40-41]. Вместе с тем заслуживают внимания настроения молодых призывников, которые еще застали дома начинающиеся коренные изменения на селе. Так, в учебных пунктах красноармейцев, где проводился курс молодого бойца, отмечались отдельные отрицательные политические настроения и рассуждения по вопросам хлебозаготовок. «Хлеб берут насильно, ходят по крестьянским дворам и выгребают хлеб», - высказывался красноармеец учебного полка в поселке Славянка Ми-рошенко, из семьи середняка, беспартийный. «Зачем я должен служить, когда меня дома грабят?» - спрашивал красноармеец 57-го ПО Роташенок, из семьи середняка, беспартийный. «На крестьян нажимают, даже беднота, помогавшая государству проводить хлебозаготовки, осталась на бобах, и их посадили на скудный паек», - говорил красноармеец 56-го ПО Цвелев, из семьи бедняка, беспартийный. «Зачем у кулаков отбирают хлеб, кому какое дело, что у них этот хлеб имеется», - высказывался красноармеец 58-го ПО Красиков, член ВЛКСМ, из семьи бывших крестьян, уехавших в город, - рабочий [Там же. Д. 242. Л. 34]. Отрицательные настроения, исходившие от середняцкой и бедняцкой части деревни, судя по содержанию писем, базировались главным образом на фактах искривления партийной линии в отношении колхозного строительства (принудительное вовлечение в колхозы), а также в отношении ликвидации кулака (распродажа середняцких хозяйств, лишение права голоса середняка, угрозы со стороны уполномоченных по коллективизации и т.д.). «Здесь сейчас большой бунт, народ, который не идет в коллективы, гонят из деревни, собирают свои манатки (личные вещи. - А.И., О.Ф.) и идут. 22 февраля (1930 г. - А.И., О.Ф.) под конвоем провожали 30 семей. Не знаю, кто только не плакал, каждый досыта наревелся. Тестя твоего угнали с детьми. Эх, Ваня, не слушай там, что поют, не слушай! Жизнь пошла не жизнь, а смерть», - из письма красноармейцу 36-й дивизии из Новосибирского округа. «Забрали все и выгнали всех, тут же при них мать упала в обморок и в 6 часов вечера пожертвовала свою жизнь коммунистам за их правду и грабежи. Половину села уже выгнали из домов и нигде на квартиру не пускают, издали приказ: если кто пустит, то сейчас Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 18 выгоняют. Тысячи крестьянских сынов в армии служат, а в деревнях родителей выгоняют из их домов, все отбирают... С начальством, я думаю... надо... поговорить», - из письма красноармейцу 2-й дивизии Хоменко из Никольск-Уссурийска. «В коллектив тащат насильно, не пойдешь - лишают голоса, дома распродают. Бедняку никакой льготы нет, а середняк, какой бы он ни был - кулак. Пока ничего не говорите, не показывайте письма начальнику, а то могут добраться и до меня», - из письма красноармейцу 2-й дивизии от Куркова из Новосибирского округа [22. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 244. Л. 35-36]. В сводках особого отдела ОГПУ по ОКДВА отмечалось, что иногда кулацкая (антиколхозная) агитация облекалась в форму контрреволюционной поэзии, присылки в письмах «классических» стихотворений. Так, в письмо на имя красноармейца 2-й дивизии Протопопова от брата из Томского округа было вложено стихотворение следующего содержания: «Свобода Рабами темными в тайге, Живем мы все крестьяне. Страдаем, мучаемся мы все, Ведь видите вы сами, Живем, страдаем, терпим муки, За что? За собственное свое. Болит рука и ломит руки, Ох, наше ... (не цензурно. -А.И., О.Ф.) житье, Когда же будем мы свободны, Когда не будем мы тужить А будем, мы так всенародно, Чтобы нам жить и не тужить. А жить тут, самое в Советской власти, Она дала в тайге нам счастье, Работать бревна и дрова» [Там же. Л. 36]. В отдельных случаях протестные настроения выступали в форме написания и распространения воззваний, листовок и т.д. , причем такая работам глубоко конспирировалась. Так, 23 февраля 1930 г. в уборной 76-го полка 26-й дивизии появилась надпись такого содержания: «Власть коммунистам, земля коллективистам, деньги политрукам, а крестьянам. (нецензурно. - А.И., О.Ф.)». Автор надписи выявлен не был. Отдельные, наиболее передовые, элементы пытались теоретически обосновать кулацкое движение в форме сочинения «ученых» листовок. 9 марта 1930 г. в тумбочке курсанта Владивостокской пехотной школы, члена ВЛКСМ Гнильницкого было обнаружено написанное в тетради его рукой воззвание: «Воззвание к русскому народу от 2 марта 1930 г. На смену свалившегося с плеч рабоче-крестьянского класса помещечье-царского гнета возросла новая волна, волна истребления крестьянства как класса. В настоящий момент, когда Россия стонет от новой, т.е поставленной в другой форме эксплуатации, когда всему русскому народу в ближайший срок угрожает не описанный еще в нашей истории голод, русский народ, которого в период столь тяжелой войны смогли пустыми, ничем не оправдываемыми в настоящий момент обещаниями увести под свою крышу коммунисты и еврейское племя, которое в данный момент является одним из лютейших врагов рабочего класса, - нужно положить конец. Необходимо обдумать и решиться еще на одну столь важную операцию, которая должна выжечь все корни того, на кого русский народ смотрит с ненавистью. Если не так давно в достижении свободы, равенства и братства пролито много крови, то в настоящий момент начатое нужно довести до конца. Для яркости возьмем наше крестьянство, и если мы углубимся в него, то увидим, что его хозяйство несет полный развал, который чувствительно отражается на городском населении. Граждане! Ведь позорно и думать, чтоб страна, в которой две трети населения занимается земледелием, страна, имеющая лучшие плодородные земли всей Европы, - перешла на паек. Для русского народа недопустимо, чтобы его лучшую землю обрабатывали жидовские машины, племя которых и торгует хлебом с другими странами, тем самым и ведет наш народ к полной гибели. Нашего темного мужика одурманивают еще не видимой до сих пор в истории бессмыслицей. Если для внезапного налета саранчи мы роем ямы и, наполненные последней, зарываем ее, то и под наше крестьянство ямы уже вырыты, и нам нужно приложить все усилия, чтобы не дать засыпать его. Возьмем политику коммунистов в объединение в колхозы. Эта такая хитрая политика, которую как можно, но скорее нужно понять. Идти в колхозы нужно лишиться всего своего хозяйства, а крестьянин без хозяйства - это все равно, что судно без руля, которое в зависимости от погоды идет в любую сторону. В этом и заключается их жидовская политика. Обезоружить крестьянство, отобрать все хозяйство в свои руки, и тогда оно будет иметь полную возможность русское крестьянство сделать своими рабами» [Там же. Л. 61-62]. В этот же день Гнильницкий был арестован. Отметим, что листовки, воззвания и надписи антисоветского характера в общественных местах являлись одной из самых распространенных форм проявления протеста и антисоветских настроений. Усиливавшийся на протяжении 1930-х гг. страх расправы со стороны органов ОГПУ (позже НКВД) заставлял недовольных и несогласных с курсом власти прибегать к подобного рода протестным проявлением. Только за 5 месяцев 1932 г. в частях ОКДВА было обнаружено 10 листовок, воззваний и надписей. Так, в 34-м полку 12-й дивизии при отправке из Омска была обнаружена листовка следующего содержания: «Внимание!!! Товарищи красноармейцы! Ко всем сознательным, посмотрите, кто нами руководит и кто нас загоняет в кабалу, для того чтобы мы дрались между собой - товарищ с товарищем. Один ударник - почет ему делают, а другой -не ударник, ему нет почету. Для того, чтобы обострить между собой, посмотрите какую дисциплину они держат военную» [Там же. Д. 378. Л. 280]. В 62-м полку 21-й дивизии было обнаружено два анонимных письма. Приводим содержание второго из них: «Еду в армию с весельем, Говорил Максим Петру, И за родину Советов не иначе как умру. Исаев А.А., Федирко О.П. Реакция военнослужащих ОКДВА и их родных 19 Проживя в кошмарной жизни, парень стал совсем другой. Нету родины свободной, превратили нас в рабов. Нет доверья, голодуха и не смей сказать, А иначе ты вредитель и на суд отдать. Целый день с утра до ночи, точно вол везешь. Где бы нужно отдохнуть, так нам пихают ложь. И Максиму стало страшно, что за черт - кошмарно, От ржанухи и бульона - в голове угарно». В процессе следствия было установлено, что авторство принадлежало красноармейцу Монакову, из семьи крестьян-бедняков, беспартийному, исключенному из ВКП(б) [22. Ф. П-2. Оп. 1. Д. 378. Л. 303]. Вместе с этим заслуживает внимания, согласно сводкам ОГПУ, на начало 1930-х гг. совершенно новый метод антиколхозной агитации через письма -«метод присылки в армию коллективных кулацких писем, в которых явно провокационные сведения для большей убедительности подтверждаются несколькими подписями односельчан или родственниками». Так, в адрес красноармейца 36-й дивизии поступило от свата из Омского округа письмо, переполненное гневными обвинениями в адрес советской власти. В нем сообщались сведения о зверствах власти в деревне и т.д. В заключение автор указывал: «Вы писали, что вам не верится, что у нас так проделывают (раскулачивания и насильственная запись в колхозы), но я даю слово и голову на отсечение, что у нас так и есть. А если не верите, подпишутся еще люди на этом письме... Про нашу жизнь подписываются: Гриценко Дмитрий, Сидоренко Яков, Сидоренко Максим, Малюнка Павел» [Там же. Д. 244. Л. 37]. Имели место и оригинальные письма-инструкции на случай экстренной ситуации, связанной с раскулачиванием, лишением права голоса или выселением родных из деревни. Понимая, что при этом могут пострадать родственники, проходящие службу в армии или на фл
Дэвис С. Мнение народа в сталинской России: террор, пропаганда и инакомыслие, 1934-1941. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2011. 231 с
Лейбович О.Л. «Война на западе уже началась..»: разговоры 1939 г. в бараках, тюрьмах и очередях // Шаги-Steps. 2016. Т. 2, № 1. С. 14-27.
Лившин А.Я. Власть в настроениях и политических эмоциях в период становления сталинизма // Историки размышляют. М. : Перо, 2011. С.126-174.
Даренская И.В. «Письма во власть» как источник анализа отношений власти и общества в 1920-30-е гг. // Вопросы всеобщей истории. 2013. Т. 15. С. 31-36.
Савин А.И. Письма во власть как специфическая форма политической адаптации советских граждан // Вестник Новосибирского государ ственного университета. Сер. История, филология. 2016. Т. 15, № 8. С. 133-145.
Фицпатрик Ш. Сталинские крестьяне. Социальная история Советской России в 30-е годы: деревня. М. : Российская политическая энцикло педия (РОССПЭН), 2001. 422 с.
Астанина Е.А. Отношение Дальневосточного крестьянства к политике коллективизации (начало 1930-х гг.) // Региональные проблемы. 2011. Т. 14, № 2. С. 117-122.
Азаренко А.А. О политической психологии крестьян. Дальневосточная деревня в 1920-х годах // Россия и АТР. 2006. № 1. С. 26-34.
Иващенко В.А. Антисоветские настроения населения (по материалам оперативных данных ОГПУ ДВК) // Россия и АТР. 2007. № 2. С. 30-37.
Билим Н.Н. Политические настроения дальневосточников в конце 1920-х - начале 1930-х годов // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2015. № 7 (57), ч. 2. С. 32-34.
Ченская Т.В. Общественные настроения советского крестьянства в российской деревне в 1926-1932 гг. на примере орловского округа и источники их изучения (по материалам окротдела ОГПУ) // Ученые записки Орловского государственного университета. 2014. № 4 (60). С. 40-44.
Токарев С.В. Политические настроения населения советской провинции во второй половине 1930-х гг. (на материалах ЦентральноЧерноземного региона) : автореф. дис. канд. ист. наук. Курск, 2004. 23 с.
Советская деревня глазами ВЧК-ОГПУ-НКВД, 1918-1939 : документы и материалы : в 4 т. Т. 3: 1930-1934 : в 2 кн. / под ред. А. Береловича, В. Данилова. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2003. Кн. 1: 1930-1931. 864 с.; 2005. Кн. 2: 1932-1934. 840 с.
Трагедия советской деревни. Коллективизация и раскулачивание. 1927-1939 : документы и материалы : в 5 т. / под ред. В. Данилова, Р. Маннинг, Л. Виолы. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 1999. Т. 1: Май 1927 - ноябрь 1929. 880 с.; 2000. Т. 2: Ноябрь 1929 - декабрь 1930. 927 с.; 2001. Т. 3: Конец 1930 - 1933. 1008 с.
Чуркин В.Ф. К вопросу о политических настроениях российского крестьянства в 20-е - начале 30-х годов XX в. // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Сер. История. Политология. 2013. Т. 26, № 8 (151). С. 180-186.
Тархова Н.С. Красная армия и сталинская коллективизация. 1928-1933 гг. М. : Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН) ; Фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина», 2010. 375 с.
Песков В.М. Военная политика СССР на Дальнем Востоке в 30-е годы XX века. Хабаровск : Изд-во ХГПУ, 2000. 348 с.
Кулаков П.П. Антисоветские настроения и их преодоление в ОКДВА в начале 1930-х гг. // Власть и управление на Востоке России. 2014. № 1 (66). С. 103-110.
Путинцев Ф.М. Сектантство и антирелигиозная пропаганда : метод. пособие / под ред. К.А. Попова. М. : Безбожник, 1929. 52 с.
Федирко О.П. Общесоюзные и дальневосточные съезды протестантских церквей как элемент религиозной жизни СССР в 20-30-х годах ХХ в. // Вестник академии. 2012. № 1. С. 97-110.
Государственный архив Амурской области.
Государственный архив Хабаровского края.
Государственный архив Приморского края.
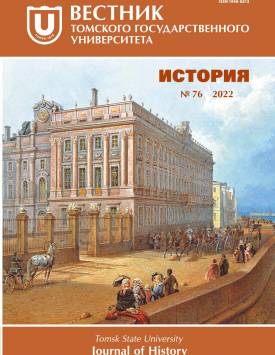

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью