Между Бессарабией и Подольем: Лядовский монастырь на Днестре как историкокультурный ландшафт и средоточие политических традиций (взгляд антрополога)
Проводится политико-антропологическое исследование локального культурного ландшафта - Лядовского мужского монастыря, расположенного в центре Днестровского каньона, на стыке Винницкой области Украины и Молдовы. Пользуясь стандартной историко-географической методикой, автор характеризует этническую и социально-политическую эволюцию местности, выделяет узловые моменты лядовской истории. Особенное внимание уделено «византийскому духу» и «Лядовской ярмарке» как социальным рудиментам современности. Классифицируется три типа локального сознания и культурной идентичности, базирующихся на соответствующих идейно-политических традициях: 1) украинское национальное сознание; 2) православно-византийское сознание; 3) бессарабское молдавское сознание.
Between Bessarabia and Podolia: Ladawa monastery on the Dniester as a historical and cultural landscape and a center of .pdf Усекновенский скальный Иоанно-Предтеченский мужской монастырь расположен на живописном берегу реки Днестр - в эпицентре глубокого каньона. Он находится на украинской территории, в 300 м от государственной границы с Республикой Молдовой, на вершине 90-метровой скалы (под юрисдикцией близлежащего Ярышевского сельского совета Могилев-Подольского района Винницкой области) [1. C. 130-135]. Днестровский каньон протяженностью 250 км охватывает границы шести этногеографических регионов -Подолии, Бессарабии, Буковины, Западной (Галицкой) Подолии и Галиции. В предлагаемой статье мы попробуем сконцентрироваться вокруг политико-антропологической характеристики этого замечательного объекта культурного наследия. Предлагаем использовать всего три подхода для анализа: 1) частота сменяемости социально-культурных групп на одном культурном ландшафте в прошлом и настоящем; 2) наличие социально-культурной символики минувших времен в современном географическом описании и психологическом восприятии ландшафта; 3) доминантные политические традиции локального региона, их генезис. Эти три стандарта, взятые из распространенной методики Human Geography, приведут нас к описанию одной отдельно взятой сакральной местности с точки зрения политической антропологии. Политическая антропология исследует идейные и идеологические особенности развития традиционных форм политического устройства в историческом процессе [2]. Приспосабливая научный аппарат и подход политантропологии к историко-культурной характеристике Лядовского монастыря (отдельного культурного ландшафта с позиций современной географии человека), мы следуем теоретическому указанию французского социолога и основателя политической антропологии Жоржа Баландье (1920-2016): «...политическая антропология ищет качества, общие для всего исторического и географического многообразия политических типов организации» [3. C. 13]. 1-й аспект методики: Какие исторические социальные группы участвовали в формировании облика ландшафта? Как они сменяли друг друга? Древний период. Исследования истории Лядовско-го монастыря не выходят за рамки его монашеской жизни [4. C. 10-30]. Учитывая, что монастырь расположен в исключительно удобном месте для обороны, на 90-метровой скалистой террасе над рекой, можно предположить, что история месторасположения имеет гораздо более древние корни [5. C. 1]. Река всегда притягивала людей. Большинство неолитических поселений, расположенных в рамках Днестровского каньона (преимущественно принадлежащих культуре Кукуте-ни-Триполье), являются именно скоплениями жилищ у берега реки [6]; их присутствие обнаружено археологами [7]. Охотники и энеолитические земледельцы использовали выгоды географического расположения: вода обеспечивала организацию ведения хозяйства, а скалистая местность не подпускала близко вражеские племена и опасных животных [8. C. 76-77]. Допускается, что пещеры, ставшие позже монастырскими кельями, вначале использовались первобытными земледельцами в оборонительных целях [9. C. 86-90]. Позже Днестровский каньон окружили племена ираноязычных кочевников (скифов, сарматов), чьи активные контакты с древними греками [10. C. 13-15] позволили античным авторам обозначить условное течение Днестра - реки Тирас [11. C. 28-40]. Днестр попал в самую гущу Великого переселения народов (III-VII вв.). Первоначально для Днестровского бассейна большую роль играла близость Римской империи. Однако когда в 271 г. н.э. римляне оставили провинцию Дакия на милость германцам-готам, Днестр стал зоной межэтнических контактов гетто-дакийцев и германцев [12. C. 24]. Средние века. Предание относит создание Лядов-ского монастыря к 1013 г. и называет его основателем Св. Антония Печерского (983-1073) [7. C. 101]. Монахи до сих пор рассказывают, что будущий основатель Киево-Печерской лавры обустроил первые кельи, возвращаясь из Константинополя и Афона. Существуют «Антониевы» келья и источник - их принято связывать с именем святого [13. C. 343-345]. Согласно исследованиям А.В. Сварчевского, монашеские поселения на землях Днестровского каньона (в широком смысле) должны были появиться еще в 500-600-х гг. [14]. Тогда эту территорию контролировало славянское племя уличей [15. C. 9]. В эпоху налаживания русско-византийских политических контактов (860-989) лядовское нагорье замечательно подходило для таможенного контроля и посольского отдыха. Окружающую степь контролировали тюрки-кочевники, а Подунавье слишком часто поддавалось грабежам и военному разорению. Для дипломатических миссий наилучшим образом подходило Среднее Поднестровье [16. C. 126-128]. Впрочем, Мельник В.М. Между Бессарабией и Подольем: Лядовский монастырь на Днестре 33 первое летописное упоминание о монастыре относится к 1159 г. и связано с галицким князем Иваном Берладником (ок. 1112-1162). В 1158-1159 гг. Иван Берладник правил собственным княжеством в Подуна-вье. Его поддерживали половцы и так называемые «берладники» (возможно, беглецы с киевских земель или наследники поднестровских, в том числе «каньон-ных», уличей). Упомянутый князь, действуя в бассейнах Дуная и Днестра, установил отношения с Константинополем. К слову, смерть застала князя в древнейшем греко-византийском городе Фессалоники [17, 18]. Первое упоминание о близлежащей Лядовой (в польских документах Ladawa) относится к 1388 г. [19. C. 97101]. Тогда земли Среднего Поднестровья (со стороны современной Винницкой области) были контролируемы литовцами [20. C. 51-52]. Следуя федеративным тенденциям литовского устройства, великие князья действовали по принципу «разделяй и властвуй». Благодаря ему они и дошли к устью Дуная и Черному морю. На территории современных Винницкой, Черкасской, Кропивницкой и отчасти Хмельницкой областей было создано «Подольское княжество», возглавленное Кориатовичами (представителями старинного киевско-русского рода) [15. C. 23-25]. Функционирование торгового пути «из варяг в греки» продолжалось. Позднесредневековый Днестр вновь получил ряд преимуществ. Его среднее течение находилось в меньшей доступности для хищной татарской конницы. Общие исторические процессы в Восточной Европе привели к умиротворению кочевников, контролировавших валашские и болгарские земли, а также к временному возрождению византийских культурноисторических сил во времена династии Палеологов (1258-1453). Археологические находки (особенно монеты) ясно говорят о мощном византийском экономическом влиянии: сначала на общность «берладников», а потом и на Подольское княжество. В эпоху монетизации экономической жизни XII-XVI вв. главной валютой среднего Поднестровья оставался византийский солид (нумисма) [21. C. 16]. Падение Константинополя 29 мая 1453 г. явилось фактором обнищания бассейнов Дуная и Днестра. Впрочем, турецкая экспансия открыла путь к политической институционализации валашских княжеств. Смешанное славяно-валашско-тюркское население (потомки дакийских ромеев и киевских «берладников»?), оказавшееся к югу и юго-западу от Днестра, оказалось заложником геополитического противостояния между католической Польшей и султанской Портой [Там же. C. 16-19]. В 1387 г. Молдославия (литовско-польское название Молдавского княжества) признала польского короля сюзереном. Лядовский монастырь после ликвидации Подольского княжества в 1394 г. оставался частью Литвы и только в 1569 г. перешел под польскую юрисдикцию [14]. Новое время. В 1648 г. Подолия была охвачена ка-заческим восстанием [15. C. 52-55]. Монахи монастыря активно помогали так называемым «резунам» (rizuny), уничтожавшим отступавших поляков и евреев. Предок великого писателя Николая Гоголя Остафий Гоголь (ум. в 1679 г.) возглавил Могилев-Подольский полк. В 1649 г. игумен Лядовского монастыря Павел и иеромонах Никифор возглавили первое посольство Богдана Хмельницкого к московскому царю Алексею Михайловичу. Впрочем, конец Хмельниччины ознаменовался началом длительной Руины. В феврале 1660 г. краковский воевода Станислав Ревера Потоцкий (1579-1667) атаковал полк Остафия Гоголя. Несколько недель длилась осада Могилева-Подольского, в ходе которой казаками Гоголя использовались окрестные каньонные местности для налаживания связи с промосковскими силами правобережного гетмана Михаила Ханенка (1669-1674). В итоге именно днестровский каньон стал местом дислокации московского полка боярина Григория Козловского (1647-1701), нанесшего полякам поражение. Между 1672 и 1699 гг., по соглашению с Польшей, Подолье оккупировала Османская империя [22. C. 256257]. В числе других христианских храмов турки закрыли Лядовский монастырь. Однако, в отличие от главных каменных культовых сооружений региона (церквей и костелов), османы не обратили монастырь в мечеть из-за малой доступности. Таким образом, географические условия расположения спасли монастырь православных христиан от «осквернения». Это простое утверждение, по нашему мнению, - яркая иллюстрация роли географического фактора в культурной истории общества. В 1702-1703 гг. Лядовский монастырь вновь оказался на польской территории, но теперь уже как духовный греко-католический (униатский) центр васи-лиан. В 1745 г. монастырь закрылся на фоне общего религиозного накала в Речи Посполитой, спровоцировавшего активизацию вооруженной антипольской борьбы крестьян и гайдамаков. В 1768 г. Днестровский каньон станет местом дислокации казачьих отрядов гайдамаков. Территория скального монастыря использовалась ими в качестве базы для налетов. Опять же, выгодным преимуществом Лядовского монастыря следует считать возможность конспиративного сообщения с запорожцами посредством длинных ходов днестровского каньона [19]. Время модерна. Могилевщина была передана Польшей Российской империи в 1795 г. С этого момента начинается возрождение православной культуры и соответствующей символики в Лядове. Расцвет монастыря приходится на 1830-1917 гг. С 1845 г. Лядово усилиями монахов Григория Янковского и Владимира Стефановского начинает обретать образовательную и экономическую инфраструктуру. Организовывались ежегодные монастырские ярмарки, во многом способствовавшие единству между бессарабскими славянами и подольскими украинцами. Ярмарка выполняла важную роль в транспортировке частнособственнической продукции бессарабских крестьян на украинские рынки [4]. К 1900 г. монастырь состоял из четырех церквей -трех пещерных (Иоанна Предтечи, Параскевы Пятницы, Антония Печерского) и одной приходской (св. Николая). Кроме культурно-религиозной функции, руковод- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 34 ство монастыря уделяло значительное внимание транспортному значению деревни. Могилевщина воспринималась многими украинцами как «ворота в Бессарабию» (место заработка для безземельных крестьян). Война 1914-1918 гг. и революционные события активизировали контрабандистскую деятельность. После того как Румыния захватила Бессарабию в 1918 г., новая граница стала «золотым дном» для местных крестьян. Именно под предлогом борьбы с «контрабандой» в 1938 г. церкви были уничтожены большевиками. Большая часть неизученной библиотеки и редких икон исчезла. Под монастырем была возведена линия обороны. Интересно, что руководил подрывом монастыря Дмитрий Карбышев (1880-1945). По словам монахов, от взрыва колокол церкви Иоанна Предтечи оказался в Днестре. В 1941-1944 гг. Лядова находилась в составе так называемого Губернаторства Транснистрии (румынского оккупационного региона). Этим были обусловлены менее низкая интенсивность ведения боевых действий и выживание старообрядческих общин. Еще в середине XVIII в. на территории Среднего Подне-стровья активно расселялись группы старообрядцев-липован. Их миграция длилась более века и окончилась компактным расселением в украинской этнической среде Подолии, Бессарабии и Буковины (1760-1780-е гг.) [4]. Археологические исследования выдающегося украинского историка Владимира Антоновича (1834-1908) [9] позволяют установить некоторую преемственность социально-исторического развития монастыря: буго-днестровская общность, трипольцы, даки, германцы-готы (сегодня таковыми считаются черняховцы) и, наконец, славяне. Особый вклад в историческую географию местности внесен скифами и сарматами, готами и гуннами, угроязычными мадьярами и латиноязычными валахами, печенегами и половцами. Но все же определяющими для зарождения, развития и выживания Лядовского монастыря всегда оставались русско-византийская дипломатия и взаимные экономические контакты. Стиль и дух древних построек Лядовского монастыря отчетливо выдает здесь византийский культурный форпост. 2-й аспект методики: Определение социальных рудиментов прошлого в современном культурном ландшафте. Лядовский монастырь был восстановлен в 1998 г. группой почаевских монахов. Его воссоздание получило мощную поддержку со стороны Украинской Православной Церкви [1. C. 137-139]. Культурный ландшафт Лядовского монастыря состоит из нескольких важных элементов. Во-первых, монастырь построен по византийскому образцу, что создает ощущение византийского духа. Во-вторых, для локального культурного ландшафта важно паломничество. Во взаимодействии монахов и паломников рождается современная социальная структура монастыря [5]. Духовное влияние Византии чувствуется до сих пор благодаря культу иконы Божьей Матери «Отрада и Утеха», подаренной игуменом Святой обители Ватопедской на Афоне. Легенда, связанная с иконой, относится к 807 г., когда Святая гора подверглась болгарскому штурму [23]. Сегодня этот образ является самым значительным в лядовском иконостасе. Он служит неразрывной точкой интеракции «монастырь-паломник» [13]. В смысле «социального рудимента», активно поддающегося реставрации, может рассматриваться Лядов-ская ярмарка, восстановленная в селе после возрождения монастыря. Она прямо объявляется преемницей ярмарки XIX в. и призвана «улучшить» общение между жителями молдавского и украинского Поднестровья. 3-й аспект методики: Ландшафт как смысл и символ: какие три политико-традиционные мировосприятия доминируют в социальном сознании монастырского округа? Мировосприятие первое - православно-византийское. Современный ландшафт Лядовского монастыря - строительный ландшафт. Начиная с 1998 г. монахами много сделано для обустройства территории. Один журналист написал: «Неудивительно, что действующий монастырь напоминает, скорее, строительную площадку, где легче встретить рабочих, а не монахов» [5. C. 1]. Построен новый корпус, восстановлены некоторые помещения и древние пещеры, открыт паломнический отель, возведены смотровая площадка и колокольня. Для монахов очень важно, что новый колокол привезен в Лядову именно из Москвы. Для мировоззрения монахов-строителей и паломников большое значение имеют артефакты, связанные со Святым Антонием. В частности, монахам «удалось» локализовать «келью» Антония, местоположение которой действительно носит признаки глубокой древности. Насельники обители рассказывают, что келья сохраняет неизменный внутренний вид с византийских времен. Таким образом, для монашеского мировоззрения и пространственной мифологии первоочередную роль играет «Византия» как источник древнерусского православия. Агиографическое путешествие Святого Антония в Константинополь, на Афон и обратно в Киев является основой всех легенд и преданий, связанных с началами Лядовского монастыря. Все вещи, несущие отпечаток древности, принято почтительно называть Антониевыми. Касается это и такого важного географического образа местности, как «Антониев источник». По преданию, бытующему и в самом селе Лядова, на монастырской горе расположен целебный ключ. Стараниями монахов здесь воссоздана купальня, собирающая ключевую воду [13. C. 343-347; 24]. Мировосприятие второе - украинское национальное. «Антониев источник» очень важен для народного воображения, поскольку вопрос воды исторически главенствующий. Все и всегда поселялись возле рек, озер, источников, независимо от доминирующей формы ведения хозяйства (взять хотя бы соотношение земледельцев и кочевников). Расположение Лядовского монастыря позволяет выдвигать гипотезы о существовании здесь городища. Археология демонстрирует следы компактного обитания различных исторических племен даже в условиях полного земледельческого запустения степи, окружающей Поднестровье [25. C. 114]. Следовательно, «Антониев источник» является символом исторических условий, способствовавших устройству и демографическому развитию окружающей местности. Мельник В.М. Между Бессарабией и Подольем: Лядовский монастырь на Днестре 35 Присутствие трипольцев значительно расширяет временные рамки лядовской локальной истории, что явилось поводом для разнообразного историографического мифотворчества [6]. Если православное мировоззрение предполагает «культурно-психологическую» (!) преемственность между христианскими общинами готов или византийцев, Св. Антонием Печерским и современной Иоанно-Предтеченской монашеской общиной, то украинское национальное мировоззрение базируется на «генетической» (!) преемственности «трипольцев, скифов, антов, украинцев» [15. C. 10-11]. Лядовский монастырь с окружающими его археологическими находками представляется одним из важных центров формирования украинской локальной / региональной идентичности, поскольку здесь находилось древнее славянское городище. Соответствующие образы Поднестровья, важные для украинской национальной мифологии, красочно изложены в замечательной исторической трилогии Д. Мищенко. Мировосприятие третье - бессарабское - экономическое. Для поднестровских жителей река является историческим кормильцем [26]. В этнической молдавской среде даже сегодня наблюдается сакрализации Днестровской торговли и регулирования границ. Количество молдаван на украинской территории в последние годы заметно снижается. К примеру, численность молдаван в Винницкой области снизилась между переписями 1989 и 2001 гг. на 12,8%. Сегодня молдаване Винничины составляют лишь 1% всех молдаван Украины. Сосредоточены они преимущественно в сельской местности вдоль границы по Днестру (включая Могилев-Подольский район). Впрочем, с точки зрения политической антропологии группы сельских молдаван настроены очень инструментально. Их идентичность изменяется в зависимости от политической конъюнктуры и местопребывания, что делает четкую характеристику невозможной. Многие украинские молдаване на один и тот же вопрос о национальной принадлежности могут называть себя и молдаванами, и румынами, и русскими, и украинцами. С другой стороны, велик процент романизированных в прошлом славян среди так называемых украинских молдаван. Лядовский монастырь для бессарабского мировоззрения интересен не столько своими древними артефактами, сколько социально-экономическими возможностями. В связи с этим возлагались надежды на Ля-довскую ярмарку - вновь возрожденный символ XIX в. Однако не менее интересны радикальные «румын-ствующие» взгляды в молдавской среде на прошлое и настоящее Поднестровья. Во многом они ассоциируются с необходимостью румынской экспансии в Молдавии и апеллируют ко времени «Великой Румынии» 1941-1944 гг., оккупировавшей «Транснистрию». Выводы. Избранный междисциплинарный путь, по нашему твердому убеждению, обогащает теоретическую политологию широким историческим и географическим полотном фактов. В то же время он позволяет исторической науке присмотреться к проблеме взаимодействия политического и климато-географического факторов в процессе эволюции различных форм социального сознания и коллективной идентичности. Обобщая современные социально-психологические доминанты, подчеркнем: для православного мировоззрения характерно уважительное отношение к византийской исторической роли, тогда как в украинском национальном мировоззрении выделяются «воспоминания» (мифологизированные) о конфронтации с греками («славные походы на Царьград» и т.д.). В то же время украинский национальный дискурс (распространенный преимущественно в среде школьной интеллигенции Могилев-Подольского района) трепетно относится к православной вере. Заметно, что и православное, и украинское национальное мировоззрение больше обращено к Средневековью, что, возможно, не только подтверждает их генетическую самобытность, но и сглаживает искусственно навязываемые некоторыми средствами массовой информации противоречия. Бессарабское мировоззрение фиксируется исключительно на подсознательном уровне, и это делает его гибким и лабильным для инструментальной смены идентичности. Впрочем, с точки зрения исторической этнологии, базируясь на собственном опыте эмпирического наблюдения, предполагаем дальнейшее широкое распространение похожего инструментализма в украинской национальной среде. Православно-византийское мировоззрение устойчивее и консервативнее.
Ключевые слова
Лядовский мужской монастырь,
политическая антропология,
культурный ландшафт,
Византия,
политико-антропологическая характеристика местностиАвторы
| Мельник Виктор Мирославович | Киевский национальный университет им. Тараса Шевченко; Винницкий национальный медицинский университет им. Николая Пирогова | кандидат политических наук, ассистент кафедры политологии философского факультета; преподаватель кафедры философии и общественных наук | melnyk1996ethnology@gmail.com |
Всего: 1
Ссылки
Кокряцький С. Твердиня духу подільського: з історії Лядовського скельного монастиря - до його 1000-ліття // Вінницький край. 2012. № 4. С. 130-139.
Мельник В.М. Теоретична конструкція політичної антропології // Гілея: науковий вісник. Збірник наукових праць. 2016. Вип. 113 (10). C. 348-360.
Баландьє Ж. Політична антропологія. Київ : Альтерпрес, 2002. 252 с.
Давиденко В.В. Монастир. Вінниця : О. Власюк, 2005. 254 с.
Мельник В.І. Ті, що у скалі сидять // Україна Молода. 2009. 13 сер. № 147.
Паламарчук Є., Андрієвський І. Зорі Трипілля. Вінниця : Теза, 2007. 142 с.
Давиденко В.В. Вибір преподобного Антонія Печерського // Вінницький край. 2004. № 2. С. 101-112.
Ключевский В.О. Сочинения : в 9 т. / под ред. В.Л. Янина. М. : Мысль, 1987. Т. 1: Курс русской истории, ч. 1. 430 с.
Антонович В.Б. О скальных пещерах на берегу Днестра въ Подольской губернии // Труды VI Археологическаго съезда въ Одессе: (1884 г.) Одесса : Тип. А. Шульце, 1886. Т. 1. С. 86-102.
Мельник В.М. Политико-антропологическое обоснование евразийской социальной интеграции: историографический скифо-сарматизм и географический детерминизм // Гипотеза / Hypothesis : научно-практический журнал. 2018. № 2 (3). С. 13-19.
Мозолевський Б.М. Етнічна географія Скіфії. Київ : Стародавній Світ, 2013. 168 с.
Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М. : Айрис-пресс, 2011. 736 с.
Гнатишина Л. Легенди і перекази про історію заснування Лядівського скельного монастиря // Вісник студентського наукового товариства інституту історії, етнології і права: до 100-річчя заснування ВДПУ ім. М. Коцюбинського. Вінниця : ВДПУ, 2011. Вип. Х. С. 343-348.
Сварчевский А.В. Православное монашество Подолии IV - 30-е гг. ХХ века (исторические очерки - попытка анализа). Винница : ВЦИК, 2009. 56 с.
Мельник В.М. Оборонні укріплення міста Вінниці. Вінниця : Вінницька міська друкарня, 2015. 96 с.
Мельник В.М. Історико-юридичний нарис Аскольдової доби (860-882 рр.): торговельні шляхи і візантійський сюзеренітет // Вісник НТУУ «КПІ». Політологія. Соціологія. Право. 2018. Вип. 3 (39). С. 126-132.
Вернадский Г. Начертание русской истории. М. : Алгоритм, 2008. 336 с.
Гумилев Л.Н. В поисках вымышленного царства. СПб. : Азбука, 2014. 480 с.
Стефановский В. Историко-статистическое описание с. Лядавы Могилёвского уезда // Подольские епархиальные ведомости. 1862. № 3. С. 97-108.
Келлер О.Б. Магдебургское право и другие формы городского права в крупных населенных пунктах Центрально-Восточной Европы: сравнительный налоговый анализ // Аннали юридичної історії. 2018. Т. 2, № 1-2. С. 38-62.
Петрушенко О.Ф., Мельник В.М. Міжнародні фактори української історії: геополітичний контекст та спроба використання візантійської спадщини наприкінці XVI ст. // Феномен Європи: проблеми державотворення : збірник матеріалів наукової конференції молодих вчених з міжнародною участю у Львівському національному університеті ім. І. Франка. Львів : Аннали юридичної історії, 2018. С. 16-20.
Антонович В.Б. Последние времена козачества на правой стороне Днепра // Антонович В.Б. Моя сповідь. Вибрані історичні та публіцистичні твори. Київ : Либідь, 1995. С. 252-372.
Люттвак Э.Н. Стратегия Византийской империи. М. : Русский фонд содействия науке и образованию, 2016. 664 с.
Антонюк Д. Чотирнадцять мандрівок Вінниччиною. Київ : Грані-Т, 2009. 104 с.
Терлюк І.Я. Український націогенез і козацтво в контексті формування української державної ідеї як національної (остання третина XVI - перша половина XVII ст.) // Аннали юридичної історії. 2018. Т. 2, № 1-2. С. 109-123.
Чайковский М.П. Днестровский каньон. Природоведческий очерк. Львов : Каменяр, 1981. 64 с.
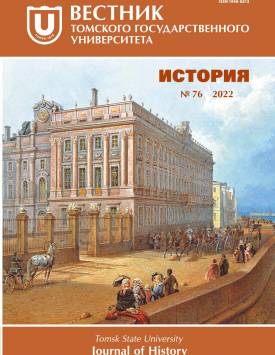

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью