Трансформация восприятия народов Сибири в историческом контексте русской колонизации XVII - начала XX в.
На основе анализа различных видов источников выявляются факторы, определявшие восприятие русскими аборигенных народов Сибири на протяжение XVII - начала XX в. Показано, как под влиянием развития российской государственности, формирования русской идентичности, распространения эволюционных идей трансформировался образ народов Сибири, складывались этнические стереотипы.
Transformation of the Siberian peoples perception in historical context of Russian colonization from XVII Century to the.pdf Проблемы современной национальной политики любого государства невозможно рассматривать вне исторического контекста и понимания наличия различных тенденций в ее осуществлении, их наложения, взаимопроникновения, вследствие чего она как приобретала противоречивый характер, так и содержала в себе синкретичные формы. Изучение направленности и содержания аборигенной политики в Сибири, ее результативности и последствий ее осуществления возможно с учетом тех трансформаций, которые были присущи российскому государству, переживавшему на протяжении XVII - начала XX в. процесс формирования собственной идентичности, связанный с постепенным угасанием Московской государственности, испытавшей ордынское влияние, и нарастанием европейских элементов в политической, социальной, культурной жизни, приведших к утверждению Российской империи как вполне европейской страны. В этой связи актуализируется проблема восприятия русской властью и европейскими переселенцами аборигенных народов Сибири, так как это обстоятельство существенно влияло на систему сибирского управления и межкультурные коммуникации. Следует заметить, что каких-то продуманных и идеологически обоснованных действий по отношению к зауральскому населению в ранний период русской колонизации ни у власти, ни у промышленников, осваивавших новые территории, не было. Установка, зафиксированная в «Повести временных лет», о том, что за Уралом «людье есть», ведущие свое происхождение, как и население Древней Руси, от Иафета, сына Ноя [1. С. 10-22], не могла стать основой для пренебрежительного, высокомерного отношения, исключала какие-либо проявления ксенофобии. Отсюда минимальные сведения об особенностях образа жизни и культуре сибирских народов в ранних русских документах, так как граница «свой-чужой» была заметно размыта. Население древней и средневековой Руси, освоившее лесную, лесостепную и лесотундровую зоны, существенно трансформировало свой образ жизни и основные занятия: переселившиеся к Белому морю, оставив земледелие, занялись зверобойным промыслом и рыболовством. К тому же для новгородцев, а позже и москвичей, издавна контактировавших с неславянским населением Восточно-Европейской равнины, встреча с зауральскими народами, также говорившими на языках уральской и алтайской языковых семей, занимавшихся охотой, рыболовством, скотоводством, не сопровождалась культурным шоком. Уральские горы, вплоть до начала XVIII в. не воспринимавшиеся как граница между Европой и Азией, были просто «Камнем», за которым шли такие же привычные леса и степи и существовали разнообразные культуры. Уже эти обстоятельства предопределили существенные отличия колонизации Сибири русскими от аналогичных процессов, связанных с освоением Нового Света европейцами, для которых встреча с местными народами стала серьезной ментальной проблемой, когда под сомнение ставилось само наличие у них души, а чтобы признать их равными себе, потребовалось не одно столетие. Океаны, отделявшие Европу от новых земель, выступали зримой границей между ними. Важно также заметить, что, хотя Россия формировалась как централизованное государство, ставшее империей, она изначально была полиэтничной, и само ее существование во многом зависело от социальных, политических и культурных компромиссов как между властью и населением, так и между народами, ее населявшими. Европейские государства выходили из Средневековья не только как централизованные, но и как моноэт-ничные и, более того, - национальные государства, т.е. у них культурные, этнические границы совпадали с политическими. Это, конечно, не исключало проживания в них этнических меньшинств, но последние подвергались существенной аккультурации. Выражением процессов формирования государств-наций стал лозунг Великой французской революции: «Один народ, один язык, одно государство». Христианская исключительность европейцев по отношению к народам иных религиозных воззрений по мере секуляризации религии уступала место культурному превосходству, опиравшемуся на идеи эволюционизма, приобретавшему черты европоцентризма и национального превосходства. Не имея опыта повседневных мирных контактов с носителями иных культурных традиций, пронизанные ощущением собственного цивилизационного превосходства, европейские колонисты в основной своей массе несли в Новый Свет дух нетерпимости и ксенофобии. Формирующаяся американская нация для утверждения собственной идентичности, отличной от европейской, тем не менее использовала теорию цивилизационного превосходства и по отношению к аборигенному населению, проведя четкую границу - фронтир - между цивилизацией и дикостью, обосновав политику жесткого вмешательства в образ жизни индейских этносов. Поэтому попытки не просто сравнивать, а отождествлять движение русских за Урал и европейскую колонизацию Нового Света или Австралии, их отношение к аборигенному населению не просто бессмысленны, но и методологически необоснованны - перед нами две модели межкультурных коммуникаций, следствие разных цивилизационных линий развития [2. С. 217-219]. Шерстова Л.И. Трансформация восприятия народов Сибири в историческом контексте русской колонизации 159 Для того чтобы понять, как вырабатывались принципы взаимодействия власти с народами Сибири, как складывались межэтнические и межкультурные отношения, важен контекст как собственно российской, так и аборигенной истории, что позволит установить некие константы, схожие в культуре как пришлого, так и местного населения. Такой подход актуализирует проблему ордынского наследия в московской государственности и дает ответ на вопрос о причинах столь стремительного продвижения к Тихому океану. Понимание того, что на формирующийся менталитет русских, на складывание их государственности серьезное влияние оказал монгольский период их истории, позволяет обозначить черты их евразийского облика, который формировался вследствие усвоения ими ордынского опыта, истоками которого была государственность кочевых империй степей Евразии [2. С. 220-222]. Вместе с тем важно и то, что в Сибири русские столкнулись с тюркоязычными и монголоязычными аборигенными народами, предки которых и образовывали эти империи. И хотя вследствие исторических причин средневековые традиции ранней государственности у них деградировали и были размыты, тем не менее существование Сибирского ханства, княжеств енисейских киргизов, активность якутских тое-нов и бурятских тайшей, в сферу влияния которых было вовлечено фактически все аборигенное сибирское население, за исключением самого северо-востока, создавало уникальную историческую коллизию -встречу на сибирской территории двух имевших общие черты культурно-цивилизационных общностей -русских и аборигенов. К этому следует добавить, что сибирские народы с самого начала присоединения Сибири и в ходе последнего тут же включились в социально-экономическую структуру государства через объясачивание и двигались по пути оформления особого российского податного сословия, во многом сходного с прочими, но и с явными отличиями, обусловленными особым характером налогообложения в виде выплаты ясака -дани пушниной. В Сибири складывалась ситуация, при которой сословная принадлежность совпадала с этнической, но не конкретного сибирского народа, а всего ее аборигенного населения. Однако такое совпадение не было универсальным - в XVII и даже в конце XVIII в. некоторые группы русских поселенцев также именовались «ясачными», а позже - «инородцами». В этой связи показательна ситуация, связанная с сословным определением русских беглецов в Алтайских горах - «каменщиков», которые на выдвинутых ими властям условиях вновь были приняты в российской подданство. В 1792 г. «каменщики» в качестве «ясаш-ных» официально заняли свое место в сословной структуре империи. После образования в 1804 г. Томской губернии Бухтарминская ясачная волость была причислена к Бийскому округу. Согласно «Уставу об управлении инородцев» (1822), «ясашные», бывшие «каменщики», официально стали именоваться по названию сословия - «инородцами», а Бухтарминская ясачная волость была переименована в Бухтармин-скую инородную управу и в 1824 г. насчитывала 275 ревизских душ [3. Л. 62]. Решением Второй ясачной комиссии (1830-е гг.) сословный статус и название органа управления были сохранены. Русские по происхождению бухтарминцы официально считались «инородцами», так как сохранялся вид тягла сибирских аборигенов - ясак. Несмотря на законодательно запрещенную возможность включения в свой состав новых беглецов, в 1849 г. Бухтарминская инородная управа насчитывала уже 411 ревизских душ [4. Л. 1167], а к концу XIX в. - 872 ревизских душ, расселенных в основном в бассейне Бухтармы, в деревнях Сенной, Быковой, Малонарымской, Верх-Бухтарминской, Язо-вой, Фыкальской и т.д. И только в 1876 г. было восстановлено соответствие сословного состояния этой группы и их этнической принадлежности, когда Бух-тарминская инородная управа была преобразована в Верх-Бухтарминскую крестьянскую волость, а «инородцы» Бухтармы официально стали именоваться «крестьянами» и на них были распространены обязанности и виды податей, определенные для русских крестьян Сибири. Этот факт наглядно показывает, что как власть, так и сибирское население в большей степени волновал сословный статус, нежели этническая принадлежность, что является показателем слабо выраженной этнокультурной оппозиции «свой-чужой», размытости русской идентичности как в ранний период русской колонизации, так и в более позднее время. Взаимоотношения власти и аборигенного социума Сибири развивались в направлении унификации последнего с крестьянской общиной. Это особенно отчетливо проявилось после земской реформы XVIII в., когда на земские уездные суды и земских исправников были возложены административно-контрольные функции по отношению к аборигенам, а процедура выбора должностных лиц в ясачных волостях мало чем отличалась от аналогичных в крестьянских. Но наиболее важным как для аборигенного общества, так и для государственных органов управления было принятие в 1822 г. «Устава об управлении инородцев», подготовленного М. Сперанским и Г. Батень-ковым. В этом документе излагались основные права и обязанности сибирских народов [5]. В Уставе впервые в качестве официального термина для наименования сибирских аборигенов вводится слово «инородцы». Позднее, в «Своде законов Российской империи», было дано определение этому понятию: «Под именем инородных разумеются все племена нероссийского происхождения, в Сибири обитающие» [6. C. 358]. Появление такой трактовки знаменательно. В XVII-XVIII вв. для обозначения сибирских аборигенов чаще всего употреблялись слова «ясачные люди», либо просто «ясачные», в начале XVIII в. к ним добавились «иноземцы», «иноверцы». Все три термина (особенно первый и наиболее устойчивый) никак не выделяли сибирское коренное население в этническом плане среди прочих народов государства, а отражали либо его податной статус, либо неправославное вероисповедание, либо, наконец, место обитания за пределами Европейской России [1. С. 102-103]. Термин «инородец» обозначил внимание законодателя на национальной - не русской, а инородной - принадлежности Проблемы антропологии, этнологии и этнографии / Problems of anthropology, ethnology and ethnography 160 человека и знаменовал собой внесение этнического разделения в юридическую практику Российского государства. Это было обусловлено не только влиянием европейских идей о национальных государствах как этапе развития государственности или разворачивающимися национальными движениями среди немецкоговорящего и славянского населения Европы, но и внешним проявлением нарождавшегося русского национального самосознания. Последнее наиболее явственно было представлено в славянофильстве и несло в себе положительный эндогенный заряд. Славянофильство отражало поступательный ход консолидационных процессов внутри русского этноса со всей характерной для такого этнического состояния акцентировкой внимания «на народной самости». Однако этническая консолидация русских шла вяло. В их сознании по-прежнему сохранялись некоторые ментальные установки, уходящие в «ордынское наследство» ранней Московской государственности и связанные с постоянным расширением территории и контактов с иноэтничным населением, которые проявились в славянофильстве. Если для классических западных национальных идеологий характерны «замкнутость на себе», стремление противопоставить себя другим народам и сохранить свою «чистоту», то, например, А.С. Хомяков призывал к слиянию нерусских народов с русскими [7. C. 102]. Этот тезис славянофильства определялся всем опытом развития русского этноса и государства и подчеркивал в том числе стремление власти в XVII в. увеличивать численность подданных Москвы в Сибири, отражавшееся в постоянном напоминании воеводам «полнить волости», что соответствовало ордынской (центральноазиатской) политике увеличения улусов путем включения в них различных групп населения -как завоеванных, так и вошедших добровольно. Русские славянофилы, утверждая идею «слияния», невольно препятствовали завершенности этноконсо-лидационных процессов самих русских. Такие постулаты, помимо воли их авторов, были направлены на постоянное размывание этнокультурной специфики русских и способствовали сохранению ими аморфной этнической идентичности и в XIX в. Тем не менее как в российской общественной мысли, так и в Уставе нашло отражение усиление самосознания русских и осмысления ими своего этнокультурного отличия от других народов империи, но оно не могло принять резкую форму неприятия других народов России. Однако оно было симптомом этнического развития самого крупного народа империи и его подсознательного желания как-то отмежеваться в этническом же плане от всех прочих ее обитателей. Европейское влияние в форме просветительской идеи о прогрессивном, поэтапном развитии человеческого общества в большей мере выразилось в принципе разделения сибирских народов на три разряда, сообразующихся со степенью их «цивилизованности» или, наоборот, «примитивности». В Уставе этот критерий обозначен так: «Все обитающие в Сибири инородные племена, именуемые поныне ясачными, по различной степени гражданского их образования и по настоящему образу жизни разделены на три главных разряда. В первый включаются оседлые, т.е. живущие в городах и селениях; во второй кочевые, занимающие определенные места, по временам года переменяемые; в третий бродячие или ловцы, переходящие с одного места на другое по рекам и урочищам» [5. C. 394]. Существенно, что показателем степени развитости является близость этнической (этносоциальной, территориальной, податной) группы к русскому крестьянскому образу жизни. Поэтому «оседлые инородцы сравниваются с крестьянами во всех податях и повинностях, кроме рекрутской». В соответствии с Уставом было произведено распределение конкретных этносов по разрядам. К разряду оседлых были отнесены: «торговые, как-то: подданные бухарцы и ташкентцы и гости из сих народов», «земледельцы, а именно: татары, бухтарминцы, некоторые ясачные Бийского и Кузнецкого края»; «малочисленные роды, обитающие смешанно с россиянами»; «инородцы, издавна на работах у поселян живущие». Ко второму разряду были причислены: «кочующие земледельцы»; «буряты хорин-ские, селенгинские, аларские; некоторые качинцы и часть других ясачных Бийского и Кузнецкого ведомств»; «южные скотоводы и промышленники: са-гайцы, бийские и кузнечные ясачные, буряты тункин-ские, ольхонские буряты и тунгусы нижнеудинские и т.д.»; «северные скотоводы и промышленники: якуты, остяки нарымские, березовские и обские, вогуличи пелымские, тунгусы енисейские». Наконец, к третьему разряду: «самоеды обдорские, инородцы туруханские, карагасы, низовые инородцы Якутской области: коряки, юкагиры, ламуты и т.д.» [Там же]. Таким образом, важным проявлением нового эволюционного мировоззрения стало отождествление аборигенных групп с разными этапами развития человечества. Постепенно на некоторых из них, имевших в прошлом собственные потестарно-государственные структуры или входивших в состав государственных образований Центральной Азии, переносились черты «дикости», а сами они отожествлялись с первобытностью. Поначалу такой взгляд на ясачных в Сибири нашел отражение в трудах участников академических экспедиций XVIII в., которые заострили внимание на том, что отличало сибирские этносы от европейских. Затем эти суждения проникли в образованные слои российского общества и, наконец, распространились в низах, в которых слово «дикарь», перестав быть научным термином, приобрело оценочное содержание. Между тем современники могли усмотреть для этого внешние основания, так как за 200 лет нахождения в структуре российского государства аборигенное общество заметно изменилось: по сравнению с началом XVII в. оно во многом деградировало. Выразительной чертой дорусской экономики сибирских народов являлся ее комплексный характер. Система комплексного, неспециализированного экологически сбалансированного хозяйства предполагала оптимальное использование всех без исключения природных ресурсов и особенностей этнической территории, с одной стороны, с другой - бережное отношение к окружающему ландшафту, его растительному и животному миру. Шерстова Л.И. Трансформация восприятия народов Сибири в историческом контексте русской колонизации 161 Такой подход закреплялся в менталитете и внешне проявлялся в различных промысловых запретах, регулировании занятий земледелием, в обрядах, связанных со скотоводством и т.д. Ткачество, плетение, выделка шкур, деревообработка, гончарное дело были известны многим сибирским народам. Наибольшей неожиданностью для служилых людей XVII в. оказалось встретить у некоторых народов Сибири развитые горное дело и металлургию. Неслучайно две совершенно разные этнические общности, разделенные сотнями верст, в русских документах получили одинаковые названия: кузнецкие люди, кузнецы, а территория их обитания была известна как «Кузнецкая землица». На севере это кетоязычные этносы, на земле которых возник Енисейск, на юге -тюркоязычные обитатели бассейна Верхней Томи, Горной Шории и Северного Алтая. В документе 1622 г. о последних говорится: «А около Кузнецкого острога на Кондоме и Брассе (Мрассу) реке стоят горы каменные, великие, а в тех горах емлют кузнецкие люди каменья, да то каменья разжигают на дровах и разбивают молотками, просеяв, сыплют понемногу в горн, и в том сливается железо, а в том железе делание панцирей, бехтерцы, шеломы, копья, рогатины и сабли и всякое железо, опричь пещали... а кузнецких людей в Кузнецкой земле тысячи с три, и все те кузнецкие люди горазды делать всякое кузнецкое дело» [8. C. 191]. Укрепление русских в Сибири было напрямую связано с их обороноспособностью, чем объяснялась постоянная потребность в железе. В сибирских документах XVII в. часто встречаются указания на просьбы местных воевод о поставках железа либо свидетельства о его отправке в сибирские города и остроги [9. С. 254-255]. Ситуация усугублялась также и нехваткой кузнецов в русских селениях. В отписке за 1639 г. Яков Тухачевский сообщал, что из Тары в Томск для похода против енисейских киргизов прибыли служилые, «но копий у них нет, и железо в Сибири дорого... всего в Томском городе два кузнечишка» [10. С. 91]. И гораздо позже, в 1761 г., население дер. Убинской просило о переводе к ним из дер. Талицкой крестьян Ли-пуновых, знавших кузнечное дело, так как в Убинской и округе не было ни одного кузнеца [11. С. 102-103]. Развитая металлургия некоторых аборигенов Сибири могла бы оказаться существенной поддержкой для первых русских городов и острогов. Поначалу воеводы разрешали кузнецким людям вносить часть ясака железом. Однако в 1626 г. из Москвы поступило указание о запрете брать железо. Это было связано с двумя обстоятельствами. Во-первых, будучи двоедан-цами, кузнецкие люди выплачивали алман енисейским киргизам и джунгарам железными изделиями, благодаря чему вооружение и доспехи последних не уступали русским [9. С. 92]. В жестком противостоянии их и русских в борьбе за кыштымов сохранение местного кузнечного дела для последних означало усиление обороноспособности их врагов. А во-вторых, и это главное, даже в условиях недостаточной поставки железа из европейской части и отсутствия нужного количества крестьян-кузнецов местные и центральные власти держались за исключительно «пушной» состав ясака. В результате московская ясачная политика с ее гипертрофированной пушной направленностью вступила в серьезное противоречие с основными видами деятельности комплексного хозяйства коренных народов Северного Алтая, Кузнецкой котловины и части Шории. Среди последних на протяжении всего XVII в. были обычными протестные акции в связи с выплатами ясака, вплоть до бегства к киргизам или джунгарам. С другой стороны, эта политика выразилась в претензиях воевод к кузнецким ясачным, основной мотив которых был однообразен: мало того что те «дают ясак не полный», так еще и «худой», «недобрый» [Там же. С. 421-433], т.е. состоящий из низкосортной пушнины. Суть же конфликта крылась в том, что в комплексном хозяйстве кузнецких людей горная добыча и металлургия занимали важное место и были органично встроены в общий жизненный ритм. Промысел пушного зверя, как и везде в Сибири дорусского периода, имел подсобный характер. Непосредственно в комплексе жизнеобеспечения ценные шкурки были малозначимы, занимая свое место лишь в торгово-обменных и отчасти в даннических отношениях. Русские же власти фактически не были заинтересованы в существовании горнодобывающего дела, равно как и охоты для пропитания, развитии аборигенного земледелия и различных подсобных промыслов. Им нужна была пушнина. По всей Сибири они целенаправленно изменяли жизненный уклад аборигенов в своих и государственных интересах, формируя из него специализированный, бесперебойно действующий «механизм» по добыче «мягкой рухляди» и сдаче натуральной подати. Следствием этого становилось не только взаимное недовольство русских и аборигенов, но и заметная деградация, например, металлургии, ее упадок до уровня домашнего ремесла не только у народов Северного Алтая, Кузнецкой котловины, но и у нарымских селькупов, прибайкальских бурят, енисейских кетов. Так, если в XVII в. русские служилые люди постоянно жаловались на плохое качество и скудость пушнины у кузнецких людей, но отмечали их отличные железные изделия, то уже спустя сто лет И. Георги пишет совсем иное: «Промыслы их состоят в скотоводстве, звериной ловле, плавлении металла и землепашестве. Звериная ловля есть главное их дело» [12. С. 163]. Еще через сто лет В.И. Вербицкий свидетельствует: «Их образ жизни полностью связан со зверо-промышленностью, сбором кедрового ореха и земледелием, находящимся в первобытном состоянии. Кроме искусства бегать на лыжах в шорцах в высочайшей степени развит разумный инстинкт на звероловство» [13. С. 32-33]. В 1920-е гг. томский врач А.Н. Аравийский отмечал: «Пушной промысел - основное в жизни их, обусловливающий экономическое состояние семьи, быт и т.д.» [14. С. 124]. Таким образом, к началу XX в. в хозяйственной жизни сибирских народов произошел полный переворот. Разрушилось и переориентировалось традиционное хозяйство, что повлекло изменение всего образа жизни. За ненадобностью из повседневной жизни, менталитета, привычек постепенно исчезали многие этнокультурные традиции, связанные с неохотничьи- Проблемы антропологии, этнологии и этнографии / Problems of anthropology, ethnology and ethnography 162 ми отраслями, поскольку прекращалась их естественная повторяемость, а значит, и передача навыков следующим поколениям. Из-за гипертрофированного значения обязательного пушного промысла весь образ жизни коренных народов Сибири обрел единообразную «охотничью» окраску. «Ясачная» охота не оставляла ни места для прочих компонентов прежней системы хозяйства, ни времени для занятия иными видами деятельности. В результате традиционная экономика деградировала, а ее продукты все более замещались русскими товарами. Сдав ясак и выменяв часть пушнины на русские хлеб, ткани, орудия и т.д., аборигены только так и могли обеспечивать себе относительно нормальное существование. Все производственные навыки, кроме охотничье-рыболовных и собирательских, забывались, а жизнь ясачных все более делалась зависимой от сибирской администрации, оптовых торговцев, перекупщиков. При сугубо специализированном пушном хозяйстве любая случайность - неудачный промысел, лесной пожар и т.д. - была чревата большой бедой, и прежде всего голодом, так как собственная деградированная экономика не могла заполнить лакуну необходимых предметов, а отсутствие пушнины снижало покупательные возможности. Неслучайно сюжет «частого и всеобщего голода» занимает столь заметное место в фольклоре всех коренных этносов Сибири. Необратимые изменения всей хозяйственной жизни проходили постепенно и поэтому были малозамены. Незаметным разрушительным фактором, постоянно действовавшим на протяжении столетий, оказалась привычная выплата ясака, которая разъедала традиционную систему жизнеобеспечения, но не воспринималась как что-то опасное и поэтому даже не отложилась в ментальности. Однако хозяйственные изменения повлекли за собой и другие социальные трансформации. В условиях разрушенной собственной экономики сибирские народы начинали воспроизводить низовые архаичные формы организации социума, которые имели шанс выжить в российской социально-политической системе и существование которых ею в собственных фискальных интересах поощрялось. Коллективная форма выплаты ясака повлекла за собой и укрепление коллективной формы собственности на промысловые угодья, а ею могла стать только всплывшая архаичная родовая собственность. Так, в конце XIX в. А.В. Адрианов писал о шорцах: «Каждый род занимает какой-либо район... у каждого рода - своя тайга» [15. С. 225]. Важно уяснить, с какими видами деятельности связывался институт родовой собственности на землю. Из материалов конца XVIII - конца XIX в. видно, что сначала это были угодья, пригодные для охоты на пушного, реже мясного зверя и кое-где рыбные плесы. С возрастанием во второй половине XIX в. роли торговли кедровым орехом, кедровых откупов и сооружением русскими маслобоен собственность рода стала распространяться и на кедрачи. «Собственность на кедровники также имела родовой характер, - писал Л.П. Потапов. - Каждый сеок (род у южно-сибирских тюрков) имел свое место для сбора орехов. родовые кедровники также охранялись от чужеродцев» [16. С. 135]. Таким образом, два вида хозяйственных занятий -охота и сбор кедрового ореха - входили в сферу родовых отношений, а угодья являлись родовой собственностью. Разные по времени возникновения и минимальному значению в личном хозяйстве, но прямо определяемые внешними факторами - ясаком и торговлей, они функционировали в коллективно-родовых формах и базировались на собственности рода. И если наличие родовой собственности на охотничьи угодья можно объяснить сохранившимися в аборигенном обществе реликтами архаичного общественного устройства, то родовая собственность на кедровники никаких древних предпосылок не имела, так как массовый кедровый промысел и переработка ореха развились не ранее второй половины XIX в. и были прямо связаны с вовлечением народов Сибири в торговые общероссийские отношения, а также с увеличением значимости денежного содержания ясака. Родовая собственность на охотничьи угодья - явление достаточно позднее, укрепившееся и получившее новый импульс под влиянием основополагающей роли пушной охоты, спровоцированной фискальной политикой государства. В XIX в. то же произошло и с кедровыми массивами, но здесь причина крылась не только в государственных потребностях, но и в общем развитии товарного производства в Сибири. При этом важно отметить, что у сибирских народов существовали и другие формы собственности, но государственная политика на фоне разворачивания товарно-денежных отношений в XIX - начале ХХ в. провоцировала возрождение в аборигенной среде наиболее архаичных видов хозяйственной деятельности: охоты и собирательства. В результате происходило и оживление соответствующих им социальных отношений и институтов, одним из которых был род. Аборигенное общество накрывала волна «вторичной первобытности». Неудивительно поэтому, что в XIX в. под влиянием европейского мировоззрения разные сибирские этносы стали отождествляться с ранними этапами развития человечества. В самом «Уставе об управлении инородцев» это нашло отражение не только в выделении трех разрядов (трех ступеней - «дикость», «варварство», «цивилизация» в классических построениях А. Фергюссо-на и Вольтера), но и в отношении к ним конкретных сибирских народов. В целом же аборигенное население Сибири стало восприниматься образованными слоями как пережиток первобытности. С вступлением в силу Устава его терминология постепенно входила в практику земских и губернских администраций, укрепляясь в сознании чиновников, служилых сословий и самих инородцев. Спустя несколько десятков лет термин «род», широко использованный в Уставе для характеристики их социальных отношений, перестал восприниматься только как юридическое понятие, искусственно созданное под влиянием определенных общественно-политических идей. К нему стали относиться как к реально существующему социальному институту аборигенного социума, как к свидетельству его «первобытности». При этом совместились два важных явления: объективно шедшая Шерстова Л.И. Трансформация восприятия народов Сибири в историческом контексте русской колонизации 163 общая архаизация аборигенных народов и субъективное их восприятие, обусловленное широкой европеизацией, ростом научных знаний, в которых термин «род» - едва ли не главный признак первобытных отношений. С тех пор на сибирские народы, многие из которых имели опыт дорусской государственности, стали переносить черты «эпохи родового строя», а их самих соотносить с первобытностью. Однако по-прежнему сохранялось евразийское наследие, которое из принципа «полнить волости» трансформировалось в политику увеличения численности русского населения Сибири путем включения в его состав обрусевших инородцев. Между инородцами и другими сословиями не существовало непреодолимых барьеров: в §13 Устава сказано, что «все вообще оседлые инородцы сравниваются с россиянами в правах и обязанностях по сословиям, в которые они вступают». В §57 отмечается, что «позволяется кочующим, если некоторые из них водворяются оседло, по собственной их воле вступать в сословие государственных крестьян, равно в городовые жители и записываться в гильдии, без всякого ограничения и стеснения и притом с свободою от рекрутства» [5. C. 398]. В этих статьях Устава явственно выступает традиционная двойственность в отношении сибирских аборигенов. Понятие «инородец» (этническое определение) и прежний его аналог «ясачный» (податное состояние) сливаются и, как прежде, обозначают сословную принадлежность народов Сибири. Сословная принадлежность (хотя в ней обозначен этнический маркер) подменяет собой этническую. Возможность перехода из сословия инородцев, например, в сословие мещан так же естественна, как, например, из государственных крестьян в купцы. Таким образом, Устав сохранил прежние условия для перманентного этнического подпитывания русских Сибири: переход «инородцев» в «русские» сословия медленно, но верно должен был сопровождаться изменениями образа жизни, а значит, и всего этнокультурного комплекса, даже если не сопровождался ассимиляцией. Сибирские аборигены достаточно часто пользовались этим правом. Так, Указом Иркутского губернского правления в 1824 г. в городские общества в Иркутском уезде было перечислено, согласно их желанию, 14 бурят, в Верхнеудинском - 38, в Нерчинском - 16, а всего 68 мужчин. Этот процесс протекал в течение всего XIX в. В 1828 г. были перечислены в иркутские мещане крещеные кудинские буряты (6 человек), жившие в городе и ранее. В 1835 г. пятеро селенгин-ских бурят были приняты в мещане г. Кяхты и т.д. К 1857 г. число бурят, живших в местном градском обществе, достигло 88 человек [17. С. 150]. Во второй половине ХХ в. продолжался рост численности переселенцев из Европейской России, увеличивалось число смешанных поселков. С преобладанием денежных выплат все больше сибирских аборигенов становилось в русских деревнях, где они нанимались на разные работы. В результате тесных контактов усиливались аккультурационные процессы, и часть аборигенного населения постепенно переходила на русский язык и русскую культуру, а некоторые меняли и сословную принадлежность. Так, в Кизильской степной думе (Енисейская губерния) с 1837 по 1850-е гг. в крестьяне Ужурской и Балахтинской волостей Ачинского округа перешло 86 аборигенных семей. С 1833 по 1860 г. крестьянское сословие только одной Ужурской волости пополнилось 113 домохозяевами-инородцами [18. С. 187-189]. Важно отметить что во второй половине XIX -начале XX в. меняется территория расселения новых переселенцев: если в XVII в. и несколько позднее основным полем столкновения интересов русских и аборигенов являлась таежная зона, то теперь оно окончательно переместилось в сибирские степи и лесостепи. Меняется и их этнический состав - из изучения районов их выхода следует, что выходцы из Приуралья и Европейского Севера, в XVII в. составлявшие основную долю всех мигрантов, в начале XX столетия превратились в малозаметный «ручеек»: соответственно 5,6 и 0,5%. Теперь резко превалируют уроженцы Малороссии (24,2%), Черноземья (24%), Новороссии (17,4%) и западных губерний (15,8%) [19. С. 47]. С этнокультурной точки зрения это был новый для Сибири тип, ибо развитие и формирование русских в европейской России определялись несколько иными внутренними и внешними факторами и этническими процессами, нежели в Сибири. В отличие от мигрантов XVII и даже XVIII в., переселенцы начала XX в. испытывали подсознательный страх перед «необъятной неведомой страной», труднее вписывались в сибирскую природно-климатическую среду и приспосабливались к ней. Они не имели опыта и традиций повседневного общения с иноэтничным населением, а потому чаще всего относились к аборигенам с опаской и пренебрежением, видя в них «непонятных конкурентов». Новая переселенческая волна не обладала сколько-нибудь заметным следом «евразийского ментального наследия», которое отличало первых русских в Сибири, способствуя скорому установлению прагматичных межэтнических отношений, не оставляя места страху или, напротив, высокомерию в восприятии аборигенов. В то же время новопоселенцы имели более оформленное этническое самосознание, особенно малороссы с их стремлением к известной внутренней замкнутости и устойчивым этнокультурным стереотипом, что не могло не сказаться как на восприятии аборигенов Сибири, так и на отношении к ним, усиливая этнокультурную оппозицию «свой-чужой». В этой связи, например, новокрещеные инородцы алтайских дючин, жившие в миссионерском селении Онгудай Бийского уезда Томской губернии, так описывали динамику своих взаимоотношений с русскими в общественном приговоре от 28 марта 1899 г.: «...Уже лет 20 назад мы организовали из себя в Онгудае селение с сельскими управами... Тогда жили среди нас 3 двора крестьян Алтайской волости, жили в мире и согласии, не было притеснений и не было различия, как ныне “русский-ясачный”. Впоследствии... понаехали крестьяне-новоселы... из разных мест», и теперь хотят сами организовать в Он-гудае сельское общество. Но от этого «враждебность примет широкие размеры: утеснения и захват наших земель усилятся» [20. Л. 8 об.-9]. Проблемы антропологии, этнологии и этнографии / Problems of anthropology, ethnology and ethnography 164 На возрастание социальной и национальной нетерпимости на юге Енисейской губернии в начале XX в. указывали члены Енисейской духовной миссии [21. С. 13]. В конце XIX в. конокрадство, распространенное в Абаканской степи, спровоцировало массовые погромы инородцев переселенцами. Впечатляющая картина изменившихся отношений между русскими (прежде всего, переселенцами) и аборигенами развернута в Отчете Алтайской духовной миссии за 1912 г. «Здешний русский смотрит на алтайца как на предмет наживы, - отмечалось в нем. -Он для него мразь, ничтожество, орда дикая, которую не грех обижать и даже убить... Решение переселенческого вопроса принесло Алта
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 44
Ключевые слова
аборигенная политика в Сибири, сибирские этносы, ясачные, инородцы, славянофильство, модернизационные процессыАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Шерстова Людмила Ивановна | Томский государственный университет | доктор исторических наук, профессор, профессор кафедры российской истории факультета исторических и политических наук | sherstova58@mail.ru |
Ссылки
Демин М.А. Коренные народы Сибири в ранней русской историографии. Барнаул ; СПб. : Изд-во Барнаул. пед. ун-та, 1995. 197 с.
Шерстова Л.И. Концепция фронтира в освоении русскими Сибири // Вестник Томского государственного университета. 2018. № 426. С.217-222.
Государственный архив Томской области (ГАТО). Ф. 144. Оп. 1. Д. 54.
ГАТО. Ф. 2. Оп. 2. Д. 56.
Устав об управлении инородцев // Полное собрание законов Российской империи (ПСЗРИ). СПб., 1830. Т. XXXVIII. С. 394-416.
Свод законов Российской империи, повелением государя императора Николая Павловича составленный. СПб., 1833. Ч. IV, V.
Хомяков А.С. О старом и новом. М. : статьи и очерки / сост. Б.Ф. Егорова. М. : Современник, 1988. 462 с.
Наказ Евдокиму Баскакову // Сборник кн. Хилкова. СПб., 1879. 579 с.
Миллер Г.Ф. История Сибири. М. : Вост. лит., 1999. Т. 1. С. 697 с.
Материалы по истории Хакасии XVII-XVIII вв. / под ред. В.Я. Бутанаева, А. Абдыкалыкова. Абакан : Хакас. гос. ун-т, 1995. 250 с.
Кашкин В.И. Железоделательная промышленность Кузнецкого края в XVII-XVIII веках // Проблемы истории докапиталистических обществ. М., 1934. № 9-10. С. 79-110.
Георги И.Г. Описание всех обитающих в Российском государстве народов и их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. СПб., 1792. Ч. II. 178 с.
Вербицкий В. Алтайские инородцы. М. : Скоропеч. А.А. Левенсон, 1893. XIV, 221 с.
Аравийский А.Н. Шория и шорцы // Труды Томского областного краеведческого музея. Томск, 1927. Т. I. С. 124-138.
Адрианов А.В. Путешествие на Алтай за Саяны, совершенное в 1881 году по поручению Императорского Русского географического общества. СПб., 1886. 276 с.
Потапов Л.П. Очерки по истории шорцев. М.-Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1936. 260 с.
Залкинд Е. М. Общественный строй бурят XVIII и второй половины XIX века. М. : Наука, 1970. 399 с.
Ярилов А.А. Кизильцы и их хозяйство. Юрьев : тип. К. Маттисена, 1899. 366 с.
Русские / отв. ред. В.А. Александров, И.В. Власова, Н.С. Полищук. М. : Наука, 1997. 827 с.
ГАТО. Ф. З. Оп. 45. Д. 244.
Енисейские Епархиальные ведомости. 1919. № 9-10.
Томские Епархиальные ведомости. 1913. № 14. С. 550-558.
Сибирская мысль. Красноярск. 1916. № 12. 19 апр.
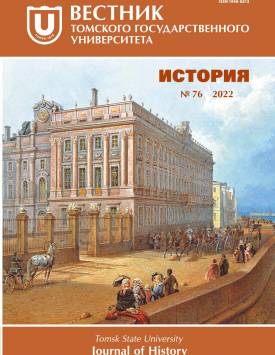
Трансформация восприятия народов Сибири в историческом контексте русской колонизации XVII - начала XX в. | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2022. № 76. DOI: 10.17223/19988613/76/19
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 402

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью