Рассматривается образно-символическая специфика печатной пропаганды большевиков периода 1918-1920 гг. На основе количественного и качественного анализа содержания большевистских газет и плакатов проводится типологизация образов, при помощи которых новая власть формировала представления о внешнем враге. Анализ образа интервентов как «враждебного Другого», формировавшегося на страницах печати и с помощью плакатной графики, дал возможность охарактеризовать методы и приемы, а также ценностные установки советской пропаганды в данный период. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Figurative and symbolic specifics of the Representation of the Entente and the United States in the Soviet Printed Propa.pdf Вмешательство иностранных государств в российскую Гражданскую войну повлекло за собой не только целый ряд политических, военных и экономических последствий. «Интервенты», «империалисты» являлись Другими, или Чужими, образы которых влияли на формирование идентичности, мировоззрения и идеологических установок участников Гражданской войны -как красных, так и их противников. Образы внешнего мира, являвшиеся компонентами политических кампаний и частью представлений различных групп российского общества, подвергались анализу в работах отечественных историков [1, 2]. Изучение информационно-пропагандистских практик большевиков на фоне борьбы с контрреволюцией и интервенцией нередко фокусировалось на визуальной пропаганде. Уже в 1925 г. появилась работа, посвященная агиткам времен Гражданской войны [3]. В целом в советской историографии та или иная характеристика наглядной агитации СССР редко обходилась без очерка или хотя бы упоминания о сюжетной и стилистической специфике плакатов революционной эпохи. Примером тому могут служить работы самих плакатистов [4] и искусствоведов [5, 6]. Вместе с соавторами Н.И. Бабурина провела одно из наиболее крупных современных исследований об отечественном плакате [7], сочетающее искусствоведческие оценки с подробным анализом организации процесса создания плакатной продукции на различных исторических этапах советской эпохи (1917-1991), а также выпустила специальное издание [8], в котором опубликованы не только репродукции образцов наглядной агитации, выпущенных в первые годы советской власти, но и документальные материалы, характеризующие особенности агитационной работы большевиков. В настоящее время продолжается типологизация визуальных образов периода Гражданской войны [9]. В отдельных публикациях рассматривается генезис некоторых из них, а также сравниваются изображения, задействованные в «красной» и «белой» пропаганде [10, 11]. В целом же до сих пор специалисты в части изучения образов Других - врагов и союзников, обращались в большей степени к контексту мировых войн, модернизации российского общества в 1920-1930-е гг. или холодной войны. Анализу содержания и особенностей влияния образов внешнего мира на общество в период Гражданской войны историками уделялось меньше внимания. Остается сравнительной редкостью обращение к региональным аспектам пропагандистской деятельности красных. Кроме того, несмотря на изученность основных приемов и тенденций советской наглядной агитации рассматриваемого периода, практически не проводилась реконструкция образа интервентов в его динамике и вариативности, а также во взаимосвязи с другими смысловыми категориями советской пропаганды. Цель данного исследования состоит в реконструкции содержания и определении ключевых характеристик и приемов формирования образа внешнего врага в советских агитационных и пропагандистских материалах в период Гражданской войны (с 1918 по 1920 г.) Предметом исследования выступает образ стран Антанты и США, осуществлявших интервенцию в Россию в рассматриваемый период. Территориальные рамки исследования охватывают в основном восток России (от Поволжья до Приморья), а также Москву и Петроград в силу использования центральных газет большевиков. Выбор хронологических и территориальных рамок обусловлен сроками осуществления интервенции на востоке России и контекстом вооруженного противостояния с антибольшевистскими правительствами на территории Сибири, претендовавшими на всероссийский статус. Основными источниками выступили материалы большевистской периодической печати - как центральных изданий (Москва и Петроград), так и некоторых региональных газет, выпускавшихся в Поволжье, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Кроме того, важным источником для анализа визуального компонента образа стала наглядная агитация большевиков - плакаты и политические карикатуры. В данной статье для определения подходов к формированию образов иностранных интервентов производился сплошной просмотр текстов газет с целью выявления особенностей дискурса советской пропаганды в отношении бывших союзных держав. Для этого выделялись ключевые смысловые элементы - идео-логемы, а также речевые приемы конструирования образов. Кроме того, для определения особенностей визуализации внешнего врага осуществлялся частотный анализ текстов и изображений 204 советских плакатов 1918-1920 гг.1, в которых так или иначе воспроизводился его образ. Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 22 Становление системы агитации и пропаганды, во многом обеспечившей успехи красных в сложный период Гражданской войны, происходило не сразу. Важной вехой на данном пути стал VIII съезд РКП(б) в марте 1919 г., на котором был принят ряд документов, нацеленных на выстраивание единой и централизованной системы агитации и пропаганды, использовавшей различные средства, важнейшим из которых являлась периодическая печать, рассматриваемая большевиками как «незаменимое средство воздействия на самые широкие массы» [12. С. 73]. Помимо периодики особое значение в информационно-пропагандисткой практике большевиков имели средства наглядной агитации, что было продиктовано рядом причин: во-первых, необходимостью говорить с широкими народными массами доходчивым языком зрительного образа; во-вторых, потребностью оперативно освещать развитие событий при дефиците газет и журналов; в-третьих, недостатком альтернативных форм визуализации политической информации, каковыми в СССР позднее стали, например, газетные или журнальные карикатуры2. Однако превращение плакатной агитации в организованное и массовое средство идеологического воздействия также происходило не сразу. Импульс был дан после учреждения 25 октября 1919 г. Литературно-издательского отдела Политуправления Реввоенсовета (Литиздат ПУР), перед которым ставилась задача - «составление и выпуск периодических изданий, плакатов, картин, рисунков, открытых писем военно-агитационного характера»; а уже к 1 июня 1920 г. этой организацией было выпущено 57 наименований плакатов, из них некоторые тиражом в 100 тыс. экземпляров [8. С. 124-125], что весьма масштабно по меркам Гражданской войны. В целом, несмотря на меры по институализации пропагандистской работы, в революционной стихийности еще не было готового образно-символического канона, и каждый образец плакатной продукции во многом оставался репликой его авторов, так или иначе созвучной культурному коду современников. Это можно сказать и о советской печати 1918-1920-х гг., в которой, особенно на локальном уровне, могли встречаться оригинальные суждения и идеи. Один из первых шагов советской власти в области правотворчества - Декрет о мире - не только выражал основу подхода большевиков к урегулированию мирового конфликта и их ключевой лозунг - «мир без аннексий и контрибуций», но и формировал определенный образ внешнего мира. Совет Народных Комиссаров, обращаясь к правительствам и народам всех стран - участниц войны, особо выделил рабочий класс «.. .трех самых передовых наций человечества и самых крупных участвующих в настоящей войне государств, Англии, Франции и Г ер-мании», на который возлагались особые надежды в деле «освобождения трудящихся» и борьбе за мир [13. С. 1516]. Внешний мир, таким образом, представлялся не только как источник внешних угроз или бедствий, вызванных войной, но и как поле активных преобразований со стороны самих большевиков, призывавших народы к действию, а также «трудящихся» и «эксплуатируемых», которым отводилась роль борцов за мир. Оптика классового подхода позволяла рассматривать мир за пределами советской республики двояко. Оставаясь местом, откуда исходит угроза, он мог выступать и потенциальным источником позитивных изменений. Так, если опасность представлял мировой империализм в лице буржуазии и правительств других государств, то потенциальную помощь мог оказать рабочий класс этих же стран. Превращение всего мира в арену противостояния «угнетателей» и «угнетенных» позволяло в определенных контекстах переформатировать представления о нем. Бывшие союзники рассматривались как часть мировой империалистической системы. Не делалось различий между внутренней и внешней «контрреволюцией». А значит, внешний враг изображался в первую очередь не как представитель иной культуры, языка, религии и т.п., а как персонификация системы неравенства, несправедливости или эксплуатации. В силу этого можно говорить о таком приеме формирования образа внешнего врага, как социальнополитическая стереотипизация. Иностранные политики, промышленники, военные сливались в единый образ классового врага, «империалиста». Дискурсивно это могло выражаться в виде перечислений имен зарубежных лидеров в сочетании с российскими противниками большевиков, дополняться этот список мог и обобщенными категориями. Авторы газетных статей и пропагандистских текстов не делали различий в разновидностях врагов, тем самым как бы принижая их статус и в то же время «упаковывая» описание любого противостояния в любой точке бывшей Российской империи в понятную схему борьбы двух миров. В первом же номере «Правды» за 1918 г. Е. Преображенский, говоря о сути переживаемого конфликта, отмечал, что партия большевиков «.стремится к превращению войны империалистической в войну с империализмом, т.е. в гражданскую войну, т.е. войну классов. В этой войне нам противостоит один фронт, начиная с Вильгельма и Гофмана, продолжая Калединым, Ллойд-Джорджем и кончая социал-патриотами всех стран и народов, которые от открытых империалистов отличаются только методами одурачивания народных масс», - подчеркивал автор [14]. Весной 1918 г. на фоне заключения Брестского мира и слухов в печати о возможном вмешательстве союзников в русские дела большевики позиционировали всех участников мировой войны как врагов республики. «Империалисты всех стран давно точат зубы на Советскую власть революционной России. В этом отношении между империалистами Германии и Австрии и нашими бывшими союзниками нет разницы. Всем им рабоче-крестьянская Россия одинаково ненавистна», - сообщала своим читателям иркутская «Сибирская рабоче-крестьянская газета», редакция которой призывала, «пока враги еще не спелись», использовать передышку и наладить хозяйство в стране [15]. Действия антибольшевистских сил на востоке страны весной и летом 1918 г. расценивались большевиками как предательство и «продажа» Сибири империалистам. Томские большевики, откликаясь на слухи о возможной интервенции, полагали, что как только сибирская буржуазия и «социалисты» поделят между собой власть, Конев К.А., Федосов Е.А. Образно-символическая специфика репрезентации Антанты и США 23 следует ожидать наступления на Сибирь иностранных сил [16]. Высадка интервентов в Приморье в конце лета 1918 г. интерпретировалась как следствие совместных действий буржуазии - российской и зарубежной [17]. В то время как белые в своей пропаганде стремились изобразить гражданскую войну как еще один фронт мировой войны, где сражаются германцы и красные против союзников, для большевиков противостояние выглядело иным образом. В конце 1918 г. «Петроградская правда» писала о том, что «...создание единого революционного фронта - русско-германско-азиатского с его неисчислимыми интеллектуальными организациями, материальными и людскими ресурсами, знаменовало бы окончательное поражение буржуазно-империалистического блока.», а значит, основные усилия союзных держав направлены на разрушение этого революционного фронта [18]. Действия Антанты и США в Версале также рассматривались как очередные попытки «удушения» советской республики всевозможными способами. «Лига народов - лига капиталистических стран задумала стереть с лица земли социализм. Она уговорилась: установить одинаковые правила эксплуатировать и угнетать все колонии в мире, уговорилась установить правила эксплуатации рабочих всех стран», -откликалась большевистская «Ижевская правда» на сообщения о создании Лиги наций в начале 1919 г. [19]. Антибольшевистские лидеры, будучи непосредственными противниками советского правительства, изображались не иначе как «слуги» международного капитала, что предопределило и дальнейший взгляд на них как на несамостоятельную силу. Так, в передовой статье «Известий» Омского ревкома через год после прихода к власти А.В. Колчака отмечалось, что «они («помещик и буржуа» - К.К., Е.Ф.) провозгласили лозунг “Единой Великой России” и призвали на защиту России всех капиталистов мира, всех хищников Англии, Америки, Японии». Указывая, что «Колчак стал тем, чем был все время Семенов: откровенным прислужником иноземного капитала», автор статьи отмечал, что «только Европейская мировая реакция могла бы задушить социалистическую революцию в России», но поскольку «иноземный капитал окован своими рабочими», у него не было возможности активно вмешиваться в русские дела [20]. Имеющаяся выборка плакатов также показывает, что социально-политическая стереотипизация являлась наиболее частым подходом к визуализации образа внешнего врага, встречавшимся в 82% рассмотренных агиток. В основном их сюжеты концентрировались на силах внутренней контрреволюции: конкретных политических деятелях, белогвардейском генералитете, церковниках, кулаках. Более универсальной семантикой отличалось изображение капиталиста - круглого субъекта в смокинге и цилиндре, иногда «украшенном» короной. Так, достаточно сравнить сатирические плакаты В. Дени «Богатей с попом брюхатым и с помещиком богатым из-за гор издалека тащут3 дружно Колчака...» (1919) и «Капитал» (1920). В первом случае по тексту и образам-спутникам ясно, что имелась в виду, скорее, российская буржуазия, тогда как во втором подразумевался уже более глобальный антагонист, иллюстрирующий и такую строку Д. Бедного: «.Своей стальною паутиной опутал я весь шар земной». Зачастую иностранная принадлежность подобного «буржуя» формально пояснялась надписью «Антанта»4. Враждебное капиталистическое окружение олицетворяли и конкретные политические фигуры. Например, на плакате Н. Кочергина с нарочито простонародным названием «Эге капиталисту горе, загоним его в Черно море» (1919) вполне узнаваем американский президент Вильсон. В других сюжетах он вместе с Ллойд-Джорджем и Клемансо то трепещет из-за возникновения III Интернационала (рис. 1), то пускает пузыри5. В целом приведенные выше сюжеты на долгие годы сформировали определенный канон в визуализации внешнего врага, который, с учетом ситуативных изменений, находил отражение в сотнях карикатур на западных политиков и бизнесменов. Пролетарии всех стран, соединитесь „РОССИЙСКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ ФЕДЕРАТИВНАЯ СОВЕТСКАЯ РЕСПУБЛИКА- ПРОЛЕТАРИАТ ЗАПАЛА УГАЕТ К ТЕБЕ НА ПОМОЩЬ А/Ф1 Рис. 1. Худ. В. Мельников, 1919 Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 24 Несмотря на то, что репрезентация союзников исходила из классового подхода, существовал и другой способ конструировании их образов, который можно обозначить как национально-символическую стереотипизацию. Ее суть состояла в указании на характерные черты, присущие политике или общественнополитическому строю каждой державы, а порой и особенностям национального характера населения. Здесь могли актуализироваться бытовавшие в российском обществе национальные и внешнеполитические стереотипы, сочетаемые с «классовой оптикой». Примечательно, что эти же стереотипы могли быть использованы авторами газетных публикаций и по другую сторону фронта - в антибольшевистском лагере. Говоря о «хищнических» устремлениях всех империалистов, советская печать в то же время отмечала особенности их политики, а также не забывала указывать на существовавшие между союзными державами противоречия. Весной 1918 г., откликаясь на японский десант во Владивостоке, пермские большевики отмечали наличие противоречий между США и Японией на Дальнем Востоке. Подчеркивая, что «американские империалисты, заправляющие Соедин. Штатами, - такие же точно хищники, как и империалисты всего мира», автор статьи полагал, что конкуренция между союзниками может воспрепятствовать захвату ими Сибири [21]. В благовещенском большевистском издании в августе 1918 г. отмечалось, что все «империалистические державы» одинаково стремятся к контролю мирового рынка, используя при этом «...насилие, обман несознательных масс, грабеж отсталых стран». Однако автор публикации полагал, что каждая из стран использует более подходящие ей «приемы»: «Германия откровенно и нагло выставляет свой бронированный кулак. Англия в общем действует более осторожно, и тиски, в которые она взяла рабочих за время войны, она сжимает постепенно, но неуклонно, систематично и основательно. Америка же ведет самую тонкую игру. Укрывшись под вывеской “Великая демократия”, она с большим искусством морочит трудовые массы, заманивая их в ловушку самых чудесных обещаний» [22]. Примечательно, что уже в данный период в большевистской прессе начал закрепляться образ США как ведущей капиталистической державы. При этом формировался стереотип о стране, где все общество подчинено идее материальной наживы. «Во главе интернационала королей, банкиров, попов и генералов встали американские капиталисты как представители класса угнетателей стран с наиболее развитым крупнокапиталистическим производством, где только золото владеет умами и сердцами людей, где вся жизнь построена на бесстыдной эксплуатации, обмане и угнетении пролетарских масс», - сообщалось в «Ижевской правде». Вашингтон при этом характеризовался как «центр международной контрреволюции» [23]. Регулярно публиковавшиеся в большевистских газетах новостные публикации из Западной Европы и США свидетельствовали о росте недовольства иностранных рабочих, революционных брожениях и забастовках, рисовали масштабную картину глубокого кризиса, в котором оказалась капиталистическая система. Вместе с тем они сообщали читателям подобно-сти внутреннего положения бывших союзниц России, рабочие и солдаты которых требовали невмешательства в русские дела [24]. Анализ внутреннего положения стран Запада присутствовал в публикациях как ключевых большевистских идеологов, так и местных партийцев. Так, Л.Д Троцкий, рассуждая о причинах и ходе пролетарской революции, оспаривал тезис о том, что в наиболее развитых капиталистических странах, таких как Британия и Франция, революция должна случиться раньше. По его мнению, раннее развитие капитализма в Англии, позволившее создать для части рабочих «привилегированное положение», островное положение, а также консервативная, но гибкая политическая система позволили британской буржуазии затормозить развитие пролетарской революции [25]. Реагируя на сообщения о братании союзных солдат и красноармейцев на Северном фронте, В.А. Быстрян-ский обращал внимание на особенности национального характера англосаксов. «Нас не может удивить отсутствие стойкости американских и английских частей. Мы знаем, что эти государства не имеют прочных милитаристских традиций, что английские и американские рабочие не получили казарменной прививки», -полагал революционер [26]. Подобные рассуждения советских журналистов и идеологов, несомненно, дополняли представления аудитории о союзниках, придавая образам, сконструированным на основе классового подхода, национальные черты и особенности. Национально-символическая стереотипизация присутствует и в визуальных материалах, обнаруживаясь примерно в 49% рассмотренных сюжетов. Существенная доля приходится на отдельные символы «старой» России - флаг, герб, императорскую корону и т.д. Они, как правило, использовались для придания пародийного эффекта изображениям белогвардейских «верховных правителей». Однако присутствовала и символика, опиравшаяся на обобщенные национальные образы внешнего врага. Так, на одном из первых призывных антиимпериалистических плакатов: «За мир народов! На борьбу с буржуазией всех стран» (1918), - среди прочих вариантов антагониста в качестве олицетворения США представал Дядя Сэм. На сатирической агитке В. Дени «Лига наций» (1919) он же восседает вместе с аналогичным по семантике британским Джоном Буллем и неким собирательным французом, который идентифицируется по государственному флагу6. Делая данных персонажей национально узнаваемыми, сатирик стремился показать и классовую сущность, посему каждый из них имел вид антропоморфного денежного мешка. Этим они заметно отличались, например, от плакатного образа польского пана: шапка-конфедератка, кафтан-жупан, шаровары и сабля -характерные атрибуты, явно продиктованные этнокультурным стереотипом о шляхтиче7. Наконец, еще одной особенностью конструирования большевиками образа врага в лице Антанты и США являлась их метафорическая репрезентация в текстах. По-другому ее можно еще охарактеризовать как метод дегуманизации [2. С. 16-17]. В данном слу- Конев К.А., Федосов Е.А. Образно-символическая специфика репрезентации Антанты и США 25 чае авторы применяли языковые средства, придающие комические, зловещие или уничижительные характеристики. В ход шли метафоры, эпитеты, гиперболы, аллегории и другие литературные тропы, а также разговорные речевые обороты, пропагандистские и журналистские штампы. Вариативность при этом зависела лишь от талантов авторов текстов и редакции. Кроме того, на выбор тех или иных метафор влияли задачи издания и его целевая аудитория. Один из наиболее часто употребляемых наборов метафор был связан с образным рядом животного мира, что позволяло полнее и ярче представить политику союзных стран как «хищническую». Так, например, в публикации «Известий Уфимского совета народных комиссаров» англо-французская буржуазия охарактеризована штампом «волки в овечьей шкуре», а эсеры и меньшевики - как «лакеи» и «рыцари буржуазного порядка» [27]. Распространенным было применение словосочетаний «гидра контрреволюции» [28] и «акулы империализма» [29]. Образ гидры как много голового мифического чудовища в данном случае использовался для маркирования многоликой внешней и внутренней контрреволюции и мог применяться как в текстуальной, так и образной форме и их комбинации, например в газетных карикатурах [30]. Порой образы были весьма изобретательными и запоминающимися. «Культурные гиены золотого мешка не насытились русской кровью, облизываясь ею три с половиной года, они снова поднимают вой на светозарный восток, чуя добычи. Их ведут на Россию “русские люди, преданные родине”», - писала симбирская газета, сообщая со ссылкой на зарубежную печать о контрреволюционной деятельности русских дипломатов Маклакова и Извольского, находившей «живой отклик» среди западных «реакционеров и финансистов» [31]. Не жалели красок авторы и при описании капитализма и империализма как формы общественнополитического бытия, стремясь с помощью языка описания подчеркнуть его негативные качества и указать на скорую гибель. «Бездонная пасть его (капитала. -К.К., Е.Ф.) поглощала ежедневно в ненасытную свою утробу сотни тысяч человеческих жизней, безымянных, покорных. Капитал рос, капитал жирнел. Его чудовищное тело раскинулось по всему земному шару. Странное нелепое тело; с единой мыслью, с множественной волей» [32]. Образ хищного, ненасытного существа, подобный тому, что описан выше, в той или иной вариации возникал на страницах печати, карикатурах и плакатах. Нелицеприятные сравнения и эпитеты могли применяться и при характеристике отдельных зарубежных политических и военных деятелей. Президент США В. Вильсон, изображавшийся в качестве лидера наиболее сильной капиталистической державы, удостоился целого ряда издевательских и ироничных характеристик, таких как «заморский разбойник», «мастер “демократического” словоблудия», «буржуазный попугай» [33]. Упор на «болтливость» американского президента неслучаен: именно знаменитые «14 пунктов» Вильсона и его обращение к Съезду советов впоследствии иронически обыгрывались большевистскими авторами. Вместе с тем при характеристике стран Антанты и США допускались не только дегуманизация и создание негативных образов. Ироническое отношение к ним просматривается и в использовании кавычек, в которые помещалось само слово «союзники», и в применении эпитетов - «доблестные», «дружественные», «свободолюбивые» - с целью насмешки над политикой интервентов. Необходимо отметить, что большевиками могли применяться метафоры и образы, которые в то же время использовались и их противниками, например образ «железного кольца», окружившего советскую республику [34]. Дегуманизация врагов путем придания им зооморфных или иных нечеловеческих черт в наглядной агитации позволяла более доходчиво и ярко раскрывать образы, формировавшиеся текстуально. К плакатам, исполненным в подобном символико-аллегорическом ключе, можно отнести 18% рассмотренных сюжетов. При этом они заметно различаются по смысловой и эмоциональной нагрузке. Так, некоторые зооморфизмы несли прежде всего сатирический эффект. Именно его добивался художник В. Дени, изображая Деникина, Колчака и Юденича псами на поводке у Дяди Сэма, Джона Булля и их французского союзника (рис. 2) или же представляя «ясновельможную Польшу» в виде свиньи и собаки8. В то же время орлы-стервятники, которым противостояли герои плакатов «Добей врага!» (1918) и «Белогвардейский хищник терзает тело рабочих и крестьян...» (1920), напротив, по-своему усиливали пафос революционной борьбы, придавая ей аналогию с мифом о Прометее [5. С. 38]. Часть аллегорий происходила из архетипических представлений об абсолютном зле. Например, скелет, типичными атрибутами которого являлись коса, саван или корона, семантически обозначал войну, голод или разруху в целом9. Заметной популярностью у плакатистов обладало изображение гидры (чаще всего поверженной), головы которой шаржировались то под правителей империалистических стран, то под представителей привилегированных классов старой России10. Не раз художники шли по пути прямой аллюзии на иконописный сюжет о Георгии Победоносце, в роли которого мог выступать и лично Л.Д. Троцкий, и собирательный красноармеец, поражавший «дракона контрреволюции», чье изображение детализировалось буржуазным цилиндром или фамилиями лидеров белого движения11. Однако отдельные аллегории отличались большей оригинальностью сюжетного решения. Так, на плакате «Правда против силы, боем против зла» (на укр. яз.; 1920) империализм олицетворяли каменные ворота, стилизованные под хищную голову в короне, из пасти которой выходят колонны войск Антанты с пушками, танками, самолетами, дирижаблями и линкорами (рис. 3). Примечательно, что во главе этого милитаризированного потока шли представители духовенств разных конфессий. В то же время работа Б. Зворыкина «Борьба красного рыцаря с темной силою» (1919), несмотря на заложенный в название мотив сакрального противостояния, предлагала куда менее инфернальную трактовку антагониста, заключавшуюся в изображении двух витязей, визуальная Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 26 семантика которых не была столь уж зловещей12. Следует также учесть, что противник не всегда представал в шаржированных или аллегорических формах. Так, на раннем плакате А. Апсита «Нападение импе риалистов на Советскую Россию» (1918) войска интервентов исполнены во вполне реалистической манере. Иногда враг упоминался вообще только на текстовом уровне. Рис. 2. Худ. В. Дени, 1919 Рис. 3. Неизв. автор, 1920 Рис. 4. Худ. Д. Моор, 1920 Конев К.А., Федосов Е.А. Образно-символическая специфика репрезентации Антанты и США 27 С точки зрения специфики форм плакатных сообщений эпохи Гражданской войны в 44% рассмотрен- 1 3 ных материалов наличествуют призывные лозунги . Вместе с тем после революции пропаганда нередко выполняла повествовательно-объяснительные функции, придавая части агиток (18%) характер инструкции, которая могла быть пространной либо ограничиваться кратким риторическим вопросом, ответ на который давался уже на уровне изображения14. Карикатурные образы врага закономерно сопровождались высмеивающими или разоблачительными текстами, охватившими 43% плакатов, чей формат колебался от отдельных сатирических фраз15 до целых поэтических произведений и сказок на новый революционный лад. В частности, острая поэзия Д. Бедного составила текстовую основу для множества сюжетов, порой представая даже в нескольких вариантах визуализации, как было, например, с пародийным «Манифестом барона фон-Врангеля»16. Сказочный язык плакатного текста, очевидно, позволял не только кратко и доступно пересказать весь нарратив о глобальном социальном конфликте, наглядно представив внешних и внутренних врагов, но и сделать это в режиме некоторой психологической разгрузки. «Дед мусье Капитал», «бабка Контрреволюция», «внучка Социал-соглашатель», «Саботажная сучка», - таковы смеховые персонажи, нарисованные Д. Моором для «Советской Репки» (1920), которая, в свою очередь, будучи положительным героем, получила облик красноармейца в буденовке. На другом своем плакате художник уподобил казака витязю на распутье, а актуальные политические фланги превратил в надписи с былинного камня17 (рис. 4). В содержательном плане рассмотренные плакатные тексты при описании врага опирались на ряд категорий, которые чаще всего семантически были связаны с понятиями капитализм (в 37% плакатов), смерть (28%), гнет (25%). Основным же типами действия, к которым наглядная агитация призывала зрителя перед лицом противника, являлись борьба (24%) и труд (22%), что по-своему подчеркивает примерный паритет наступательных и созидательных мотивов в красной пропаганде. В заключение отметим, что при взгляде на «враждебного Другого» текстовые и изобразительные приемы не всегда имели четкие границы применения, зачастую смешиваясь в рамках одного сообщения - будь то плакат или газетная статья. Визуальные образы и символы различного плана могли присутствовать в рамках одного сюжета, а вслед за разоблачительными куплетами порой гремели лозунги. Оптика классового подхода не исключала применения метафоричного языка описания, включавшего зооморфные образы и стереотипные представления о той или иной бывшей союзной державе, позволяя формировать многомерный образ противника. С одной стороны, он выступал олицетворением и носителем враждебной новому советскому строю системы эксплуатации и угнетения, являясь при этом прочно связанным с внутренними противниками большевиков на базовом - классовом - уровне. С другой стороны, был одновременно монолитен (буржуазные государства / правительства, капиталисты / империалисты) и дискретен (отдельные страны, политики, правительства, войска интервентов). Подобная двойственность достигалась за счет набора узнаваемых и легко воспринимаемых населением характеристик, основанных на знакомых языковых и визуальных компонентах, а также проработанной, единообразной и воспроизводимой от сообщения к сообщению схемы противостояния, основанной на классовом взгляде на текущий конфликт, где «свои» - мировой пролетариат и прочие эксплуатируемые прослойки населения, а противники - всевозможные «угнетатели» и их «прислужники». Вместе с тем вариативность подходов и форматов демонстрирует широкий диапазон политических метафор, часть которых была продиктована не только доктринальными установками большевиков, но и набором архетипических представлений, основанных на более глубоких ментальных кодах. Примечания 1 Количество плакатов по годам: за 1918 г. - 15 шт.; за 1919 г. - 73 шт.; за 1920 г. - 116 шт. 2 Хотя впоследствии известный карикатурист Б. Ефимов называл газету «Правда» «колыбелью советской политической карикатуры», только в четырех ее выпусках за 1918 г. были опубликованы сатирические рисунки. В подшивке за 1920 г. они не обнаруживаются вовсе. 3 Здесь и далее в названиях плакатов орфография сохранена. 4 См., напр., плакаты В. Дени «Не распрыгается!!» (1920) и Д. Моора «Казак, ты с кем? С нами или с ними?» (1920). Интересно, что на эскизе последнего надписи «Антанта» не было. 5 См. плакаты Д. Мельникова «Рабочий крепись! Антанта дрогнула. Пролетариат Запада идет тебе на помощь» (1919), В. Дени «В волнах революции» (1920). 6 Однако в качестве национальных символов Франции обычно рассматриваются Марианна и Галльский петух, изображения которых в дальнейшем использовались и в советской визуальной пропаганде. 7 См., напр., плакаты В. Дени «Спеши пана покрепче вздуть! Барона тоже не забудь!!!» (1920), Д. Моора «Тройку загнали. Пара не вывезет!» (1920), Б. Ефимова «Пани бурлаки...» (на укр. яз.; 1920) и др. 8 См. соответственно плакаты «Антанта» (1919), «Свинья, дрессированная в Париже» (1920) и «Последняя собака Антанты» (1920). 9 Примером подобной трактовки сюжета можно считать работы Д. Моора «Враг у ворот! Он несет рабство, голод и смерть!.» и «Советская Россия осажденный лагерь. Все на оборону!» (оба - 1919). 10 См., напр., плакаты А. Апсита «Обманутым братьям», (1918), С. Мухарского «Царские солдаты. Солдаты революции» (1919). 11 См. плакаты В. Дени «Троцкий поражает дракона контр-революции» (1918), Б. Силкина «Три года социальной революции» (на укр. яз.; 1920), неизв. худ. «1917 - Октябрь - 1920» (1920). 12 Интересно, что автор данного плаката покинул Советскую Россию уже в 1921 г. и спустя некоторое время поселился в Париже. 13 См., напр.: Киселис П. «Товарищи! Все на Урал! Смерть Колчаку и прочим приспешникам царя и капитализма!» (1919). 14 Можно сравнить, например, объем текстового содержания плакатов «Г ерманская революция и задачи Красной Армии.» и «Кто против Советов» (оба - 1919). 15 См., напр.: Дени В. «Антанта под маской мира» (1920). 16 «Манифест» получил хождение в 1920 г. на плакатах В. Дени и неустановленного одесского художника. Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 28 17 Моор Д. «Казак, у тебя одна дорога с трудовой Россией. Направо поедешь, в лапы белых попадешь. Прямо поедешь - разденут до гола (этот путь вел к Антанте, требовавшей возврата «царских долгов». - К.К., Е.Ф.). Налево поедешь - встретят, как брата родного (в «трудовой России». - К.К., Е.Ф.)» (1920).
Голубев А.В., Поршнева О.С. Образ союзника в сознании российского общества в контексте мировых войн. М. : Новый хронограф, 2011. 392 с.
Сенявская Е.С. Противники России в войнах XX века : эволюция «образа врага» в сознании армии и общества. М. : РОССПЭН, 2006. 288 с.
Полонский В.П. Русский революционный плакат. М. : Госиздат, 1925. 192 с.
Корецкий В.Б. Заметки плакатиста. М. : Сов. художник, 1958. 164 с.
Демосфенова Г.Л. Советский политический плакат. М. : Искусство, 1962. 443 с.
Бабурина Н.И. Политический плакат художников Российской Федерации. Л. : Художник РСФСР, 1975. 36 с.
Вашик К., Бабурина Н.И. Реальность утопии. Искусство русского плаката ХХ века. М. : Прогресс-Традиция, 2004. 415 с.
Бабурина Н.И. и др. Агитмассовое искусство Советской России : материалы и документы : Агитпоезда и агитпароходы. Передвижной театр. Политический плакат. 1918-1932 : в 2 т. М. : Искусство, 2002. Т. 1. 299 с.
Гражданская война в образах визуальной пропаганды : словарь-справочник / под ред. Е.А. Орех. СПб. : Скифия принт, 2018. 176 с.
Сергеева О.В. Визуальный язык «красных» и «белых» плакатов периода гражданской войны в России // Журнал социологии и социальной антропологии. 2017. Т. 20, № 4. С. 210-229.
Мухаметзянова Э.В. Отражение идеологических установок «белых» и «красных» в плакатах периода Гражданской войны // Научные горизонты. 2020. № 10 (38). С. 83-89.
Минаева О.Д. Сложные аспекты в изучении истории формирования системы партийно-советских СМИ // История отечественных СМИ. 2017. № 1 (3). С. 67-90.
Декреты советской власти / Ин-т марксизма-ленинизма при ЦК КПСС, Ин-т истории акад. наук СССР. М. : Политиздат, 1957. Т. I: 25 октября 1917 г. - 16 марта 1918 г. 625 с.
Преображенский Е. Гражданская война и война внешняя // Правда. 1918. 16 (3) янв.
Американский дядя // Сибирская рабоче-крестьянская газета (Иркутск). 1918. 2 апр. (20 марта).
Предатели Сибири // Знамя революции (Томск). 1918. 28 мая.
Станский А. Благовещенск. 13 августа // Известия Совета Трудящихся Амурской Социалистической Федеративной Республики. 1918. 13 авг.
В.Ф.Ш. Сводка по внешней политике // Петроградская правда. 1918. 24 дек.
Стахов И. Хищники сговорились // Ижевская правда. 1919. 19 февр.
Смирнов И. 18 ноября 1919 г. // Известия Омского революционного комитета. 1919. 18 нояб.
Наступление японского империализма // Известия Пермского губернского исполнительного комитета советов рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. 1918. 9 апр. (27 марта).
З.Р. Благовещенск, 11 августа // Известия Совета Трудящихся Амурской Социалистической Федеративной Республики. 1918. 11 авг.
Шапошников Р. Великая борьба между Вашингтоном и Москвой // Ижевская правда. 1919. 12 янв.
Против вмешательства в русские дела // Деревенская коммуна (Петроград). 1919. 3 июля.
Троцкий Л. В пути // Волжская коммуна (Самара). 1919. 7 мая.
Быстрянский В. Братание // Петроградская правда. 1918. 27 дек.
Волки в овечьей шкуре // Известия Уфимского совета народных комиссаров. 1918. 11 июня (29 мая).
Товарищи! Революция в опасности // Известия Симбирского совета крестьянских рабочих и солдатских депутатов. 1918. 4 июля (21 июня).
Акулы империализма // Ижевская правда. 1918. 10 дек.
Решительный бой с многоголовой гидрой // Деревенская коммуна (Петроград). 1919. 11 июля.
Б.П. Заграничные гнезда русской контр-революции // Известия Симбирского совета крестьянских рабочих и солдатских депутатов. 1918. 19 июля.
Лебедев Ф.Я. Гибель империализма // Вечерние известия (Иркутск). 1918. 15 мая.
Шапошников Р. Вильсон выехал в Европу // Ижевская правда. 1918. 6 дек.
Круг замкнут // Голос Кунгурского совета крестьянских, рабочих и солдатских депутатов. 1918. 5 июля (22 июня).
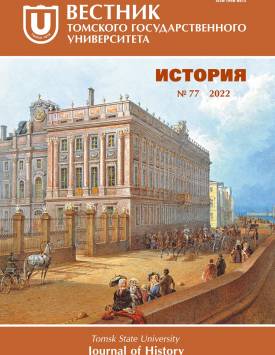

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью