Инновационный потенциал горных угольной промышленности России в начале XXI в.
Дается характеристика инновационного потенциала горных инженеров России в начале XXI в. Выделяются основные этапы и особенности его развития. Определяются ключевые направления инновационной деятельности, их результаты и значение. Делается вывод о том, что, несмотря на устойчивый тренд экспортноориентированного развития угольной промышленности России, заметно снизилась эффективность инновационного потенциала горных инженеров. Механизм его формирования и реализации оказался в ситуации затянувшегося перехода от советской модели к либерально-рыночной. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
The innovative potential of mining engineers in the conditions of increasing the competitiveness of the Russian coal ind.pdf На рубеже XX-XXI вв. в области реализации инновационной политики сложилась весьма противоречивая ситуация. С одной стороны, в это время Россия имела всего около 5% инновационно-активных предприятий [1. С. 119]. С другой - именно тогда понятие «инновации» стало одним из самых употребляемых в теории и практике производственно-экономической деятельности предприятий во многих сегментах отечественной экономики, включая угольную промышленность. По мнению авторитетных экспертов, несмотря на множество проблем в этой сфере деятельности, тогда удалось сохранить ослабленный в 1990-е гг. научно-технический потенциал и сконцентрировать усилия на формировании национальной инновационной системы [2. С. 208]. Все отрасли промышленности взяли курс на энергичное внедрение инноваций, что, безусловно, сыграло важную роль в деле их продвижения, в том числе и в угольной промышленности. Как и прежде, ключевыми проводниками инновационной деятельности на угледобывающих и перерабатывающих предприятиях были горные инженеры. В ходе реализации основных мер по реструктуризации угольной промышленности их численность значительно сократилась в связи с закрытием нерентабельных и неперспективных шахт и разрезов. Вместе с тем на предприятиях остались наиболее преданные и увлеченные любимым делом акторы угледобычи, которая, в свою очередь, динамично меняла свой вектор и содержание в сторону современных и конкурентоспособных подходов устойчивого развития. В первые годы XXI столетия инновационная деятельность в угольной промышленности России была ориентирована на решение таких стратегически важных задач, как улучшение финансового положения предприятий и компаний, создание экономических условий для развития производства и формирования конкурентного рынка угля, кардинальное изменение технического, технологического и экономического уровня угледобычи, обеспечение шахт и разрезов современной высокопроизводительной импортной техникой, повышение объемов экспорта угля, производство высококачественной конечной продукции, в том числе в рамках углехимических, угольно-металлургических и энерготехнологических комплексов и др. [3. С. 30]. Только достигнув существенных результатов по этим направлениям, можно было сохранить энергетическую, экономическую и национальную безопасность российского государства. Однако следует заметить, что внедрение инноваций в сфере угледобычи сдерживалось рядом объективных обстоятельств, что не позволяло иметь высокие темпы генерации и реализации творческого потенциала горных инженеров. К ним относились такие, как инерционный характер отрасли, минимальный государственный протекционизм на фоне активной поддержки предприятий газовой и нефтяной промышленности, географическая отдаленность большинства угольных бассейнов и месторождений от внешних и частично от внутренних рынков (прежде всего Кузбасса), постоянная необходимость повышения квалификации горных инженеров, вызванная усложнением горно-геологических условий ведения подземных и открытых работ, внедрением современной горнодобывающей техники и др. Во многом это предопределило специфику и характер инновационной деятельности горных инженеров, ориентированных на поддержание динамического равновесия производственно-технологических, экономических, финансовых, социальных и экологических факторов в процессе угледобычи в целях устойчивого и конкурентоспособного роста производства. Динамика инновационной деятельности в угольной отрасли имела неоднородный характер, который во мно- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 72 гом повторял общероссийский. В первые годы XXI столетия, как и в других отраслях экономики, она имела положительный характер [4. С. 14]. Данный позитив объясняется стабильно положительной динамикой темпов роста как российской, так и мировой экономики, благоприятной для сырьевых отраслей конъюнктурой мирового рынка, повышением инвестиционной привлекательности предприятий добывающих отраслей промышленности и др. При этом рост потребности отечественной экономики в дополнительных объемах электроэнергии инициировал особое внимание к угольной промышленности, которая продолжала сохранять ключевую роль в топливно-энергетическом комплексе России. Вместе с тем качественное отставание угольной промышленности от других отраслей ТЭКа требовало активного государственного вмешательства в решение таких важных вопросов, как использование положительного международного опыта в сфере «чистой» угольной генерации, увеличение объемов инвестиций в отрасль, реорганизация отраслевой научноисследовательской деятельности и системы подготовки кадров горных инженеров и т.д. Эти задачи стали приоритетными на заседании президиума Государственного совета РФ по проблемам угольной промышленности, который проходил в г. Междуреченске Кемеровской области в 2002 г. Однако детальная критика на нем теоретических и практических результатов подготовки горных инженеров оставила без внимания фундаментальные вопросы генерации и внедрения инноваций в сфере угледобычи [5. С. 18, 78]. Уже в первые годы XXI в. в угольной отрасли формировались новая институциональная и нормативно-правовая база инноваций, а также необходимая для их реализации инфраструктура. В этом направлении особо выделялся ведущий угольный бассейн - Кузбасс. Так, здесь в 2003 г. был принят областной закон «О государственной научно-технической политике Кемеровской области и об организации научной и (или) научно-технической деятельности», в 2008 г. -законы «Об инновационной политике Кемеровской области», «О технопарках в Кемеровской области», «О государственной поддержке инвестиционной, инновационной и производственной деятельности в Кемеровской области» [6. С. 151] и др. Положительные изменения происходили и на федеральном уровне. В 2003 г. Правительство РФ разработало «Энергетическую стратегию России на период до 2020 года» [7], в которой важное место занял вопрос дальнейшей реализации научно-технической и инновационной политики в угольной отрасли. Решение данного вопроса увязывалось с необходимостью роста качества угольной продукции, а также «коренным техническим перевооружением угледобывающего производства». Соответственно, возникла серьезная потребность в повышении квалификации горных инженеров. К решению этой задачи активно подключился Кемеровский региональный институт повышения квалификации им. В.П. Романова Минтопэнерго России, который проводил обучение специалистов по программам профессиональной переподготовки [8. Л. 70]. Здесь в течение рассматриваемого времени повышение квалификации работников угольной промышленности целенаправленно ориентировалось на новые отечественные и зарубежные инновационные технологии. Немаловажно, что все программы организовывались как многофакторные функциональные структуры, соединяющие в общем синергетическом поле компетенции руководителей предприятий угольной отрасли по процессам горных работ, а также функциям и уровням управления. Инновационные способы обучения строились на основе использования компьютерного моделирования внештатных ситуаций в рамках программ обеспечения производственной безопасности и др. [9]. Главным результатом деятельности Кемеровского регионального института повышения квалификации им. В.П. Романова Минтопэнерго России стали десятки тысяч переподготовленных руководителей и специалистов угольной промышленности, готовых к работе с новыми технологиями ведения горных работ. Важные изменения в области повышения инновационной активности молодых специалистов происходили на вузовском уровне. Большую популярность тогда приобрели малые инновационные предприятия (МИП), особенно в Кузбасском государственном техническом университете (КузГТУ) [10. С. 76]. Это создавало дополнительные возможности внедрения инноваций в горном деле, положительно отразилось на привлечении к этому процессу новых, прежде всего молодых, инженеров. Успехи угледобытчиков на рубеже XX-XXI вв. повысили профессиональную заинтересованность молодых выпускников вузов в повышении своей востребованности и конкурентоспособности на рынке труда. В пользу интенсификации инновационной деятельности горных инженеров свидетельствовало то, что благодаря ей уголь вполне уверено возвращал свое конкурентное преимущество в сравнении с другими источниками энергии [11. С. 47], а также создавал условия активного взаимодействия со смежными отраслями, прежде всего коксохимической, которая выделялась своими инновационными показателями. В начале рассматриваемого периода инновационная деятельность в угольной промышленности осуществлялась за счет многих факторов. При этом творческий подход горных инженеров наиболее полно раскрылся при реализации таких мероприятий, как: регулярная подготовка новых запасов угля, готовых к выемке, а также использование новейших схем подготовки шахтного поля, позволявших обеспечивать концентрацию горных работ; использование высокопроизводительных комплексов для выемки угля в очистных забоях, благодаря которым добывался миллион тонн угля в год на одну бригаду; модификация конструкций и технологий крепления горных выработок, что существенно снижало трудоемкость и травмоопасность проходческих работ и повышало надежность подземных горных выработок; внедрение полной конвейеризации внутришахтного транспорта, обеспечивавшей пропускную способность более 30 тыс. т/сут.; повышение производительности труда в два-три раза на базе технического перевооружения производства и концентрации горных работ; реконструкция вентиля- Соловенко И.С., Рожков А.А., Карпенко С.М., Григоренко Е.Р. Инновационный потенциал горных инженеров 73 ции шахт путем бурения скважин большого (1,9-3,6 м) диаметра, применения комбинированной схемы проветривания с газоотсасывающими вентиляторами [3. С. 30]; внедрение в открытом способе добычи угля импортного выемочно -погрузочного оборудования большой единичной мощности в соответствии с технологическими особенностями вскрышных, добычных и транспортных работ. Таким образом, в деятельности горных инженеров явно преобладали технологические инновации процессного типа, основанные на использовании нового производственного оборудования, и / или программного обеспечения, новых технологий, на существенных изменениях в производственном процессе или их совокупности. Они успешно развивались благодаря накопленному опыту, а также ликвидации многих барьеров в области международного сотрудничества. При этом технологические инновации продуктового типа, маркетинговые, организационные и экологические инновации не были столь результативными. Важным результатом инновационной деятельности в первые годы XXI в. являлось то, что (как и в экономике России в целом [12. С. 89]) немного возросла патентная активность [13. С. 59], появились высокие технологии угольного производства категории Hi-Tech использования научно-технического прогресса [3. С. 30], стабильно возрастали производительность труда, а также объемы добычи угля и его экспорт [14. С. 125, 127, 132], динамично совершенствовались учебные планы и программы подготовки в ведущих горных вузах страны (Москва, Санкт-Петербург). Вместе с тем проведенный анализ выявил, что российские угольные компании в сфере инновационной деятельности по-прежнему заметно отставали от зарубежных. Выделяются две основные причины: во-первых, неэффективное использование технологий добычи открытым и подземным способами, которые были вполне адекватны горно-геологическим условиям российских шахт и разрезов и сопоставимы с зарубежными; во-вторых, низкий уровень эксплуатации, обслуживания и текущего ремонта высокопроизводительной техники в условиях, отличающихся не в лучшую сторону от тех, в которых работают угольные предприятия наиболее продвинутых в техническом и технологическом плане стран Северной Америки и Австралии. Это подтверждается информацией отчетных документов, где неоднократно указывается на недостаточный уровень подготовки инженерных кадров для угледобычи [15. Л. 14; 16. Л. 93], а также участие специалистов в непрофильных мероприятиях [17. Л. 30]. Еще большее беспокойство в это время вызывало то, что управление прорывными направлениями инновационной деятельности в организациях и предприятиях подземного способа добычи угля в основном осуществлялось путем внедрения новых импортных очистных и проходческих комбайнов, позволявших проводить горные выработки большого сечения (до 25 м2) с темпами не менее 600 м/мес [18. С. 36]. Это соответствовало общей ситуации в сфере машиностроительного производства России [19. С. 17-18], которое оказалось неготовым адекватно реагировать в том числе на потребности угольного производства. Длительное отсутствие стратегии развития машиностроения все активнее превращало отечественные предприятия в нетто-импортера оборудования для добычи угля, при том что Россия в 2001 г. по этому показателю была пятой страной в мире [20. С. 32]. Тенденция усиления импортозависимости от зарубежного горного оборудования свела к минимуму возможности инновационной деятельности в таком сегменте угледобычи, как совершенствование отечественного горно-шахтного оборудования. При этом надо признать, что поставки и внедрение новой импортной техники имели и положительное воздействие на угольную промышленность России. Использование лучших образцов ведущих фирм-производителей позволяло отечественным горным инженерам иметь великолепные возможности развития инновационного потенциала в плане дальнейшего конструирования, применения материалов, компоновки, дизайна и других качеств, отличавших импортную технику от российской и даже советской. К отрицательным явлениям инновационного развития также относилось и то, что в начале рассматриваемого периода российские угледобывающие предприятия на порядок отставали от зарубежных конкурентов по такому важному направлению инновационной деятельности, как цифровая автоматизация и роботизация процессов угледобычи. В это время иностранные компании, например, уже активно внедряли в горное производство полностью автоматизированные системы транспортировки добываемого полезного ископаемого. В 2005 г. за рубежом на предприятиях горнодобывающей промышленности использовались японские роботы-самосвалы (Komatsu), оснащенные фирменной технологией FrontRunner. Через три года горнодобывающие компании Komatsu и Rio Tinto запустили на одном из угольных разрезов робот-самосвал, снабженный GPS-навигацией, лазерными дальномерами, радарами, телекамерами, системой распознавания препятствий и беспроводной связью. Оператор только следил за деятельностью самосвала, а управление машиной было полностью возложено на компьютер [21]. Для того времени это был революционный прорыв, который обеспечивал в угольной промышленности существенное повышение производительности труда, снижение производственных издержек, а также повышение уровня промышленной безопасности. Динамичные нововведения иностранных компаний в области совершенствования горной техники усиливали ее конкурентоспособность и, как следствие, ее российский импорт, что снижало активность отечественных предприятий и горной науки в создании аналогичной высокотехнологичной машиностроительной продукции. Импортозависимость от поставок горношахтного и горнотранспортного оборудования для угольной отрасли России продолжала неуклонно расти. Максимум «инновационного», что могли в этих условиях реализовать российские угольные компании и машиностроительные предприятия, - это локализация импортозамещаемого оборудования и технологий по его производству, которая подразумевала интеграцию местных производственных, научных и трудовых Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 74 ресурсов с зарубежными компаниями [22]. Однако практика локализации зарубежного оборудования не получила должного распространения. Данная ситуация в корне отличалась от того, что было в советское время и даже первые постсоветские годы, когда развивались самостоятельные, уникальные направления и отечественные школы инновационного типа. Очевидным было отставание от международных стандартов системы вузовской подготовки и последующей переподготовки специалистов, в том числе связанной с генерацией и использованием инноваций. Основной причиной недостаточной подготовки выпускников технических вузов следует считать то, что с их стороны отсутствовала серьезная мотивация. Она нивелировалась отсутствием материальных стимулов к труду [23. С. 53], безудержной коммерциализацией образования, а также дефицитом бюджетных мест в вузах, который вынуждал сохранять контингент выпускников в ущерб их уровню компетентности [24. С. 122] и др. Кроме того, подготовка горных инженеров, так же как и многих других специалистов, осложнилась в это время реформой высшего образования, основной целью которой стал переход на двухуровневую систему обучения. Если для других специальностей такой переход не был столь болезненным, то подготовка горных инженеров, а также инженеров-конструкторов, где требовался большой практический опыт, явно пострадала. Заметно снизилось привлечение к образовательному процессу опытных специали-стов-практиков. В некоторых вузах, как, например, в Юргинском технологическом институте (филиал) Томского политехнического университета, удалось сохранить специалитет. Вместе с тем такой подход не имел масштабного характера. Процесс перехода на бакалавриат к тому же сопровождался частыми изменениями учебных планов и программ, порой в ущерб объему и содержанию спецпредметов. Отдельного внимания требует проблема подготовки горных инженеров к инновационной деятельности. Процесс обучения требовал роста квалификации их преподавателей и научных руководителей в области инновационной деятельности, оптимизации проектирования учебного процесса, усиления межпредметных связей в процессе освоения учебного материала, активного использования самых современных технологий обучения: информационных, модульных, коммуникационных и др. По обоснованному мнению специалистов, учебные планы и программы нуждались в пересмотре перечня дисциплин и часовой нагрузки, а также во внедрении таких новых предметов, как, например, «Инновационный менеджмент» и т.д. Педагоги подчеркивали и то, что процесс обучения будущих инженеров имел стихийный характер по причине недостатка научных исследований, а также рекомендаций по совершенствованию форм и методов обучения в технических вузах [25. С. 73-74, 115, 174-175]. Очень актуальной была задача подготовки инженерных кадров (технологических и геологических специальностей), способных управлять меняющимся производством и решать комплекс задач изучения и высокоэффективного использования полезных ископаемых [26. С. 53]. Проблемы подготовки инженерных кадров создавали условия «старения» персонала [27. С. 91], особенно в научно-исследовательских и проектно-конструкторских организациях отрасли. На фоне благоприятной конъюнктуры мирового рынка угля эти и другие негативные явления в производственно-экономической деятельности стали снижать интенсивность инноваций в угледобыче. Во многом данная ситуация усугублялась отсутсвием четкой методологии учета инноваций, а также государственной и корпоративных программ развития инновационной деятельности. Это подтверждается выводами многих экспертов, представленными ими фактами, которые позволяют утверждать, что очевидный спад инновационной активности в угольной промышленности приходится на 2007 г. Тогда уровень инновационной деятельности предприятий и компаний угольной отрасли не превышал 0,4-0,6% роста рентабельности производства [28. С. 3], снижалась патентная активность [13. С. 59], угольную промышленность не относили к отраслям с высоким научно-техническим потенциалом [19. С. 18], был очень низким удельный вес инженеров в инновационно-активных организациях России [29. С. 38] и др. Начиная с 2008 г. наблюдается рост внимания к генерации и использованию инновационного потенциала горных инженеров. Это было вызвано двумя серьезными причинами: во-первых, ухудшением финансового положения предприятий угольной промышленности, вызванным разразившимся тогда мировым экономическим кризисом; во-вторых, с 2008 г. стали предприниматься первые шаги по цифровизации экономики России, а термин «цифровизация» активно входил в научный оборот. Данный процесс стал рассматриваться как один из ключевых драйверов инновационного развития предприятий и компаний. Использование цифровых технологий имело весьма актуальный характер для угольной промышленности, особенно в сферах диспетчеризации, промышленной безопасности и охраны труда [30]. Проблемы перехода к цифровым технологиям объективно усилили взаимный интерес бизнеса и государства. Улучшение производственно-экономических показателей шахт и разрезов было одинаково важно как бизнесу, так и государству. Бизнес остро нуждался в снижении издержек производства, без чего немыслима высокая конкурентоспособность. Важным фактором повышения возможностей финансирования инновационной деятельности горных инженеров стало укрупнение угольных компаний. Российская экономика уже имела такие известные во всем мире компании, как СУЭК, «Распадская угольная компания», «Южный Кузбасс», «Кузбассразрезуголь», «Южкузбассуголь», «Воркутауголь», «Якутуголь» и др. Фактически все они входили в состав крупнейших горно-металлургических компаний - «Евразуголь», «Мечел», «Уральская горно-металлургическая компания», «Северсталь». Между тем анализ источников финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) в России показывает, что если государство еще стремилось выполнить свои обязательства, Соловенко И.С., Рожков А.А., Карпенко С.М., Григоренко Е.Р. Инновационный потенциал горных инженеров 75 и разрыв по этому источнику финансирования имел всего двух-трехкратное отставание, то по финансированию за счет угольного бизнеса он составлял примерно 12-13 раз [31. С. 8]. Таким образом, плановые показатели увеличения финансирования НИОКР отрасли не выполнялись. Финансовый дефицит сказывался на производственно-экономической деятельности, реализации мероприятий инновационного характера. На этом фоне в 2010 г. делается вывод о необходимости осознанного долевого взаимовыгодного участия в инвестициях персонала предприятий [32. С. 288]. Однако предложенный в диссертации доктора экономических наук Т.А. Коркиной механизм привлечения персонала к решению этой важной задачи не получил широкого распространения в силу недостаточного развития мотивационных факторов. В свою очередь, государство остро нуждалось в наращивании темпов экономического роста страны, которые зависели от увеличения производства электроэнергии при одновременном сокращении энергоемкости единицы ВВП. Решение этой задачи было возможно посредством инновационного технологического развития отраслей ТЭКа. Органы власти и управления своевременно скорректировали нормативно -правовую базу инновационной деятельности. В декабре 2011 г. была утверждена «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 2020 года», разработанная на основе положений Концепции долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года, которая была утверждена в 2008 г. в соответствии с Федеральным законом «О науке и государственной научно-технической политике» [6. С. 147, 151]. Таким образом, инновационная деятельность с этого времени стала одной из важнейших задач в экономической сфере. При этом системный характер решения данной задачи обеспечивал угольной промышленности новые (правовые, финансовые и организационные) возможности подготовки кадров горных инженеров: многие обозначенные приоритетные направления научно-технического и технологического развития страны имели прямое либо косвенное отношение к угледобыче. Активная деятельность федеральных органов власти и управления объяснялась и макроэкономическими причинами. В 2010 г. мировая экономика успешно преодолевала рецессию и постепенно выходила на новый технологический уровень развития. Конкурентоспособность предприятий все больше ориентировалась на увеличение производительности труда, автоматизацию и роботизацию производственных процессов и создание интеллектуальных управленческих систем. Эффективное управление ресурсами стало главным фактором инновационного развития, в том числе и на угледобывающих предприятиях [31. С. 5]. В пользу инновационного развития шахт и разрезов было и то, что отрасль уже прошла этап реструктуризации, остро нуждалась в интенсификации технического и технологического потенциала горных инженеров. Основными направлениями реализации инновационного потенциала горных инженеров в области угледобычи в середине второго десятилетия XXI в. стали совершенствование системы промышленной безопасности и охраны труда, информатизация и цифровизация процессов производства и управления на предприятии, повышение уровня и качества человеческого капитала. Череда крупных аварий на угледобывающих предприятиях страны в 2007 и 2010 гг. выдвинула на первый план в области инноваций задачу обеспечения дополнительных условий и гарантий промышленной безопасности. Инновационные проекты были в основном ориентированы на передовые технологии в сфере подземной добычи угля в виде цифровых высокоскоростных систем коммуникации для организации подземной мобильной связи, позиционирования персонала и техники, аварийного оповещения персонала и т.п. Управление инновационным развитием осуществлялось благодаря следующим мерам: 1) преобразования в развитии безопасности жизнедеятельности на основе использования междисциплинарных знаний и новых принципов при создании коммуникационных технологий; 2) изменения конструктивных решений в действующих технологиях; 3) внедрение оптимальных вариантов ранее применяемых технологий безопасности и жизнедеятельности; 4) разработка и внедрение новых систем контроля безопасности на шахтах и разрезах; 5) разработка новых методов обеспечения безопасности жизнедеятельности. Эти новации обеспечивали рост эффективности промышленной безопасности на предприятиях «от нескольких процентов до сотни раз» [30. С. 190-191]. Динамично, и не только в сфере промышленной безопасности, развивалось во втором десятилетии XXI в. такое очень перспективное направление, как цифрови-зация процессов производства и управления на угледобывающих шахтах и разрезах. Большую роль в этом сыграли как внутренние, так и внешние возможности. Первые варианты цифровых технологий, которые были представлены автоматизированными системами управления, успешно использовались еще в советское время, а затем в 1990-е гг. [33. С. 13-14]. В рассматриваемый период данное направление было тесно связано с реализацией процесса перехода предприятий к функционированию по принципам промышленной стратегии «Индустрия 4.0», т.е. четвертой промышленной революции. Этот переход был тесно связан с достижениями зарубежной научно-технологической мысли и основывался на таких ключевых технологиях, как автономные промышленные роботы, сбор и анализ больших данных (Big Data), виртуальная и дополненная реальность, аддитивные технологии (трехмерная печать), облачные технологии, промышленный Интернет вещей, искусственный интеллект, беспилотные устройства (дроны), блокчейн, создание цифровых двойников производств и др. [34]. Точкой отсчета начала реальной цифровизации в отрасли стал 2015 год. Тогда в самой передовой с точки зрения инноваций угольной компании - СУЭК - был впервые создан цифровой Единый диспетчерско-аналитический центр, из которого стало осуществляться цифровое управление промышленной безопасностью и т.д. В том же Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 76 году на шахте «Полысаевская» была внедрена первая безлюдная роботизированная выемка угля [35]. Цифровой переход в угольной промышленности открыл широкий спектр возможностей для различных инновационных проектов и новых профессиональных компетенций горных инженеров. Так, в ходе реализации новых форм организации проектирования и строительства угольных шахт одним из инновационных решений стало применение технологий BIM-моделирования, которые решают задачу оптимизации этапов проектирования и проектной детализации входящих в модель информационного моделирования этапов жизненного цикла угольной шахты [36. С. 44]. Данное направление моделирования стало очень популярным в профессиональном сообществе отечественных горных инжене-ров-проектировщиков. С середины второго десятилетия XXI в. цифрови-зация угледобывающих шахт и разрезов приобрела существенные масштабы. Ведущие российские компании и предприятия стали работать над внедрением «умных технологий» («Интеллектуальный карьер», «Умная шахта», «Автоматизированная подготовка производства» и др.), которые в будущем должны значительно повысить автоматизацию процессов производства и производительность труда, а также свести к минимуму потери и угрозы. Некоторые из ведущих угольных компаний, например СУЭК и ХК «СДС-уголь», придали этой работе системный характер [37]. Вполне закономерно, что эти компании стали самыми инновационно активными. Однако цифровизация угольной отрасли так и не приобрела масштабного характера. В последних научных работах обращается внимание на то, что до сих пор так и не разработана отраслевая стратегия цифровизации предприятий угольной промышленности, отсутствует система стратегического цифрового управления, не созданы центры цифровых компетенций, не обеспечено развитие информационной инфраструктуры, а также не разработаны программы повышения квалификации по цифровому развитию [38]. Важность цифровизации процессов производства и управления на предприятии быстро осознали горные вузы страны. Созданный на базе Санкт-Петербургского горного университета Научный центр цифровых технологий успешно занимался совершенствованием компетенций в области цифровизации угольной отрасли [39]. Вместе с тем педагогический опыт этого университета оказался мало востребованным. Во второй половине второго десятилетия XXI в. конкурентная борьба в отрасли развернулась в области использования человеческого капитала, который обеспечивал дополнительный рост прибыли компаний [40. С. 14-15]. При этом очевидным являлось то, что наличие новой, высокопроизводительной техники уже не было главным конкурентным преимуществом предприятий. На различие в эффективности использования ресурсов при сопоставимых условиях работы и равной квалификации обратил внимание в своей докторской диссертации Л.В. Лабунский еще в 2004 г. По его расчетам, разрыв в эффективности использования человеческих ресурсов тогда составлял по предприятию три-четыре раза [41. С. 225]. Российские ученые убедительно доказали, что вложения в человеческий капитал давали довольно значительный по объему, длительный по времени и интегральный по характеру экономический и социальный эффект. К основным элементам в структуре человеческого капитала относились здоровье работников, образование, доходы и расходы [42. С. 25, 54]. Использование человеческого капитала как направление инновационной деятельности горных инженеров в условиях относительного финансового благополучия долго недооценивалось. Его продвижение шло трудно, но уверенно. Об этом свидетельствует внимание к данной проблеме как на теоретическом (особенно работы С.А. Волкова), так и практическом уровне (выделялась компания СУЭК) [40, 43]. Раньше других в компании СУЭК было создано отдельное подразделение - Центр инновационных технологий [37. С. 188], который сконцентрировал внимание на использовании человеческого капитала. В результате доля инновационно-активного персонала постоянно возрастала и в конце первого десятилетия XXI в. составляла около 17,5% независимо от географии подразделения [40]. Однако рост инновационной активности и результативности человеческого капитала тормозил дефицит прямых отношений между улучшениями в трудовых процессах и увеличением конкурентоспособности итогового продукта, а также «сформировавшаяся в угольных компаниях культура производственной деятельности работников» [43. С. 19]. Это опять же указывает на методологические недоработки в области формирования и использования инновационного потенциала. Подводя общие итоги, отметим следующие важные моменты. Не вызывает сомнения факт существенного воздействия инновационного потенциала горных инженеров на процесс повышения конкурентоспособности отечественной угольной промышленности. Творческие способности горных инженеров и их инженерная мысль позволили значительно увеличить такие показатели, как угледобыча, экспорт угольной продукции, патентная активность для основного открытого способа добычи (особенно в 2016 и 2017 гг.), производительность труда рабочих и др. [14. С. 128]. В конце второго десятилетия XXI в. из общего числа перспективных шахт и разрезов (46 единиц) высоким инновационным потенциалом обладали 27 предприятий. Из общего числа стабильных шахт и разрезов (с учетом изменений в группах перспективных) средним инновационным потенциалом обладали 28 предприятий, низким - 63. На шахты и разрезы, которые, по полученной оценке, в принципе способны к инновациям, приходилось более 88% общего объема добычи угля по отрасли, из них на предприятия с высоким и средним инновационным потенциалом - около 56% [35]. Историко-экономический анализ деятельности ряда российских угольных компаний свидетельствует об успешном внедрении здесь инновационной техники и технологий, прежде всего в области промышленной безопасности, диспетчеризации производства, обогащения угля, цифровых методов обработки бухгалтерской, финансовой, логистической информации. Появились первые практические опыты безлюдной выемки угля Соловенко И.С., Рожков А.А., Карпенко С.М., Григоренко Е.Р. Инновационный потенциал горных инженеров 77 на шахтах (СУЭК). Началось внедрение роботизации в процессах добычи и транспортировки угля на разрезах (СУЭК, СДС-Уголь). Одним из главных результатов, подтверждающих достаточно высокий уровень инновационного потенциала на протяжении фактически всего рассматриваемого периода, можно считать то, что уровень квалификации, широта и глубина знаний у подготовленных в России специалистов не уступали, а порой и превосходили уровень выпускников горных вузов ближнего и дальнего зарубежья. Иностранные горные компании отмечали широкий кругозор российских специалистов, отдавая должное их профессиональным и управленческим способностям. Столь лестную характеристику, естественно, можно было распространить не на весь корпус российских горных инженеров, но в среднем отечественные специалисты были не менее конкурентоспособны на рынке труда, чем выпускники зарубежных вузов. Российские специалисты занимали многие ключевые позиции в ряде международных горных инжиниринговых и добывающих компаний [44. С. 80-81]. Однако данные выводы касаются выпускников первого десятилетия XXI в., когда в образовательных программах доминировал специалитет. В последних научных работах такая высокая оценка выпускников российских горных вузов не встречается. Это указывает на усиление противоречий в системе подготовки кадров горных инженеров, в том числе в сфере инновационной деятельности. Действительно, в конце второго десятилетия XXI в. интеллектуально-инновационный потенциал горных инженеров России испытывал воздействие как положительных, так и отрицательных факторов. Причем некоторые из них имели амбивалентный характер. Например, санкционная политика стран Запада, с одной стороны, ограничила производственно-экономические и технологические возможности угледобывающих предприятий, с другой стороны, заставила руководство и инженерно-технические кадры искать новые, абсолютно самостоятельные решения инновационного типа. В целом к положительным факторам, которые воздействовали на инновационный потенциал горных инженеров, относились следующие: - продолжавшееся укрупнение угледобывающих компаний в совокупности с расширением интеграционных связей; - к числу инновационно активных секторов экономики относились некоторые смежные с угледобычей производства, например углехимия [45. С. 13]. Отрицательные факторы, влиявшие на инновационный потенциал: - дальнейший рост дефицита инженерно
Ключевые слова
инновации,
потенциал,
горные инженеры,
угольная промышленность,
конкурентоспособностьАвторы
| Соловенко Игорь Сергеевич | Томский политехнический университет | доктор исторических наук, профессор | solovenko71@mail.ru |
| Рожков Анатолий Алексеевич | АО «Росинформуголь»; Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | доктор экономических наук, профессор, директор по науке; профессор кафедры индустриальной стратегии Института экономики и управления промышленными предприятиями им. В.А. Роменца | raa@riu.ru |
| Карпенко Сергей Михайлович | Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» | кандидат технических наук, доцент кафедры энергетики и энергоэффективности горной промышленности Горного института | ksm_62@mail.ru |
| Григоренко Екатерина Романовна | Московский технический университет связи и информатики | главный специалист центра заочного обучения по программам магистратуры, ассистент кафедры цифровой экономики, управления и бизнес-технологий | katiach@bk.ru |
Всего: 4
Ссылки
Бердашкевич А.П. Российская наука: состояние и перспективы // Социс. 2000. № 3. С. 118-123.
Научный потенциал России за 1995-2005 годы : аналитико-стат. сб. / И.В. Зиновьева и др.; гл. ред. Л.Э. Миндели. М. : Центр исслед. про блем развития науки РАН, 2007. 399 с.
Петренко Е.В. Развитие инновационной деятельности в угольной отрасли России // Уголь. 2006. № 1. С. 30-34.
Индикаторы инновационной деятельности: 2007 : стат. сб. М. : Гос. ун-т - Высш. шк. экономики, 2007. 400 с.
Тулеев А.Г. Новая угольная стратегия России рождена в Кузбассе. Кемерово : Кемеровское кн. изд-во, 2002. 174 с.
Фридман Ю.А., Речко Г.Н., Логинова Е.Ю., Оськина Н.А. Институты и инструменты инновационного развития угольной промышленности Кузбасса // Вестник КузГТУ. 2014. № 3 (103). С. 147-154.
Об утверждении Энергетической стратегии России на период до 2020 года : распоряжение Правительства РФ от 28.08.2003 № 1234-р // Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов. URL: https://docs.cntd.ru/document/901872984 (дата обращения: 22.06.2021).
О создании государственных экзаменационных комиссий : приказ Кемеровского регионального института повышения квалификации Мин топэнерго России от 23.05.2000 № 168 // Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. 10112. Оп. 1. Д. 225.
Кемеровский региональный институт повышения квалификации им. В.П. Романова. URL: http://kemripk.ru/ (дата обращения: 23.06.2021).
Ковалев В.А. Технический университет для инновационного развития Кузбасса // Записки Горного института. 2013. Т. 205. С. 70-76.
Совещание по социально-экономическому развитию Сибири // Уголь. 2006. № 6. С. 47.
Кузнецов В.И., Сагиева Г.С. Анализ результатов научно-технической деятельности в России сквозь призму патентной активности // Экономика, статистика, информатика. 2010. № 5. С. 89-95.
Шайдуллина В.К., Павлов В.П., Синельникова В.Н., Ефимова Н.А., Новицкая Л.Ю. Правовые проблемы патентования в угольной промышленности: вызовы цифровой экономики // Уголь. 2019. № 1. С. 58-62.
Рожков А.А., Соловенко И.С. Основные тенденции развития угольной промышленности России в конце XX - начале XXI в. // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 418. С. 124-136.
Протокол совещания центральной комиссии по рассмотрению программ производственной и финансово-хозяйственной деятельности на 2000 год ОАО «Ростовуголь», 24 января 2000 г. // ГАРФ. Ф. 10112. Оп. 1. Д. 216.
Протокол заседания по рассмотрению производственной и финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Дальвостуголь» за I полугодие 2000 года, 6 сентября 2000 г. // ГАРФ. Ф. 10112. Оп. 1. Д. 219.
ГАРФ. Ф. 10112. Оп. 1. Д. 223.
Петренко Е.В. Управление прорывными направлениями инновационной деятельности в угольной отрасли // Уголь. 2006. № 7. С. 34-36.
Бамбаева Н.Я., Уринсон М.Я. Статистический анализ инновационного потенциала Российской Федерации // Вопросы статистики. 2008. № 7. С. 15-19.
Краснянский Г.Л., Ревазов М.А. Современное состояние угольной промышленности и перспективы инновационного развития : отдельные статьи Горного информационно-аналитического бюллетеня (научно-технического журнала). 2010. № 5. 34 с.
Санников В. Роботизированные карьеры и шахты: будущее промышленности // Популярная механика. 2017. 6 окт. URL: https://www.popmech.ru/vehicles/10522-nechelovecheskiy-faktor-roboty/(дата обращения: 24.06.2021).
Рожков А.А., Карпенко С.М., Сукачев А.Б. Импортозависимость в угольной промышленности и перспективы импортозамещения горношахтного оборудования // Горная промышленность. 2017. № 2. С. 25-30.
Ахметжанов Б., Жданкин А.А., Шохор М.М. О возможностях новых систем стимулирования труда на горных предприятиях // Уголь. 2006. № 1.С. 51-53.
Толкачева Н.В. Проблемы исторического образования в технических вузах на современном этапе модернизации высшего образования // Модернизация образовательного процесса в техническом университете при переходе на новые стандарты : материалы учеб.-метод. конф., 17 декабря 2010 г. / под ред. Ю.А. Юркова. Петропавловск-Камчатский : Камчат ГУ, 2012. С. 119-127.
Овчинникова Г.М. Подготовка студентов технических вузов к инновационной профессиональной деятельности : дис.. канд. пед. наук. Тольятти, 2000. 232 с.
Потапов В.П., Нифантов Б.Ф., Заостровский А.Н., Занина О.П. Новые направления реформирования деятельности отраслей промышленности и науки в Кузбассе // Инновации в угольной промышленности : материалы совещ., 8 дек. 2004 г. Кемерово, 2004. С. 40-55.
Пенс И.Ш. О социальной структуре работников угольной промышленности // Вопросы статистики. 2003. № 9. С. 87-91.
Стариков А.П. Пути совершенствования инновационного развития угольных компаний // Уголь. 2007. № 11. С. 3-4.
Пучков Л.А., Петров В.Л. Система подготовки горных инженеров России. Стратегический подход в определении прогноза развития. М. : Изд-во Моск. гос. горного ун-та, 2008. 40 с.
Панихидников С.А., Новоселов С.В. Инновации в обеспечении безопасности жизнедеятельности на угольных шахтах России. СПб. : СПбГУТ, 2017. 212 с.
Плакиткина Л.С. Интенсификация инновационного процесса в угольной промышленности России // Горная промышленность. 2011. № 3. С. 4-11.
Коркина Т.А. Управление инвестициями в человеческий капитал угледобывающих предприятий : дис.. д-ра экон. наук. Челябинск, 2010. 364 с.
Лукичев С.В., Наговицын О.В. Цифровая трансформация горнодобывающей промышленности: прошлое, настоящее, будущее // Горный журнал. 2020. № 9. С. 13-18.
Erboz G. How to Define Industry 4.0: Main Pillars of Industry 4.0 // Managerial Trends in The Development of Enterprises In Globalization Era : International Scientifis Conference. Nitra : Slovak University of Agriculture in Nitra, 2017. С. 765-766.
Текущий архив АО «Росинформуголь».
Астафьева О.Е. Возможности цифровой трансформации угольной промышленности на этапе строительства и проектирования опасных производственных объектов, входящих в инфраструктуру угольной отрасли // Уголь. 2020. № 3. С. 44-48.
Урбан О.А. Социальный механизм институциональной трансформации хозяйства в монопродуктовом регионе : дис.. д-ра социол. наук. Новосибирск, 2014. 482 с.
Власюк Л.И., Сиземов Д.Н., Дмитриева О.В. Стратегические приоритеты цифровой трансформации угольной отрасли Кузбасса // Экономика предприятий. 2020. Т. 13, № 3. С. 328-338.
Итоги круглого стола «Цифровизация угольной промышленности: вызовы и перспективы» (Минтопэнерго, 28.10.2019 г.) // Росинформуголь. URL: https://www.rosugol.ru/news/innovatsii.php?ELEMENT_ID=28238 (дата обращения: 17.03.2020).
Волков С.А. Повышение инновационной активности и результативности человеческого капитала угольной компании : дис.. канд. экон. наук. Курск, 2019. 130 с.
Лабунский Л.В. Методология развития компетенций персонала горнодобывающего предприятия : дис.. д-ра экон. наук. Челябинск, 2004. 329 с.
Сагдеева Л.С. Качество человеческого капитала как фактор социально-экономического развития региона : дис.. канд. экон. наук. СПб., 2012. 245 с.
Харченко Е.В., Волков С.А., Захаров С.И. Повышение инновационной активности и результативности человеческого капитала угольной компании // Уголь. 2021. № 2. С. 18-25.
Твердов А.А., Иванов И.А. Проблемы, задачи и перспективы развития горного образования в России // Горный журнал. 2015. № 12. С. 80-82.
Индикаторы инновационной деятельности: 2019 : стат. сб. М. : Гос. ун-т - Высш. шк. Экономики, 2019. 376 с.
Масилова М.Г. Старение персонала как кадровая проблема на предприятиях угольной промышленности // Азимут научных исследований: экономика и управление. 2019. Т. 8, № 2 (27). С. 251-254.
Григорьева Н.В. Формирование профессиональной компетентности будущих инженеров горной промышленности в условиях дуального обучения : дис.. канд. пед. наук. Бийск, 2018. 249 с.
Архипова М., Карпов Е. Анализ и моделирование патентной активности в России и развитых странах мира // РИСК: Ресурсы, Информация, Снабжение, Конкуренция. 2012. № 4. 286-293.
Костарев А.С. Разработка стратегии инновационного развития угледобывающего производственного объединения в условиях смены технологических укладов : дис.. д-ра экон. наук. Челябинск, 2020. 284 с.
Рожков А.А., Карпенко Н.В. Анализ использования отечественного и зарубежного технологического оборудования на угледобывающих предприятиях России // Уголь. 2019. № 7. С. 58-64.
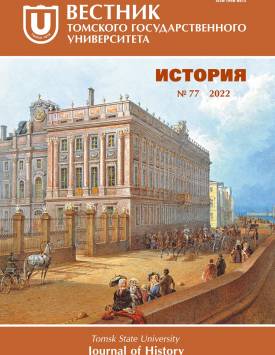

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью