Металлические перстни-печатки из якутских погребений XVIII-XIX вв.
Исследуются обнаруженные в якутских погребениях XVIII-XIX вв. перстни-печатки, в оформлении которых, наряду с традиционным растительным орнаментом, встречаются элементы «степного орнаментализма»: мотивы «корона», «пламенеющий жемчуг», «перевязанная пальметта» и «цветок смоквы». Наиболее широкие их аналогии встречаются в декоре поясных и сбруйных наборов в Хойцегорском могильнике в Западном Забайкалье и памятниках культуры енисейских кыргызов в Центральной Туве и Кузнецкой котловине Алтая. В статье высказывается предположение, что это наследие средневековых кыпчаков. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Metal Signet Rings from Yakut Burials of the 18th - 19th centuries.pdf Среди якутов традиционного времени излюбленным видом украшений были кольца и перстни. В.Л. Прик-лонский, автор серии работ по дореволюционной этнографии якутов, писал: «Я не помню, видел ли я инородца без кольца или перстня на руке. Перстень непременно именной» [1. С. 38-39]. Кольца обычно были медные, а перстни - серебряные, и по материалу изготовления соответственно назывались «алтан биси-лэх» и «кёмюс бисилэх» (якут. алтан - медь; кёмюс -серебро; тюрк.-монг. бисилэх / билзек / бисэлэк - кольцо / перстень) [2. Стб. 477]. Распространены были перстни-печатки со щитком «сирэйдээх бисилэх» круглой, овальной, подквадратной формы. Довольно часто в материалах якутских погребений встречаются так называемые «сургучные» перстни-печатки с инициалами из русских букв [3. С. 82; 4. С. 112; 5. С. 152]. Последнее, несмотря на то что в музейных и частных коллекциях встречаются серебряные печатки с руническими знаками, схожими с «буквами» орхоно-енисейского алфавита [6. С. 273-274], послужило основным доводом в пользу мнения о том, что перстень у якутов появился под влиянием русской культуры. А.И. Саввинов в своей монографии о металлических украшениях якутов XIX - начала ХХ в. высказывает предположение, что якутские перстни, возможно, имеют более древние традиции, чем принято считать [7. С. 63]. Это отчасти подтверждается находкой бронзового перстня на поселении Кердюген в Мегино-Кангаласском районе, датируемом XIV-XVI вв. По описанию А.Н. Прокопьевой, на округлой плоскости печатки оттиснуты зооморфные изображения, возможно, льва и лошади (единорога?), стоящих на задних конечностях. Между ними выгравирована веточка, наверху которой прорисована «порхающая птичка» (рис. 1, 1). Автор считает, что сюжет и композиция иконографии привнесены из русской геральдической традиции [8. С. 210]. Однако следует отметить, что аналогичный сюжет был характерен и для оформления лицевых металлических обкладок якутских парадных седел XIX в. На лицевой обкладке такого седла из сибирской коллекции Американского музея естественной истории изображено мировое дерево, на трех ветвях которого сидят птицы с расправленными крыльями, а по краям стоят на задних конечностях единорог и лев в короне [9. С. 200-201, рис. 214]. В свое время А.П. Окладников отметил сходство в торевтике якутских седел с кудыргинскими обкладками [10. С. 230-231, рис. 72]. Геральдические изображения льва и единорога, по мнению Д.Г. Савинова, являются отражением древнетюркской раннесредневековой традиции, унаследованной, в свою очередь, от соседних цивилизаций -Сасанидского Ирана и Китая [11. С. 24]. Все это дает основание предположить, что металлические перстни-печатки входили в традиционный набор украшений якутов задолго до прихода русских в Ленский край. Перстни-печатки имели широкое распространение у тюрков Сибири в период расцвета государственных образований. Они выделяются в общем массиве украшений своими размерами и символикой. На их щитках нанесены тамги, личины, изображения воинов на лошади и т.д. В археологических памятниках Сибири единичные находки перстней-печаток зафиксированы и в более ранних памятниках Северного Приобья [12] и Томского Прииртышья [13]. В пользу местного центра возникновения перстней в Приобском регионе отчасти свидетельствует находка бронзового перстня в городище Пламя Сибири-6 в Среднем Приобье, датируемом VI-IX вв. [14. С. 34, рис. 2, 2]. Такого же мнения придерживается А.А. Адамов относительно находок в Приуралье, где сложился вполне самостоятельный ювелирный центр, развивавший собственные сюжетные орнаментальные традиции в изготовлении серебряных черненых перстней [15. С. 36]. Кольцевидные перстни с плоским щитком наряду с серьгами в виде знака вопроса с длинным перевитым стержнем фиксируются в археологических памятниках средневековых кочевников степей Приуралья (XI-ХШ вв.), которых можно соотносить с кимако-кыпчакскими племенами [16. С. 56]. На рубеже I-II тыс. военная и политическая экспансия «Кыргызского великодержавия» способствовала распространению в разных областях Центральной Азии и Южной Сибири не только сходных по стилю, но и чрезвычайно близких по декоративным композициям изделий, заимствованных из искусства Сасанид-ского Ирана и империи Танского Китая [17. С. 349]. Среди них выделяются поясные и сбруйные наборы со сложной системой орнаментации (растительный, «цветочный», «пламеневидный»), лировидные подвески с антропоформными изображениями в короне. Определенный интерес в связи с этим представляет иконография якутских перстней-печаток, в которой присутствуют мотивы и символы, характерные для так называемого «степного орнаментализма» - «корона», «пламенеющий жемчуг», «перевязанная пальметта» и «цветок смоквы». В археологической коллекции материалов погребений XVIII-XIX вв. Саха-французской экспедиции (Mission Archeologique Frangaise en Siberie Orientale; MAFSO) наряду с «сургучными» перстнями-печатками с инициалами встречаются и перстни с изображением «корон» [18. С. 46, рис.]. Авторы отмечают, что подобные перстни с «гербами», как правило, находятся в богатых погребениях и в сочетании с декорированными «парадными» кнутами представляют собой символ родовой власти [Там же. С. 132]. Впервые в археологических памятниках Южной Сибири изображения людей в короне были зафиксированы на поясных лировидных подвесках с сердцевидной прорезью в центре и овальной ножкой в Хойцегорском могильнике в Западном Забайкалье [19]. В дальнейшем аналоги были обнаружены в могильниках Эйлиг-Хем III (Центральная Тува; IX-Х вв.) [20] и Октябрьский (Кузнецкая котловина Алтая; XI-XII вв.) [21], совершенных Бравина Р.И. Металлические перстни-печатки из якутских погребений XVIII-XIX вв. 191 по обряду кремации. По мнению Д.Г. Савинова, подвески подобного типа были характерны для культуры енисейских кыргызов по всей территории ее распространения [22. С. 127-128]. В этом плане весьма примечательной представляется бронзовая фигурная подвеска с небольшой сердцевидной прорезью в центре и округлой ножкой, найденная на стоянке Усть- Тимптон I на р. Алдан [23. С. 197, рис. 1, 2]. В слое I вышеуказанной стоянки также был обнаружен трехлопастный наконечник стрелы [Там же. С. 198], что в комплекте с подвеской позволяет говорить о существовании этнокультурных контактов между племенами Якутии и Байкальского региона в конце I тыс. н.э. Рис. 1. Орнаментальные мотивы на перстях-печатках: 1 - поселение Кердюген; 2 - погребение Охтубут 1; 3 - погребение Охтубут 2; 4, 5 - погребение Аттах; 6 - случайная находка, Намский район; 7 - могильник Ампаардаах; 8 - погребение Мунур-Урях; 9 - погребение Ат Быран III Мотив «корона» в материалах якутских погребений XVIII-XIX вв. фиксируется на семи перстнях. Общий фон для их иконографии составляет традиционный мотив процветшей лиры, что можно сопоставить с обрамленными растительным орнаментом «хойцегор-скими портретами», нанесенными на лировидные подвески. Нагляднее всего мотив лиры представлен в изображении перстня из погребения пожилой женщины, исследованного экспедицией MAFSO в местности Охтубут 1 в Чурапчинском районе (рис. 1, 2). Исследователи торевтики малых форм отмечают, что один из основных элементов большинства хойцегорских корон - это отогнутые книзу крайние лопасти, что придает им вид высокой пальметты, центральный «бутон» которой вариативен [24. С. 77-78]. Иконография перстня-печатки из погребения Охтубут 1 сочетает в себе мотив процветшей лиры и изображение 5-лепестковой короны. Четыре крайних лепестка короны слегка отогнуты книзу, основание короны согласно хойцегор-ской традиции схвачено поперечной полоской. В совокупности вся иконографическая композиция перстня передает силуэт фигуры человека в одеянии округлых форм. В «хойцегорских портретах» люди нарисованы в пышных пелеринах. «Круглые» пелерины с фестон- Проблемы археологии / Problems of archaeology 192 чатыми краями были известны в Сасанидском Иране, где они являлись, прежде всего, элементами одежды мужчин-жрецов. Известны были подобные накидки-пелерины и в раннесредневековом Согде [24. С. 78]. Сходство сюжета якутского перстня с «хойцегорскими портретами» проявляется также в присутствии изображения дуги, соединяющей два крайних стебля лиры и как бы оттеняющей «лицо» человека. В тоже время дугу можно трактовать как полумесяц, который являлся одним из самых распространенных символов манихейства. Внутри лиры начертана каплевидная фигура с острием вниз. Изображения корон на якутских перстнях-печатках типологически близки, но все же имеют различия. Корона на перстне из погребения молодой женщины Охтубут 2 в той же местности имеет три лопасти. Две крайние слегка отогнуты книзу и завершаются завитками (рис. 1, 3), а центральная лопасть прямая с венчающим ее шарообразным навершием с отходящими в разные стороны короткими лучами. Данное изображение можно трактовать как стебель с цветком / бутоном или жезл. Такая же фигура, только меньших размеров, помещена под короной. Корона на перстне из погребения Аттах, исследованного Саха-французской экспедицией в Таттинском районе, имеет пять лопастей (рис. 1, 4). Четыре из них имеют закрученные книзу завитки, которые в нижней части образуют округлые утолщения. Средняя лопасть имеет вид раздвоенного лепестка. Лировидное обрамление изображения нанесено прерывистыми изогнутыми линиями. По отдельности они имеют очертания знака удлиненной «запятой» и фигур, похожих на тамгообразные знаки (например, круг с изогнутыми рогами со сквозным отверстием в центре) или же иероглифы. В этой связи следует отметить, что в одном из погребений могильника Ампаардаах, где также обнаружен перстень с изображением короны, была найдена деревянная лакированная чашка. На ее донышке было выведено «черной тушью или краской что-то наподобие китайского иероглифа...» [3. С. 82]. Изображение на щитке второго перстня из погребения Аттах сильно стерто, хорошо прочитывается только часть короны (рис. 1, 5). Сохранились две лопасти с округлыми завитками. Присутствие рядом с ними трех кружочков позволяет предположить, что, вероятно, лопастей было пять. Основа короны вычерчена четырьмя линиями в виде контура прямоугольника. Две вертикальные, слегка разведенные в стороны и отогнутые наружу линии, отходящие вниз от второй и четвертой лопастей короны, имеют в нижней части завитки в форме круга. Сверху и посередине они соединяются двумя горизонтальными линиями, образуя своего рода четырехугольное основание короны, в результате чего получается фигура, напоминающая по своему начертанию букву «А». По некоторым деталям декора рассматриваемый перстень похож на другой -случайно найденный в Намском районе (рис. 1, 6). Изображенная на нем корона имеет пять лопастей. От середины нижней части ободка короны вниз прочерчены две сильно отогнутые наружу линии с круглыми завитками на концах. По краям изображение окантовано двумя раздвоенными внизу стеблями с побегами-листьями по обе стороны, которые также украшены завитками. Под короной нарисован тамгообразный знак - круг с двумя волнистыми отростками, имевший распространение среди тюрко-монгольских народов Центральной Азии и Южной Сибири. Плохо сохранилось изображение на перстне из могильника Ампаардаах в Мегино-Кангаласском районе (рис. 1, 7). В погребении, в котором обнаружен перстень, находился костяк женщины, одетой в меховую доху и нарядную шубу, украшенную бисерной вышивкой и кожаными аппликациями. На средние пальцы обеих рук были надеты серебряные перстни-печатки, на безымянные - серебряные кольца с неспаянными концами. На щитке одного из перстней прослеживается слабое очертание человека в короне с пятью лопастями. Центральная лопасть прямая, постепенно утолщается кверху и увенчивается круглым навершием. Две лопасти, расположенные с двух сторон от нее, отогнуты книзу и также закручены на концах. Две крайние лопасти отмечены округлыми навершиями. На лице точками отмечены глаза, пряди волос на уровне ушей загнуты вверх. На груди можно разглядеть сложенные вместе руки, кисти которых выделены общей линией, как в «хойцегорских портретах». На человеке, вероятно, надета накидка. Внизу справа от изображения прочерчен эфес (?) кинжала или меча. По стилю портрет человека в короне похож на персонажей манихейских картин Восточного Туркестана, на которых изображены поясные фигуры со сложенными на груди руками [24. С. 79]. Внизу изображения прочерчена дуга. Таким образом, изображения короны на якутских перстнях проявляют сходство с хойцегорскими по ряду деталей: прорисовкам лопастей и оснований корон, присутствию растительной окантовки и изображению дуги, которую можно интерпретировать и как полумесяц. Мотив «пламенеющая жемчужина» был заимствован средневековым населением Саяно-Алтая из искусства Среднего и Переднего Востока, Средней Азии и Китая. В буддизме «пламенеющая жемчужина» - многозначный символ, в том числе знак триединства Будды [25. С. 98-99]. Как отмечают исследователи, в Китае этот символ отождествляли с драгоценным камнем или драгоценной жемчужиной, которой владели два дракона - повелители моря, дождя, воды и хранители несметных богатств. Этот жемчуг осуществлял все желания, наподобие общетюркского камня яда, йата, сата, с помощью которого можно было управлять погодой. Существование веры в магические свойства камня яда отмечено в письменных известиях, датируемых VII в. Лингвисты этот термин считают заимствованным из древнеперсидского языка от слова yatu (волшебство) [26. С. 302]. В торевтике малых форм степной Евразии жемчуг изображается фигурой в виде круга, объятого пламенем, расположенного на основании в виде лепестков - иногда раздвоенных, или же просто дуги. Мотив «пламенеющая жемчужина» представлен в якутских материалах пятью перстнями (см. рис. 1, 2, 3, 4, 6, 8). Орнамент в форме круга часто встречается Бравина Р.И. Металлические перстни-печатки из якутских погребений XVIII-XIX вв. 193 на якутских бытовых предметах разного назначения и называется «тёгюрюк ойуу» (букв. узор «круг»). Некоторые исследователи связывают его с солярным знаком «солнце», исходя из названия металлических дисков «кюн» (буквально «солнце»), нашиваемых на традиционную шапку дьабака и шаманский костюм. Однако якуты в орнаментальном искусстве изображали солнце, как киргизы и алтайцы, - в виде вихреобразной круглой фигуры. Фигуры в форме круга на якутских перстнях обрамлены растительными побегами, напоминающими в данном случае языки пламени, что создает сюжет «пламенеющей жемчужины». Особенно наглядно этот мотив иллюстрируется на примере перстня из погребения Мунур Урях, где под верхней «жемчужиной» прорисовано два переплетающихся побега, а основанием нижней служит раздвоенный лепесток (см. рис. 1, 8). Жемчужина на перстне из погребения Охтубут 1 имеет контур капли с острием, направленным вниз (см. рис. 1, 2). Основанием ее служит мотив «перевязанная пальметта», характерный для поясов типа «Михельдорф-Скалистое», датируемых концом VII - первой половиной VIII в. Исследователи выдвигают гипотезу о том, что появление данного мотива в Степной Евразии связано с расселением различных групп из Великой Болгарии под натиском хазарского нашествия [27. С. 89]. На средневековых росписях Восточного Туркестана жемчуг - это овал, иногда в виде капли острием вверх, помещенный на основании в форме лотоса, что не фиксируется в археологических памятниках Саяно-Алтая тюркского времени [24. С. 171-172]. Таким образом, мотив «жемчужина» в якутской орнаментике проявляет более чем древние черты. Мотив «цветок смоквы» является одним из самых популярных в конце I - начале II тысячелетия у кочевников Саяно-Алтая. Он присутствует в декоре предметов из археологических культур Минусинского края, Кузнецкой котловины Алтая, а также в ладейской культуре Красноярского края. Мотив также встречается в Киргизии, Забайкалье и Северном Китае, в культуре киданей империи Ляо [24. С. 160-161]. «Цветок смоквы» - декоративный мотив в виде шляпки с высокой округлой тульей и опущенными книзу полями из удлиненных лепестков с лентой между ними. Цветы и само дерево смоквы почитались как символ священного дерева Будды, дерева мудрости [25. С. 99]. Данный мотив представлен в наших материалах единственным перстнем из погребения Ат Быраан III в Хангаласском районе (рис. 1, 9), хотя он довольно часто встречается в гравировке серебряных обкладок седел и поясных блях [28. С. 107, табл. V, 4-8]. В якутском варианте «цветок смоквы» почти идентичен имеющимся изображениям в искусстве Саяно-Алтая рубежа I-II тыс. н.э. Выступающая часть цветка имеет слегка округлый конусообразный верх. От опущенных книзу лепестков он отделен горизонтальными линиями-полосками. Удлиненные лепестки прочерчены вертикальными линиями. По мнению У. Йохансен, автора монографического исследования по орнаменту якутов, изображения цветов у северных потомков южных кочевников проявляют черты, свойственные древнему искусству Передней Азии [Там же. С. 59, 93]. Присутствие орнаментальных мотивов религиозного содержания в искусстве якутов позволяет выявить древние корни их традиционного мировоззрения и верований. Инородные элементы - нововведения - воспринимаются только при условии, если они сопоставимы с устоявшимися канонами мифо-ритуальной практики. Манихейская символика небесных светил была близка средневековым кочевникам Южной Сибири и поэтому понятна им. У саяно-алтайских тюркоязычных народов и якутов зафиксирована собственная развитая и общая для всех мифология небесных светил: солнца, луны, звезд [26. С. 83-91]. Даже самая яркая черта манихей-ской мифологии - дуализм (борьба Света и Тьмы, Добра и Зла), является основой мировоззренческих идей и мифологии этих народов. В традиционных воззрениях якутов представления о перерождении души, идее возмещения за грехи, превращении сакральных лиц после смерти в божества и тому подобное свидетельствуют о раннем влиянии буддизма. Вероятно, эти идеи были переняты предками якутов через население Прибайкалья или енисейских кыргызов. По мнению якутского тюрколога Г.Г. Левина, палеография некоторых надписей на якутских серебряных изделиях (табакерке, поясных бляхах) по форме и характеру выполнения «сильно напоминают манихейские знаки» [6. С. 274]. В палеоэтнографии якутов, в первую очередь в материалах раннеякутской кулун-атахской культуры XIV-XVI вв., содержится целый ряд кыргызских и кипчакских элементов. Относительно предметов украшений это в первую очередь проволочные серьги в виде «знака вопроса» с нанизанными бусами, получившие в литературе наименование «кыпчакских», витые гривны, появляющиеся еще в верхнеобской культуре, т.е. в самом начале кыпчакского культурогенеза [17. С. 26-27], различного рода ажурные украшения, наиболее характерные для сросткинской (кимако-кыпчакской) традиции, и т.д. Вместе с элементами культуры енисейских кыргызов, также представленными в орнаментальном декоре парадных седел и перстней-печаток, они создают неповторимый облик традиционной культуры якутов, сохранивших и творчески переработавших многие элементы наследия культуры кочевников Южной Сибири предмонгольского времени.
Ключевые слова
якуты,
перстни,
степной орнаментализм,
енисейские кыргызы,
кыпчакиАвторы
| Бравина Розалия Иннокентьевна | Якутский научный центр СО РАН | доктор исторических наук, профессор, главный научный сотрудник, зав. отделом археологии и этнографии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера СО РАН | bravinari@bk.ru |
Всего: 1
Ссылки
Приклонский В.Л. Материалы по этнографии якутов Якутской области // Известия ВСОИРГО. 1887. Т. 18. С. 1-43.
Пекарский Э.К. Словарь якутского языка. М. : Изд-во АН СССР, 1958. Т. 1. 710 с.
Константинов И.В. Материальная культура якутов XVIII в. (по материалам погребений). Якутск : Якуткнигоиздат, 1971. 212 с.
Гоголев А.И. Археологические памятники Якутии позднего средневековья (XIV-XVIII вв.). Иркутск : Изд-во Иркут. ун-та, 1990. 192 с.
Кирьянов Н.С., Crubezy E., Duchesne S. и др. Раскопки могильного комплекса позднего средневековья «Ат-Дабан» («Ат-Быран») в долине Эркээни Центральной Якутии (по результатам работ Саха-французской археологической экспедиции в 2016 году) // III Международный конгресс средневековой археологии евразийских степей «Между Востоком и Западом: движение культур, технологий и империй» / отв. ред. Н.Н. Крадин, А.Г. Ситдиков. Владивосток : Дальнаука, 2017. С. 148-154.
Левин Г.Г. Была ли письменность у якутов? (к вопросу о руническом письме у народа саха) // Всадники Северной Азии и рождение этноса: этногенез и этническая история саха : материалы Всерос. науч. конф. с междунар. участием, посвящ. 125-летию Г.В. Ксенофонтова и 100-летию Л.Н. Гумилева. Новосибирск : Наука, 2014. С. 271-277.
Саввинов А.И. Традиционные металлические украшения якутов: ХІХ-начало ХХ в. (историко-этнографическое исследование). Новоси бирск : Наука, 2О01. 171 с.
Прокопьева А.Н. Бронзовые изделия поселения Кердюген // Материалы I (XLV) Российской с международным участием археолого этнографической конференции студентов и молодых ученых «Культуры и общества Северной Азии в историческом прошлом и современности». Иркутск, 2005. С. 210-211.
Иванова-Унарова З.И. Материальная и духовная культура народов Якутии в музеях мира (XVII - начало XX вв.) = Material and Spiritual Culture of the Peoples of Yakutia in World Museums (17th - early 20th centuries). Якутск : Бичик, 2017. Кн. 1: Сибирская коллекция в музеях США. 784 с.
Окладников А.П. Якутия до присоединения к Русскому государству // История Якутской АССР. М. ; Л. : Изд-во АН СССР, 1955. Т. 1. 432 с.
Савинов Д.Г. Парадные седла с геральдическими изображениями животных // Археология Южной Сибири : сб. науч. тр., посвящ. 60-летию В.В. Боброва. Кемерово : Кузбассвузиздат, 2005. Вып. 23. С. 19-24.
Чикунова И.Ю. Металлический перстень из Северного Приобья // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. 2017. № 12. С. 174-178.
Плетнева Л.М. Томское Приобье в позднем средневековье (по археологическим источникам). Томск : Изд-во Том. ун-та, 1997. 353 с.
Гордиенко А.В. Молчановско-андрюшинская культура лесного Зауралья // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 2 (22). С. 31-36.
Адамов А.А. Серебряные украшения из Тобольского Прииртышья (по материалам могильника Ивановский 10) // Вестник Томского государственного университета. 2017. № 414. С. 34-39.
Матюшко И.В. Погребальный обряд кочевников степей Приуралья в IX - XIV вв. н.э. : дис.. канд. ист. наук : 07.00.06. Казань, 2008. 375 с.
Киселев С.В. Древняя история Южной Сибири. М. ; Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1949. 364 с.
Мир древних якутов: опыт междисциплинарных исследований (по материалам Саха-французской археологической экспедиции) / под ред. Э. Крюбези, А. Алексеева. Якутск : Изд. дом СВФУ, 2012. 226 с.
Талько-Грынцевич Ю.Д. Материалы к палеоэтнологии Забайкалья. IV // Труды Троицкосавско-Кяхтинского отделения Приамурского Отдела Императорского Русского географического общества. 1900 г. Иркутск, 1902. Т. III, вып. 1. С. 4-60.
Грач А.Д., Савинов Д.Г., Длужневская Г.В. Енисейские кыргызы в центре Тувы (Эйлиг-Хем III как источник по средневековой истории Тувы). М. : Фундамента-Пресс, 1998. 84 с.
Илюшин А.М. Этнокультурная история Кузнецкой котловины в эпоху средневековья. Кемерово : Кузбас. гос. техн. ун-т им. Т.Ф. Горбачева, 2005. 240 с.
Савинов Д.Г. Народы Южной Сибири в древнетюркскую эпоху. Л. : Изд-во ЛГУ, 1984. 174 с.
Степанов А.Д. К аналогиям и происхождению некоторых бронзовых изделий Якутии (к вопросу о южных связях в эпоху железа и раннего Средневековья) // Известия лаборатории древних технологий. Иркутск : Изд-во ИРГТУ, 2007. Вып. 5. С. 196-199.
Король Г.Г. Искусство средневековых кочевников Евразии. Очерки. М. ; Кемерово : Кузбассвузиздат, 2008. 332 с. (Труды сибирской ассоциации исследователей первобытного искусства. Вып. V).
Король Г.Г. Декоративно-прикладное искусство Саяно-Алтая рубежа I-II тыс. н.э. и верования тюрков // Известия Алтайского государственного университета. Сер. История. 2008. № 4/2. С. 98-106.
Алексеев Н.А. Ранние формы религии тюркоязычных народов Сибири. Новосибирск : Наука, 1980. 318 с.
Данич А.В., Крыласова Н.Б. Новый пояс «византийского круга» из средневекового Баяновского могильника в Пермском крае // Археология, этнография и антропология Евразии. 2014. № 3 (59). С. 87-94.
Йохансен У. Орнаментальное искусство якутов: историко-этнографическое исследование. Якутск : Дани Алмас, 2008. 160 с.
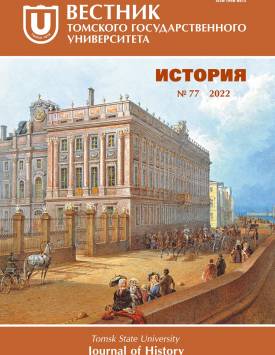

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью