Административная коммуникация гражданских и ведомственных властей на юге Западной Сибири XVIII века: вопросы взаимодействия в оценках современников
Исследование направлено на раскрытие специфики восприятия учеными и путешественниками XVIII в. взаимодействий разноотраслевых властей на южных окраинах Западной Сибири. Источниковая база изысканий представлена знаковыми для истории региона трудами. Авторы констатируют, что привлеченные сочинения не вышли за рамки традиции своего времени, освещение взаимоотношений властей выстраивалось по нескольким основным направлениям: подсудность населения, вопросы приписного крестьянства, охрана предприятий. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Administrative Communication of Civil and Departmental Authorities in the South of Western Siberia of the 18th Century: .pdf XVIII век для Российского государства стал временем интенсивных трансформаций в управленческой среде. На центральном уровне это оказалось связано с переходом к государству нового типа - раннеимперскому, которое в реалиях петровской административной системы ощутимо стремилось к достижению универсалистского характера, сочетая в себе идеи «общего блага» и камерализма, раскрывавшиеся и реализовывавшиеся посредством внедрения принципов коллегиальности, функциональности и строгой регламентации [1. C. 99-107]. Для сибирских окраин столь существенные эволюционные сдвиги становились одновременно и теоретической базой, и неотъемлемым фоном стремительной и масштабной институционализации структур власти, направленной на поиск наиболее оптимального алгоритма их функционирования. На юге Западной Сибири устоявшаяся архитектура гражданского управления в течение первой половины столетия была дополнена ведомственными вертикалями: военной и горнозаводской. Освоенческие реалии и конъюнктура, обусловленные порубежным характером региона, делали неизбежной политическую коммуникацию административных субъектов различной отраслевой принадлежности. Анализ таких взаимодействий представляется значимым, поскольку позволяет выявить латентные приоритеты в имперской модели управления окраинными областями, обнажить стратегии диалога органов власти в условиях начавшихся разложения феодальной системы права и перестройки государственно-бюрократической системы. Помимо законодательных актов и делопроизводственной документации важным каналом реконструкции этой разновидности социально-политических контактов становились труды ученых-очевидцев, в которых глубинные и неоднозначные по своему характеру процессы накладывались на индивидуальное, личностное восприятие, формируя тем самым академический научный дискурс, не являвшийся частью административного, но и не противостоявший ему. В сибиреведческой историографии различные аспекты восприятия дореволюционными путешественниками социально-географического пространства в рамках маршрутов следования и вопросы административной истории региона до сих пор освещаются фактически изолированно друг от друга. Логика развития научного знания в советский период привела к установлению взгляда на труды ученых XVIII в., посвященные Сибири, как недостаточно «целеустремленные», страдающие дискретностью и неполнотой наблюдений, описа-тельностью и созерцательностью [2. C. 140-184]. Современные публикации по этой тематике обнажают очевидную однобокость такого подхода: они посвящены комплексным обзорам маршрутов и результатов деятельности академических экспедиций XVIII в. [3], стремятся реконструировать программы восприятия учеными-очевидцами аборигенного населения [4] или уделяют пристальное внимание материалам путешественников как историческим источникам (дневники, отчеты, картографические материалы членов научных отрядов) [5-7]. В настоящее время очевидна необходимость обстоятельной ревизии дискурса путешественников имперского периода. В определенной степени эту задачу решают исследование С.А. Козлова, раскрывающее путешествия XVIII в. как социальный институт, но при этом фактически полностью игнорирующее аспекты посещения западносибирских территорий [8], и коллективная монография барнаульских историков, на примере одного региона (Алтая) относительно целостно и в довольно широком хронологическом интервале освещающая эволюцию стратегий и практик восприятия пространства в жанре антропологии путешествия [9]. На этом фоне значительно более проработанными являются сюжеты оформления административно-институционального управления в Сибири. В течение последних двух десятилетий появились обстоятельные по своему характеру исследования для каждой из трех складывавшихся на юге региона вертикалей власти: общегражданского управления [10], ведомственного военного [11, 12] и горнозаводского [13, 14]. В ракурсе избранной нами темы общей чертой этих изданий стало привлечение трудов путешественников лишь в качестве дополнительного источника, призванного подтвердить достоверность материалов законодательства и делопроизводства. Таким образом, историография на Бобров Д.С., Гончаров Ю.М. Административная коммуникация гражданских и ведомственных властей 7 данный момент не знает комплексного исследования характера отражения взаимоотношений разноотраслевых властей Западной Сибири в работах дореволюционных ученых-очевидцев. В этой связи целью публикации является освещение целостной картины и выделение специфических характеристик, параметров восприятия участниками академических экспедиций, учеными XVIII в. взаимодействий гражданских и ведомственных властей на юге Западной Сибири. Источниковую основу исследования составили опубликованные труды знаковых для истории региона научных деятелей [15-18]. Сведения и оценки, приводимые учеными и путешественниками в этих работах, отличаются неоднородными характером и содержанием. Прежде всего стоит учитывать довольно пеструю палитру жанровой направленности произведений: от историко-географических описаний до путевых дневниковых записей. Кроме того, территориальные рамки абсолютного большинства привлеченных произведений не ограничиваются Западной Сибирью и включают соседние регионы (Приуралье, Восточная Сибирь), что ощутимо повлияло на «исследовательский фокус» трудов. Наконец, при работе с дискурсом путешественников нельзя забывать об исключительной оригинальности индивидуально-личностного восприятия практически каждого географического или социального явления, а все рассматриваемые авторы были иностранцами, что лишь усиливало соответствующий эффект. В этой связи ключевым для статьи становится метод «крупного плана», предполагающий погружение в идейно-смысловой мир ученого-очевидца и рассмотрение исторических явлений его глазами [19. C. 14], что, в свою очередь, позволяет реконструировать индивидуальную мотивацию и обстоятельства складывания тех или иных авторских суждений, оценок, мифологем [9. C. 17]. Материалы первых посетивших Западную Сибирь академических экспедиций дают скудную информацию о взаимоотношениях разноотраслевых управленческих институций в силу двух ключевых факторов. Во-первых, научные цели и задачи, стоявшие перед отрядами, а также жанровая направленность опубликованных по результатам изысканий трудов не предполагали акцента на административной среде региона. Во-вторых, к моменту визита Д.Г. Мессершмидта в Притомье (1721) и Г.Ф. Миллера в междуречье Оби и Иртыша (1734) [3. C. 14; 20. C. 141] другие вертикали власти, помимо общегражданской, были крайне неразвиты: архитектура ведомственного военного управления имела локальный характер распространения и не вышла за пределы Прииртышья, а иерархия частновладельческих горнозаводских структур находилась на стадии генезиса, очевидно тяготея к утилитаризму и примитивизму. В совокупности эти обстоятельства предопределили центральное внимание путешественников в административной повестке гражданским властям, у которых в подчинении находились иррегулярные войска. Д.Г. Мессершмидт в своих материалах вовсе ограничился оценкой деятельности только гражданской администрации: еще в Тобольске он неоднократно жаловался царю и губернатору на проволочки в отправке экспедиции со стороны губернской канцелярии [21. C. 240-241, 247-249]. А.Х. Элерт отмечает, что сложности в отношениях с властями были обусловлены особенностями склада характера ученого: его жесткостью и стремлением к независимости [3. C. 14]. Первые и единичные по своему характеру упоминания о пересечении интересов гражданских и горнозаводских структур (в то время частновладельческих -«ведомство Колывано-Воскресенского завода» вплоть до середины 1740-х гг. являлось собственностью А.Н. Демидова [13. C. 246-284]) в южных районах Западной Сибири принадлежат Г.Ф. Миллеру. В «Описании Кузнецкого уезда...» отражена лишь одна очевидная линия взаимодействия органов местного управления с горнозаводскими властями - вопрос охраны Колывано-Воскресенских предприятий, для чего, по сведениям историографа, посылались 100 кузнецких казаков, «жалованье которым платит собственник завода (А.Н. Демидов. - Д.Б., Ю.Г.)». Далее немецкий ученый указал на нахождение в подчинении у формировавшихся частновладельческих институций восьми деревень, основанных самим заводчиком [15. C. 27]. Более подробная и содержательная характеристика соотношения административных полномочий гражданских и ведомственных властей дана учеными и путешественниками второй половины XVIII в., в частности И.П. Фальком. В своих «Записках» шведский натуралист представил фактически тотальное доминирование горнозаводских кабинетских структур над воеводской властью в административной среде региона в 1770-е гг. Среди прочего оно, в трактовке ученого, выразилось в размещении Канцелярией Колывано-Воскресенского горного начальства в большинстве уездов (в первую очередь в Бийском и Бердском) контор и управителей, сосредоточивавших в своих руках суд над местным населением (за исключением уголовных дел) и сбор податей [18. C. 436, 457, 514, 518]. Сложившиеся управленческие практики И.П. Фальк попытался раскрыть на примере значимого для Западной Сибири XVIII в. политического центра - Кузнецка, где якобы абсолютное большинство жителей города подчинялось «Горной канцелярии», в сферу же влияния местного воеводы попадало лишь русское население, не привлеченное к работам в округе, и автохтонный элемент. В этой интерпретации фактически единственной функцией глав уездов, распространявшейся на всех жителей подконтрольной территории, оставалась про-мульгационная, т.е. обнародование «высочайших именных повелений» - императорских указов, законов [Там же. C. 436, 528-529, 545]. На Иртыше, по свидетельствам шведского путешественника, многие гражданские поселения находились под юрисдикцией военных («старост из солдат»). Стоит отметить, что на локальном уровне практика сосредоточения полномочий по администрированию населенных пунктов с гражданским населением в руках регулярных военных в ВерхИртышских крепостях, острогах и слободах Верхнего Приобья начала формироваться еще в первой половине XVIII в. [22. C. 11-14]. На более глубинном уровне основы такого сложившегося управленческого порядка, по всей видимости, Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 8 усматривались И.П. Фальком в неоднозначном характере взаимоотношений между структурами власти различной отраслевой принадлежности, скрытой конкуренции между ними, зародившейся в период нахождения заводов в междуречье Алея и Чарыша в собственности А.Н. Демидова. Причиной роста противоречий, по мнению шведского натуралиста, стало то, что, с одной стороны, среди рабочих заводчика «находилось много беглых людей, которых он имел привилегию принимать и владельцам их не отдавать», а с другой стороны, местные власти Томского и Кузнецкого уездов посылали «ленивых крестьян, за которых он (А.Н. Демидов -Д.Б., Ю.Г.) платил подушныя деньги» [18. С. 448-449]. Вполне очевидно, что такая оценка стала результатом привлечения документов архива округа и, как следствие, относительно высокой степени приобщения ученого к «горнозаводскому» дискурсу. В свою очередь, региональные горнозаводские власти, в восприятии И.П. Фалька, по многим параметрам зависели и даже подчинялись сибирским ведомственным военным институциям. Во-первых, по требованию командующего Сибирскими укрепленными линиями начальник Колывано-Воскресенских заводов снаряжал экспедиции в приграничные районы, в том числе и в земли, располагавшиеся за пределами России [Там же. C. 441-442, 458]. Кроме того, шведский путешественник указал, что Канцелярия Колывано-Воскресенского горного начальства по умолчанию направляла доходы от труда приписных крестьян в казну, но при наличии специальных предписаний должна была «отсылать на линию (укрепленные линии, в частности на Колывано-Кузнецкую. - Д.Б., Ю.Г.) для содержания воинской команды» [Там же. C. 510-511]. На более глубоком уровне картина взаимодействий в управленческой среде Западной Сибири представлена П.С. Палласом. Находясь под очевидным впечатлением от степени и характера содействия научной экспедиции со стороны местных военных и горнозаводских властей, немецкий исследователь в «Путешествии...» дал во многом противоположную оценку деятельности соответствующих структур (в зависимости от их ведомственной принадлежности), которая по умолчанию экстраполировалась на более широкий вопрос административной эффективности каждой из вертикалей. Одним из ключевых факторов, повлиявших на характер восприятия, становились действия конкретной личности, руководителя. Крайне противоречивой оказалась оценка академиком военных институций на юге Западной Сибири. С одной стороны, встречу и сопровождение своего научного отряда местным офицерским корпусом и начальством немецкий путешественник сравнивал с аналогичными действиями властей других регионов: «Сей холодный прием, подтвержденный еще при том и другими обстоятельствами, тем страннее для меня казался, что я доселе. всегда имел щастие пользоваться отменнейшими милостями и всевозможным в делах моих пособием». Негативных красок к этому добавляли свидетельства об индифферентности руководителей гарнизонов в некоторых районах Прииртышья в аспектах уборки трупов лошадей после периодически повторявшихся массовых падежей и разорения древних религиозных святынь драгунами [16. C. 154, 262]. С другой стороны, П.С. Паллас комплиментарно высказался о результатах картографического обследования течения Иртыша, выполненного капитаном И.И. Ис-леньевым (эвристический потенциал итоговой карты южной части Сибирской губернии до сих пор не в полной мере раскрыт сибиреведами). В этой системе координат не подвергся сомнению и авторитет бывшего командующего Сибирским корпусом И.И. Шпрингера, положительное впечатление о котором подкреплялось упоминаниями тактических успехов генерал-поручика в вопросе расширения сети русских поселений вдоль течения Иртыша [Там же. C. 126]. На контрасте с этим преподносились действия временно замещавшего должность командующего генерал-майора С.К. Станиславского: промедления и проволочки с его стороны, по мнению немецкого исследователя, привели к фактическому саботажу обследования академическим отрядом левого берега Иртыша [Там же. C. 189, 201]. В противовес этому горнозаводские власти на Алтае за счет содействия экспедиции в сборе научных сведений оценивались путешественником исключительно в панегиричном духе: «.вообще при всех здешних рудниках и заводах заведено... похвальное смотрение и строгость.» [Там же. C. 228, 330, 375, 394]. Примечательна трактовка академиком генезиса Колывано-Воскресенского горного ведомства. Во-первых, А.Н. Демидов якобы «начал» свои заводы в междуречье Чарыша и Алея в 1730 г., что на один год расходится с установленной современными историками датой открытия первого медеплавильного завода на Алтае (1729) [13. C. 61], и практически сразу создал с местными гражданскими властями в верховьях Оби цепочку зимовий, в которых «поселено по семь крестьян в Кузнецкой округе, назначенной к заводской работе на подушном окладе» [16. C. 312]. Во-вторых, немецкий путешественник констатировал переход демидовских заводов и рудников на юге Западной Сибири в императорское владение в 1745 г., что вполне очевидно связано с началом деятельности комиссии А.В. Беэра и согласуется с актуальными представлениями специалистов о соответствующих трансформациях в горнозаводской сфере [13. C. 253-268]. П.С. Паллас за счет позитивных оценок сначала первого начальника Колывано-Воскре-сенских заводов, затем обербергмейстера И.Г. Леубе, управлявшего Змеиногорской конторой (который назван «искусным и приятным человеком»), и А.А. Ирмана выстроил картину преемственности их деятельности, которая в целом содействовала разведке месторождений и рациональной организации добычи руд [16. C. 228, 330, 340-341, 361, 375]. С другой стороны, П.С. Пал-ласу как медику и ученому откровенно импонировали околонаучные опыты И.Г. Леубе по вакцинации от оспы в Колывано-Воскресенском округе и фиксация наблюдений за землетрясениями, организация А.А. Ирманом картографических работ на территории ведомства и составление уточненных чертежей региона [Там же. C. 364-365, 381]. Отношения между военными и кабинетскими властями в освещении академика не заключали в себе Бобров Д.С., Гончаров Ю.М. Административная коммуникация гражданских и ведомственных властей 9 каких-то очевидных противоречий. Пределы компетенции Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства как ключевого регионального органа горнозаводского управления очерчены довольно строго и рационально: «Она (Канцелярия. - Д.Б., Ю.Г.) не токмо в ведомстве своем имеет Алтайские рудники и все по Оби лежащие серебряные заводы, находящихся при оных служителей, рудокопов и на заводах служащих, кои освобождены от рекрутскаго набору, и рекрутами дополняются, но также около 40 тысяч крестьян из Томскаго и Кузнецкаго уездов, которые на заводах и рудниках отправляют потребныя работы» [16. C. 381]. В этом же духе немецким исследователем охарактеризовано положение и Колывано-Воскресен-ского батальона, который, по словам автора «Путешествия...», находился под начальством майора и состоял из трех пеших рот и одной драгунской, приравненных по своему статусу к «полевым» полкам [Там же. C. 382]. Хотя и в лаконичной форме, но П.С. Палласу все же удалось отразить одну из ключевых тем взаимодействия военных и кабинетских властей - вопрос использования леса. Еще в первой половине XVIII столетия гарнизоны Верхнего Приобья испытывали определенные сложности в обеспечении деревом для различных нужд [22. C. 13-14]. В свою очередь, известный ученый не видел каких бы то ни было противоречий между ведомственными структурами в эксплуатации стратегического ресурса: «Сим бором, который по справедливости весь к лесам Императорских Колывано -Воскресенских серебряных заводов принадлежит, пользуется и теперь еще вся по Иртышу лежащая линия...» [16. C. 178]. П.С. Паллас практически открыто высказался за планомерный переход русских поселений в верховьях Иртыша из-под юрисдикции военных властей к ведомственным горнозаводским, расширение их влияния в локальном районе: «Может быть, было бы хорошим способом. ежели бы жителей сих деревень определили на работу в Колывановоскресенские рудники и заводы; кажется, что и многие от поселян онаго желают, и может быть, что все при перемене смотрения начали бы иметь свои выгоды. Теперь все в верхних странах реки Иртыша. выстроенныя деревни состоят под правлением комендантской канцелярии в Устка-меногорске, которая збираемой с оных подушной оклад употребляет на находящиеся на сей границе войска» [Там же. C. 213]. Структуры гражданского управления оказались на периферии внимания П.С. Палласа, что стало очевидным и естественным отражением протекавших на юге Западной Сибири административно-хозяйственных процессов, а также связанного с ними неуклонного усиления позиций ведомственных вертикалей. Многочисленные аспекты деятельности гражданских властей оказались в стороне даже при упоминании приписного крестьянства, неприкрытая идеализация положения которого вполне логично вытекала из панегиричных оценок горнозаводских властей [Там же. C. 381]. Нейтрально академик подошел к освещению довольно острой для начальных этапов взаимоотношений гражданских и военных органов проблемы снабжения хлебом регулярных соединений, констатировав практику постоянных доставок зерна крестьянами Томского и Кузнецкого уездов, что якобы, среди прочего, способствовало возникновению новых путей и складыванию относительно устойчивых дорог в локальном районе [Там же. C. 143]. При этом в оценке действий местных военных структур немецкий путешественник не был до конца последовательным. С одной стороны, он считал, что даже общий надзор за «промыслами» (в широком смысле слова) в приграничной зоне передавался соответствующим институциям, которые дозволяли местным жителям уходить «во время лову. за пределы в пустыя и лесистыя страны гор, где охота еще чрезмерно сильна» [Там же. C. 296]. С другой - тут же оговаривался, что руководители гарнизонов посылали до Бухтармы специальные команды для сыска подданных российского государя, самовольно поселившихся за границей «в самых диких горах» [Там же. C. 298]. Взаимодействие гражданских и ведомственных властей было представлено и И.Ф. Германом, «Сочинение.» которого основано на внушительном для XVIII в. количестве документов из архива Берг-коллегии и Кабинета Его Императорского Величества. Австрийский горный инженер рассматривает первые приписки к Ко-лыванским заводам и обязанность уездной воеводской канцелярии отправлять казаков для охраны производства как следствие действий А.Н. Демидова, который «испросил. от Правительствующего Сената указ» [17. C. 235]. В результате воспроизведения отдельных пунктов указа о передаче производственного комплекса в ведение Кабинета и цитирования одного из докладов этого органа академик, возможно, неосознанно показал возраставшую нагрузку на губернскую канцелярию по финансовому обеспечиванию колыванских предприятий (частичному): если в конце 1740-х гг., по подсчетам австрийца, гражданским властям предписывалось ежегодно выделять на содержание заводов 25 000 руб. с доходов от реализации соли и еще 35 000 руб. с таможенного, питейного и подушного сборов, то спустя полтора десятилетия только с соляного сбора 60 000 руб. с возможностью увеличения суммы за счет других статей [Там же. C. 240, 243]. При характеристике Ко-лывано-Воскресенского горного батальона И.Ф. Г ерман фактически первым из современников XVIII столетия обратил внимание на распределение контрольных и распорядительных полномочий между начальником заводов и Военной коллегией, сохранение за последней значительной части прерогатив [Там же. C. 282-283]. Административно-территориальные преобразования на юге Западной Сибири в последней четверти XVIII в. вполне обоснованно трактовались австрийцем в контексте наметившегося определенного управленческого синкретизма полномочий ведомственных кабинетских и гражданских структур. Образование Екатериной II Колыванской области в 1779 г. известный горный инженер связал с неспособностью Канцелярии Колывано-Воскресенского горного начальства навести порядок в судопроизводстве, в результате чего происходило «смешение в едином месте разных родов дел» [Там же. C. 248, 285]. При этом академист постарался макси- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 10 мально уйти от оценок такого неоднозначного вопроса, как соотношение административных статусов начальника Алтайского горного округа и главы Колыванского наместничества (образовано в 1783 г., состояло из Ко-лыванской губернии - бывшей Колыванской области), разграничение компетенций этих руководителей [17. C. 248, 252, 254]. Также в рамках нараставшего доминирования кабинетских и пассивности гражданских властей И.Ф. Герман рассматривал динамику численности приписного крестьянства: в его трактовке Г орный совет и Горная экспедиция в случае необходимости требовали предоставления «рабочих рук» от локальных земских изб Колыванского и Тобольского намест-ничеств, лишь уведомляя о соответствующих решениях региональную канцелярию [Там же. C. 288-289]. Рассмотренные труды ученых и путешественников в целом не смогли выйти за рамки историографической традиции своего времени (во многом в силу господствовавшей классической модели научного знания, которая на фундаментальном уровне диктовала близость методологических и методических установок): преобладание рациональной канвы и стремление опереться на архивные источники сочетались с сохранением ощутимых элементов нарративности и лаконичностью повествования, перемежались отдельными опытами построения причинно-следственных связей. На этом фоне несколько выделяется способ изложения П.С. Палласа, который соединял собственные воспоминания, мысли и суждения (иногда довольно эмоциональные) со свидетельствами очевидцев и выдержками из документов, при освещении деятельности различных институтов прибегал к приему персонификации, экстраполируя характеристику личности и деятельности руководящих лиц на оценку эффективности той или иной управленческой иерархии. Освещение взаимоотношений разноотраслевых властей выстраивалось по нескольким основным направлениям: подсудность местного населения, проведение приписок и контроль за приписным крестьянством, в меньшей степени -охрана промышленных предприятий. Если Г.Ф. Миллер, побывавший в регионе в начальный период освоения, опосредованно зафиксировал приоритетные позиции органов гражданского управления на фоне еще незрелой ведомственной военной и нечеткой частновладельческой вертикалей, то во второй половине столетия И.П. Фальк, П.С. Паллас и И.Ф. Герман в своих работах напрямую или косвенно обнажили нараставшее доминирование ведомственных (в первую очередь горнозаводских) структур над гражданскими. В этом свете очевидно, что труды современников-очевидцев не утратили своего эвристического потенциала при реконструкции широкого спектра административных коммуникаций (как вертикальных, так и горизонтальных) на сибирских окраинах, а в полной мере ревизию соответствующих ключевых концептуальных и содержательных положений на солидном источниковом материале еще предстоит осуществить современным специалистам.
Ключевые слова
академические экспедиции,
административная коммуникация,
система управления,
гражданские власти,
горнозаводское управление,
военно-ведомственные власти,
Западная СибирьАвторы
| Бобров Денис Сергеевич | Алтайский государственный университет | кандидат исторических наук, доцент кафедры отечественной истории | bds-eureka@yandex.ru |
| Гончаров Юрий Михайлович | Алтайский государственный университет | доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории | yuriig@yandex.ru |
Всего: 2
Ссылки
Анисимов Е.В. Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII в. СПб. : Дмитрий Буланин, 1997. 331 с.
Зиннер Э.П. Сибирь в известиях западноевропейских путешественников и ученых XVIII в. Иркутск : Вост.-Сиб. кн. изд-во, 1968. 247 с.
Элерт А.Х. Немецкие ученые-путешественники и научное открытие Сибири // История и этнография немцев в Сибири / сост. и науч. ред. П.П. Вибе. Омск : Изд-во ОГИК музея, 2009. С. 13-2б.
Шипилов И.А. Восприятие культуры аборигенного населения Сибири иностранными и русскими путешественниками XVIII в. // Гумани тарные науки в Сибири. 2010. № 3. С. 15-18.
Киссер Т.С. Путешествие И.П. Фалька и И.Г. Георги по Российской империи (по материалам дневников) // Уральский исторический вест ник. 2016. № 2 (51). С. 53-60.
Загидулина Т.А., Новикова Е.О. Отчеты академических экспедиций второй половины XVIII в. как инструмент конструирования имперского пространства // Сибирский филологический форум. 2021. № 1. С. 31-43.
Контев А.В. Картографические материалы И.Г. Гмелина и Г.Ф. Миллера как источники по истории становления горно-металлургического производства на Алтае // Вестник Новосибирского государственного университета. Сер. История, филология. 2013. Т. 12, вып. 1. С. 39-43.
Козлов С.А. Русский путешественник эпохи Просвещения. СПб. : Ист. иллюстр., 2003. Т. 1. 496 с.
Историко-географические образы Алтая в трудах ученых, путешественников и чиновников XVIII - начала XX в. / под ред. Т.Н. Соболевой, Д.С. Боброва. Барнаул : Азбука, 2016. 440 с.
Акишин М.О. Российский абсолютизм и управление Сибири XVIII в.: структура и состав государственного аппарата. М. ; Новосибирск : Древлехранилище, 2003. 408 с.
Муратова С.Р. На страже рубежей Сибири: строительство Сибирских укрепленных линий. Тобольск : ТГПИ им. Д.И. Менделеева, 2007. 174 с.
Дмитриев А.В. Русская регулярная армия в Сибири (1725-1796): особенности военной службы на «восточной окраине» Российской империи в XVIII столетии. М. ; СПб. : Центр гуманитарных инициатив, 2017. 528 с.
Бородаев В.Б., Контев А.В. У истоков истории Барнаула. Барнаул : Алт. полиграф. комбинат, 2000. 336 с.
Пережогин А.А. Военизированная система управления Колывано-Воскресенского (Алтайского) горного округа (1747-1871 гг.). Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2005. 264 с.
Сибирь XVIII в. в путевых описаниях Г.Ф. Миллера / изд. подгот. А.Х. Элерт; отв. ред. Н.Н. Покровский. Новосибирск : Сиб. хронограф, 1996. 310 с. (Сер. История Сибири. Первоисточники; вып. 6).
Паллас П.С. Путешествие по разным местам Российского государства по повелению Санкт-Петербургской Императорской Академии наук. СПб. : Императорская Акад. наук, 1786. Ч. 2, кн. 2. 571 с.
Герман И.Ф. Сочинения о сибирских рудниках и заводах. СПб. : Императорская Акад. наук, 1797. Ч. 1. 294 с.
Полное собрание ученых путешествий по России, издаваемое Императорской Академией наук, по предложению ее президента : в 7 т. СПб. : Императорская Акад. наук, 1824. Т. 6: Записки путешествия академика Фалька. 546 с.
Головнев А.В. Крупный план в антропологии // Уральский исторический вестник. 2010. № 4 (29). С. 14-20.
Исследователи Алтайского края. XVIII - начало XX в. : библиогр. словарь. Барнаул : Алт. полиграф. комбинат, 2000. 280 с.
Первый исследователь Сибири Д.Г. Мессершмидт: письма и документы. 1716-1721 / сост. Е.Ю. Басаргина, С.И. Зенкевич, В. Лефельдт, А.Л. Хосроев. СПб. : Нестор-История, 2019. 312 с.
Бобров Д.С. Взаимоотношения гражданских и ведомственных военных властей в Кузнецком уезде в начальный период административных преобразований середины XVIII в. // Гуманитарные науки в Сибири. 2019. Т. 26, № 4. С. 9-15.
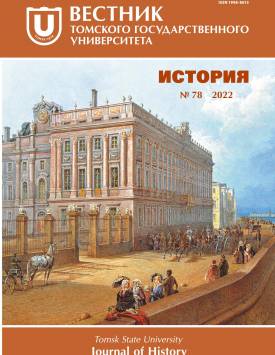

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью