Исследуется эволюция ясачной политики самодержавия в отношении народов Сибири на протяжении периода империи, подчеркивается значение инородческого фактора в деле продвижения России на восток, отмечается двойственный характер земельной собственности в Сибири, исследуется практика взаиморасчетов Казны и Кабинета по «ясачному делу», на этом основании делается вывод о принадлежности ясака императорскому Кабинету, определяется значение ясачных поступлений в финансовом балансе Кабинета как главного финансового органа коронной фамилии. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Mechanisms of financial relations between the Imperial Cabinet and the estate of Siberian indigenous population during t.pdf Поиск моделей выстраивания финансовых отношений России со вновь инкорпорируемыми в имперское пространство территориями всегда занимал важное место во внутренней политике самодержавия. На восточных окраинах России, в Сибири, этот процесс неминуемо был связан с осмыслением судеб вновь присоединенных территорий и местного населения в составе России, с одной стороны, но прежде всего с определением статуса присоединенного региона в составе империи - с другой. Понятие статуса отнюдь не являлось аморфным. Оно определялось целым рядом позиций, объективных и субъективных. Окраины различались по уровню социально-экономического и политического развития, по национальному и конфессиональному составу населения. При определении статуса окраины в составе империи наибольшее значение придавалось таким показателям, как уровень социально-экономического и политического развития территории, характер ее присоединения (добровольный или насильственный), стратегическому значению новых земель для империи. Еще одним немаловажным обстоятельством, влияющим на конкретное содержание окраинной политики, являлось сложное переплетение ведомственных и территориальных интересов, а также реальное соотношение сил так называемых «централистов» и «регионалистов» в центральном и местном аппарате управления. В определении основ окраинной политики самодержавие постоянно находилось перед выбором: ввести общегосударственную систему управления или предоставить территориям некоторую административную автономию. При этом в случае признания особого статуса любой из территорий империи правительство вынуждено было фиксировать его в законодательном порядке. На востоке страны значение отмеченных выше факторов усиливалось еще одним обстоятельством -позицией «инородческих племен» в деле продвижения отрядов землепроходцев на восток и закрепления зауральских территорий за русским государством. Несмотря на то, что исторически новый регион давно был известен в России, продвижение землепроходцев вглубь Сибири не стало каким-то исключительным явлением, характерным только для России. Хронологически оно совпало с временем основания англосаксами первых европейских колоний на Североамериканском континенте. Однако темпы продвижения, методы освоения новых территорий, взаимоотношения с аборигенным населением в Сибири и на американском Западе существенно разнились между собой. В России этот процесс сопровождался распространением на новые территории общенационального политико-административного, хозяйственного и социокультурного уклада, «втягиванием» аборигенов в общенациональную экономическую, политическую и социокультурную систему. Применительно к народам Сибири на первых порах процесс имперского строительства сопровождался обложением их данью (ясаком) в пользу государства. По мере инкорпорации аборигенов в общероссийскую систему государственных, экономических и иных связей на них были распространены и другие виды податных обязанностей, например земские, мало или ничем не отличающиеся от обычного крестьянского тягла (подробнее см.: [1]). Следовательно, и сибирские аборигены, и русские крестьяне рассматривались как подданные государства и должны были уплачивать соответствующие налоги на его содержание. Во властном освоении и присвоении пространства огромную роль играли единая денежная система, коммуникации, налоги, государственный язык, Русская православная церковь, а также сознание верноподданничества русскому царю, который был верховным «хозяином» земли. Особенно это было актуально в Сибири и на Дальнем Востоке, где господствовала система государственной земельной собственности. Включая в свой состав новые территории на востоке, империя начинала их интеграцию именно с военно-административных и фискальных методов. Это обстоятельство принципиально отличало колонизационную политику России в Сибири от политики США по отношению к индейцам, которые не платили налоги и, в соответствии с конституцией США, не считались гражданами государства. США, продвигаясь с Востока на Запад, новые территориальные приобретения осуществляли путем покупки по договорам индейских земель или же путем насильственного лишения индейцев их охотничьих угодий. В России по мере ее продвижения с Запада на Восток правительственные указы, наоборот, требовали не допускать столкновения колонистов и аборигенов из-за земли, что обеспечивало сибирским народностям возможность выполнения их основной обязанности по отношению к государству - уплаты ясака (подробнее см.: [2]). Кроме того, в условиях малочисленности русского населения, огромной территориальной разбросанности и слабости русских административных и военных центров, потенциальной угрозы столкновения интересов России с государствами Центральной Азии и решения стратегической задачи - закрепления Сибири за Российским государством - московские, а впоследствии петербургские Романовы аборигенному фактору изначально отводили немаловажную роль. Характер взаимоотношений между аборигенами и русскими пришельцами оказал серьезное влияние на темпы продвижения русских к Тихому океану. Удержанию новых территорий под властью русского царя должна была способствовать и податная Дамешек Л.М., Дамешек И.Л. Механизмы финансовых отношений императорского Кабинета 23 политика. Важнейшей прерогативой новых властей в Сибири стал сбор ясака с покоренного нерусского населения, что обоими участниками процесса рассматривалось как выражение подданства новому владельцу. С.В. Бахрушин еще в 1927 г. справедливо отметил, что ясак не являлся новинкой в этих краях, а «существовал... в Сибири задолго до присоединения к России». Русский ясак органически вырос из тех ясаков и алманов, которые русские нашли в Сибири. Социально-экономическую сущность ясака С.В. Бахрушин определяет как дань: «Ясак - это подать, установленная законом, уложенная, принудительная, по преимуществу дань, которую платят покоренные победителю» [3. С. 49-51, 58-59]. В XVII в. народы Сибири еще только втягивались в систему общерусских государственных связей, становились «подданными» государства, поэтому определение ясака как дани для начала XVII в. является вполне справедливым. В дальнейшем социально-экономический характер ясака изменился. Анализируя влияние финансовых факторов на выстраивание взаимоотношений центральных властей и народов Сибири следует непременно учитывать двойственный характер сибирской земельной собственности, когда совладельцами земель выступали Казна и Кабинет. На протяжении XVII и почти всего XVIII в. ясак продолжал оставаться наиболее характерной формой податной зависимости сибирских аборигенов от собственника земли, а проживание их на «породных землях» рассматривалось властями как важнейшее условие уплаты ясака. Поначалу сбор подати с «ясачных иноземцев» никак не регламентировался, и ясачные сборщики на практике «брали, что принесут». Это приводило к массовым злоупотреблениям, хищническому истреблению пушных богатств края, накоплению недоимок. В 1763 г. Екатерина II направила в Сибирь первую ясачную комиссию, которая впервые провела перепись «ясачных иноземцев», обложила их новой податью. Наряду с этим комиссия внесла и принципиальное новшество в систему сбора ясака, разрешив туземцам платить ясачную подать пушниной или эквивалентно деньгами. Именно тогда впервые в российской административно-финансовой практике императрица указала на различие финансовых интересов Казны и императорского Кабинета в Сибири. До 1763 г. пушнина поступала в Сибирский приказ, а оттуда лучшие сорта пушнины пересылались в Кабинет. Однако в связи с упразднением Сибирского приказа собираемая в качестве ясака пушнина стала поступать непосредственно в Кабинет. В 1782 г. последовал именной указ императрицы «Об оставлении собираемой в Сибири мягкой рухляди и всего ясачного сбора с 1763 г. в ведомстве Кабинета по-прежнему» [4]. Так юридически было оформлено право собственности императорского Кабинета на сибирский ясак. В 30-х гг. XIX в. в Сибирь была направлена вторая ясачная комиссия. Николай I лично отредактировал «наставление» комиссиям Западной и Восточной Сибири [5]. Оно включало в себя более 60 пунктов и определяло цели, задачи, состав и порядок действия. Главной задачей комиссий являлось обложение новой ясачной податью кочевых и бродячих «инородцев» Сибири. В 1835 г. Николай именным указом утвердил новый размер ясачной подати, которая в совокупном денежном и натуральном выражении составляла около 450 тыс. руб. против 122 тыс. по окладу 1763 г. Удельный вес вновь положенного ясака в доходах «инородцев» по округам Западной Сибири колебался от 10 до 20%, в Восточной Сибири - от 11 до 52%, составляя соответственно в среднем 15 и 38% (рассчитано авторами по материалам: [6. Л. 40 об., 46, 363 об., 369, 372; 7. Л. 10, 10 об., 407 об., 415; 8. Л. 139-160]). При таком размере ясачной подати взимание ее не могло быть успешным, накапливались недоимки, приобретшие вскоре хронический характер. Особенно беспокоило Кабинет сокращение поступления в ясак ценных сортов пушнины. Это неоднократно порождало рецидивы попыток полностью запретить свободную торговлю с аборигенами, окончившиеся тем не менее полным провалом. Одно из основных противоречий ясачной политики - стремление к максимальному сбору ясака пушниной, и дальнейшая коммутация ясака заставили сановный Петербург предпринять новые усилия для «приведения ясачного сбора в соответствие с нуждами и потребностями императорского Кабинета» [9. Л. 66]. Ясачные поступления натурой традиционно оказывали положительное влияние на финансовый баланс Кабинета. Продажа пушнины с торгов и аукционов приносила Кабинету по 300% прибыли [10. Л. 65-67]. Сами члены императорское фамилии постоянно испытывали потребность в дорогостоящих мехах. Между тем нехватка последних доходила до того, что «Кабинет был вынужден покупать у здешних (петербургских. - Л.Д., И.Д.) торговцев меха, требующиеся для особ высочайшей фамилии» [11. Л. 18]. Именно поэтому в марте 1859 г. последовал именной указ о назначении в Восточную Сибирь - основной центр сбора ясака - доверенного от Кабинета чиновника для наблюдения за «правильным» сбором ясака [12]. Выбор управляющего Кабинетом П.К. Мейендорфа пал на медицинского советника Архангельского порта статского советника Полонского. С последнего была взята расписка в том, что он не принадлежит ни к каким «масонским или тайным обществам, внутри империи или вне ее существовать могущим, и впредь принадлежать к оным не будет» [9. Л. 272]. В Иркутск Полонский прибыл 6 сентября 1859 г. Письма и особенно рапорты Полонского дают ярку характеристику ясачной политики XVIII - первой половины XIX в. В итоге вновь назначенный чиновник приходит к неутешительному выводу, что правительство действовало не в том духе, когда нужно было принимать решительные меры. Формирование ясачной политики в пореформенный период находилось в неразрывной связи с аграрными и финансовыми мероприятиями Казны и Кабинета, выступавшими как совладельцы сибирских земель. Эта особенность ярко проявилась в механизме финансовых отношений императорского Кабинета и народов Сибири как плательщиков ясака, свидетельствующем о существовании у коронного ведомства своих финансовых интересов, не всегда совпадающих с общегосударственными. На основе закона 19 января Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 24 1898 г. «О замене взимаемых в Сибири подушных сборов государственною оброчною и земельною податью» [13] по мере проведения землеустройства и перечисления кочевых аборигенов в разряд оседлых инородцев ясак «выкупался» Государственным казначейством у Кабинета. Ежегодный размер таких «выкупов» составлял свыше 125 тыс. руб. [14. Л. 2 об.]. Но поскольку размер вновь вводимой оброчной подати был выше ясачного оклада, то возникающие излишки становились доходами Государственного казначейства. Введение системы выкупа ясака было выгодно Кабинету, так как освобождало его от выколачивания недоимок, составляющих четвертую часть оклада инородцев. О существовании собственных финансовых интересов Казны и Кабинета свидетельствует и практика взаиморасчетов, проводимая между ними по «ясачному делу» с 1827 по 1917 г. в связи с перечислением части кочевых и бродячих «инородцев» в разряд оседлых. Это противоречие было понятно и царским сановникам, которые добивались юридического закрепления земель, населенных ясачными, за императорским Кабинетом. Министр императорского двора П.М. Волконский еще в 1844 г. предлагал «предоставить управлению Кабинета заведовать землями ясачными на праве удельных и владельческих имений». Сенатор И.Н. Толстой в письме к вышеозначенному министру во время ревизии Сибири также указывал, что «польза инородцев, составляющих значительную часть населения... Сибири, польза государства требует подчинения их одной власти, действующей на месте под непосредственной зависимостью Кабинета его величества» [11. Л. 166]. Эти предложения не получили законодательного оформления на практике. Взвесив возможные последствия их реализации, правительство предпочло сомнительной перспективе увеличения ясака и значительных денежных затрат простую эксплуатацию служащих государственных ведомств. В то же время само существование таких проектов свидетельствует о стремлении Кабинета полностью подчинить народы Сибири своему влиянию и об укоренившейся в практике привычке чиновников министерства императорского двора подчеркивать особенность коронного хозяйства, его отличие от государственного. Это указывает на противоположность финансовых интересов Казны и Кабинета, их противоборство в вопросах получения ренты с кочевников. Указ 19 января 1898 г. не означал отмену ясака как такового. Бродячие инородцы, а также кочевые, перечисленные в оседлые, но не получившие землеустройства, продолжали платить ясак до 1917 г. Общий размер ясачной ренты Кабинета с народов Сибири определялся положением 3 марта 1835 г. и составлял 222 258 руб. серебром. К 1917 г. доходы Кабинета от эксплуатации сибирских земель, куда входил и ясак, составляли четвертую часть совокупных доходов коронного ведомства. На долю ясака и оброчной подати с «инородцев» приходилось 2,2%. Ясачная рента сохраняла определенное самостоятельное значение. Для ясачной ренты конца XIX в. характерным является процесс ее дальнейшей коммутации, что заставило Кабинет в 1910 г. перевести ясак на денежную основу. В Сибири совместным собственником земли выступали Казна и Кабинет. Последний как совладелец земли взимал в свою пользу ясак. Однако и Казна была совладельцем земель, она взимала в свою пользу разницу между годовым окладом ясака и оброчной податью. Кроме того, крестьяне и «инородцы» выступали и как арендаторы кабинетских земель, ибо выплачивали государственные повинности. В России ясак был территориально самым распространенным налогом. Накануне 1917 г. его платили все бродячие «инородцы» Сибири, кочевые «инородцы» Тобольской, Томской, Енисейской, Иркутской губерний, Забайкальской области, абсолютное большинство коренного населения Якутской области, часть нерусского населения Архангельской и Пермской губерний. По социально-экономическому содержанию, способам взимания сибирский ясак имел немало общего с податными обязанностями нерусских народов других колонизуемых окраин империи, например с кибиточной податью, взыскиваемой с народов Туркестана. Это свидетельствует о том, что аборигенное население окраин романовской империи испытывало на себе архаичные способы эксплуатации.
| Дамешек Лев Михайлович | Иркутский государственный университет | доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой истории России исторического факультета | levdameshek@gmail.com |
| Дамешек Ирина Львовна | Иркутский государственный университет | доктор исторических наук, профессор кафедры истории и методики Педагогического института | dameshek@rambler.ru |
Дамешек Л.М. Налоги и повинности народов Сибири в пореформенный период // Известия Иркутского государственного университета. Сер. Истрия. 2015. Т. 11. С. 51-57.
Буцинский П.Н. Заселение Сибири и быт ее первых насельников. Харьков : Тип. Губернского правления, 1889. 354 с.
Бахрушин С.В. Ясак в Сибири в XVII в. // Бахрушин С.В. Научные труды. М., 1955. Т. 3, ч. 2. С. 49-85.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое (ПСЗРИ-1). СПб. : в тип. II Отделения собственной Его Императорского Величества канцелярии, 1830. Т. XXI: 1781-1783. От № 15106 до № 15901. С. 720. № 15564.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание второе (ПСЗРИ-2). СПб. : Печ. в тип. II Отделения собственной Его Император ского Величества канцелярии, 1830. Т. II: 1827. От № 80 до № 1656. С. 1061-1069. № 1611.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 468. Оп. 9. Д. 1043.
РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 1042.
РГИА. Ф. 1264. Оп. 1. Д. 276.
РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 911.
РГИА. Ф. 496. Оп. 9. Д. 911.
РГИА. Ф. 468. Оп. 9. Д. 897.
ПСЗРИ-2. СПб. : в тип. II Отделения собственной ЕИВ канцелярии, 1861. Т. XXXIV, отд. 1: 1859. От № 34005 до № 34845. С. 207-208. № 34250.
Полное собрание законов Российской империи. Собрание третье (ПСЗРИ-3). СПб., 1901. Т. XVIII, отд. 1: 1898. № 14861-16309 и Дополнение. C. 40-43. № 14908.
РГИА. Ф. 468. Оп. 44. Д. 1325.
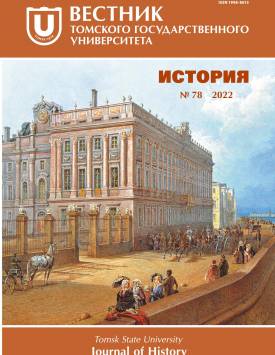

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью