Рассматривается проект «Великой Сирии» в ближневосточной политике и пропаганде Третьего рейха в годы Второй мировой войны. Исследуются подходы немецких дипломатов к способам организации «нового порядка» на Ближнем Востоке, в частности разные точки зрения по поводу необходимости и форм конструирования «Великой Сирии» и продвижения этого проекта немецкой пропагандой в регионе. Хотя немецкие дипломаты создавали в своем воображении довольно радикальные проекты политической трансформации арабского мира, по ряду причин (политических и идеологических) они проявляли сдержанность и осторожность в своих практических шагах и пропаганде в регионе. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The “Great Syria” Project in the Middle East Politics and Propaganda of the Third Reich during the Second World War (193.pdf Происходящие на Ближнем Востоке процессы, последовавшие за чередой «арабских революций» в странах региона, позволили многим экспертам говорить не только о кризисе государственности, но и о сломе всей региональной ближневосточной подсистемы международных отношений, фундамент которой был заложен после окончания Первой мировой войны странами-победительницами - Великобританией и Францией. Действительно, можно только предполагать, каким образом будет происходить реконфигурация ближневосточного региона и какой вид приобретут те его государства, которые сегодня де-факто уже не существуют в прежних границах (Йемен, Сирия, Ирак, Ливия); ясно, однако, что страны, сформированные на обломках Османской империи - во многом искусственно -столкнулись сегодня с самым серьезным после окончания Второй мировой войны вызовом. Проекты, предусматривавшие трансформацию Ближнего Востока (или его части), не единожды возникали на протяжении XX и начала XXI в., а в качестве их создателей выступали как внерегиональные, так и внутрирегиональные акторы. В том числе периодически появлялись и халифатистские проекты, инициаторы которых стремились преодолеть рамки национального государства, предлагая в качестве альтернативы государственность, базирующуюся на транснациональной, строго религиозной идентичности [1]. Представляется целесообразным обратиться к одному из проектов конструирования части региона -проекту «Великой Сирии», который с началом Второй мировой войны оказался в фокусе ближневосточной политики и пропаганды Третьего рейха. Идея «Великой Сирии» приобрела политическое звучание в конце Первой мировой войны; призывы к созданию государства в границах «исторической» Сирии оставались актуальными в межвоенный период и стали особенно значимыми в контексте развернувшегося противоборства Великобритании и Франции с государствами «оси» на Ближнем Востоке в годы Второй мировой войны. Все участники противостояния, действовавшие в рамках логики сохранения, расширения, трансформации или подрыва сложившихся в регионе механизмов политического господства и легитимирующих их конвенций, осознавали, что результатом этого противостояния может стать кардинальное переустройство регионального пространства и его отдельных сегментов. О «Великой Сирии» писали многие авторы, обращавшиеся к изучению арабского национализма, политики европейских империй на Ближнем Востоке, к истории ближневосточного региона и его отдельных стран. Однако исследований, посвященных всестороннему рассмотрению идеологии пансирианизма в исторической ретроспективе, немного, из них непревзойденной до сих пор остается работа английского исследователя Даниэля Пайпса [2]. «Как, возможно, самая игнорируемая тема истории Ближнего Востока в двадцатом веке, пансирианизм взывает к исследованию», - писал он в предисловии к своей работе [Ibid. P. 7]. Пайпс детально и подробно рассматривает зарождение и эволюцию пансирианизма, многочисленные проекты конструирования «Великой Сирии», создававшиеся как в Лондоне и в Париже, так и в ближневосточных странах, сложное отношение панарабистов к идеологии пан-сирианизма. Однако, обращаясь к оценке места этого проекта в политике стран «оси» в годы Второй мировой войны, Пайпс ограничивается замечанием о том, что для держав «оси» поддержка Великой Сирии стала практически безболезненным способом доставить неприятности британцам и французам на Ближнем Востоке и в то же время завоевать некоторое количество друзей среди арабов [Ibid. P. 96]. В работах, посвященных пропаганде и политике стран «оси» на Ближнем Востоке, тема «Великой Сирии» также находилась, как правило, на периферии исследовательского внимания. Между тем изучение этого сюжета представляется важным по нескольким причинам. Оно позволит внести новые нюансы в понимание ближневосточной политики Третьего рейха (и стран «оси» в целом), в частности такого ее направления, которое было связано с попытками немецких дипломатов сконструировать «новый порядок» на Ближнем Востоке. Анализ политических проектов (и отдельных предложений), нацеленных на преобразование политического пространства арабского мира, даст возможность не только составить представление о политических целях и пропагандистских планах Третьего рейха в регионе, но и судить о том, что можно назвать пространственным воображением, или «ментальными картами» Ближнего Востока, существовавшими в сознании немецких дипломатов, военных, ориенталистов. Обратившись к случаю с «Великой Сирией», можно увидеть, какие возможности немецкая пропаганда пыталась использовать в регионе в годы Второй мировой войны и с какими ограничениями (объективными и субъективными) она при этом сталкивалась. Первая мировая война и борьба за «османское наследство» После вступления Османской империи в Первую мировую войну на стороне Германской империи против Антанты для участников последней цель состояла не только в том, чтобы разбить османскую армию на полях сражений, но и в том, чтобы разделить «осман- Проблемы всеобщей истории / Problems of world history 126 ское наследство». Судьба арабских провинций Османской империи решалась в годы войны в ходе переговоров и скрытого и явного соперничества союзников по Антанте - Великобритании, Франции и, в меньшей степени, Российской империи, стремившейся прежде всего установить контроль над черноморскими проливами. Достигнутое ими соглашение, вошедшее в историю как «соглашение Сайкс-Пико»1, являлось плодом имперского воображения и колониальных представлений о балансе сил, безопасности и экономической целесообразности, «экспертного» (а часто «псевдоэкспертного») знания, поставленного на службу колониальным интересам, и, не в последнюю очередь, - случайности. В годы войны Великобритания увидела в довольно аморфном, но структурирующемся движении арабских националистов ценного союзника в борьбе с Османской империей. Результатом британских усилий стала договоренность с шерифом Мекки Хусейном бен Али аль-Хашими - арабским лидером, представлявшимся британцам наиболее подходящей фигурой для того, чтобы возглавить выступление против турок. Еще одним решением, имевшим долгосрочные последствия для всего Ближнего Востока, стала знаменитая Декларация Бальфура2. Для Британии, уже контролировавшей Египет и претендовавшей на половину Ближнего Востока, публичная поддержка сионистского движения, стремившегося к созданию на территории Палестины еврейского государства, стала способом, который позволял обезопасить восточный фланг Суэцкого канала, избежав при этом обвинений в прямом захвате земель [5. P. 1]. В изменившихся условиях конца Первой мировой войны не только Британии, но и другим империям, рассчитывавшим на новые колониальные приобретения, необходимо было искать новые способы легитимации этих приобретений. Соглашение Сайкс-Пико, Декларация Бальфура, соглашение Мак-Магон-Хусейн3 являлись не просто вехами в политической истории Ближнего Востока; сложившийся в результате их реализации (или не реализации) политический порядок4, воспринимавшийся всеми силами (в том числе и формировавшими его) как временный, подлежащий коррекции или даже радикальному пересмотру, - задал ту систему координат, в рамках которой и возникали многочисленные проекты переустройства всего регионального пространства или его отдельных сегментов, происходили столкновение, переплетение и взаимное наложение пространственных образов, рождавшихся в политическом воображении националистов, христианских и мусульманских мыслителей, колониалистов и имперских элит. Борьба за «Великую Сирию» Немецкий исследователь Юрген Остерхаммель в работе «Трансформация мира: история XIX века», писал, что географические обозначения, с которыми сегодня специалисты и дилетанты обращаются совершенно некритически и которые широко заимствовались даже самими местными элитами в регионах, являются во многом продуктами геополитизации описательной географии в период высокого империализма [7. С. 85]. Он замечает, что термин «Ближний Восток» вошел в употребление в дипломатических кругах лишь к концу XIX в. и обозначал Османскую империю, включая те области в Северной Африке (такие как Египет и Алжир), которые тогда ей фактически больше не принадлежали. Термин «плодородный полумесяц»5, появившийся в 1916 г., был популярен среди археологов и напоминал о доисламском величии региона [Там же]. В отличие от понятия «плодородный полумесяц», с самого начала являвшегося искусственным конструктом, понятие «Великая Сирия», утвердившееся в начале ХХ в. в политическом и дипломатическом лексиконе, стало современной версией укорененного в языке и истории термина bilad al-Sham, использовавшегося в раннее исламское время и включавшего, помимо Сирии, территории таких современных политических единиц, как Ливан, Иордания, Израиль, Западный берег реки Иордан, распространяясь на севере на современные турецкие провинции Хатай (прежний санджак Александретта), Газиантеп и Диярбакыр [9. P. 261]. Понятие «Великая Сирия» становится политическим и идеологическим концептом (и символическим ресурсом) в момент распада Османской империи и начавшейся борьбы за раздел ее бывших арабских провинций. Результатом британо-арабских договоренностей стало «Великое арабское восстание», начавшееся 5 июня 1915 г. Занятие 30 сентября - 1 октября 1918 г. арабскими частями эмира Фейсала и частями британского экспедиционного корпуса генерала Э. Алленби Дамаска и большей части «исторической Сирии» символизировало успех «арабского восстания» и британоарабского «союза». В период краткосрочного правления короля Фейсала в Дамаске (сентябрь 1918 г. - июль 1920 г.) была предпринята первая попытка добиться независимости Сирии в ее «естественных границах». Будучи не в силах противостоять французским военным частям, Фейсал в июле 1920 г. покидает Сирию и вскоре, при поддержке Британии, становится королем Ирака. После окончания Первой мировой войны державы-победительницы - Великобритания и Франция - создали на месте арабских провинций бывшей Османской империи несколько государств, не получивших, однако, независимости, а вошедших в число подмандатных стран. Казалось, долгосрочные амбиции Хашимитов, состоявшие в том, чтобы собрать в рамках объединенного государства под властью их дома территориальные фрагменты распавшейся Османской империи (Хиджаз, Сирию, Палестину и Ирак) были сорваны [10. P. 679]. Однако проблема создания (воссоздания) объединенного арабского государства станет одной из ключевых тем ближневосточной политики в 1920-1930-е гг. Идея единого арабского государства, ставшая одновременно и целью, и мечтой для нескольких поколений арабских националистов, принимала более или менее конкретные очертания в разных проектах, иногда рассматривавшихся как конкурирующие, иногда - как взаимодополняющие. Мечта о едином арабском государстве могла воплотиться в «Великой Сирии», хотя сторонники идео- Шерстюков С.А. Проект «Великой Сирии» в ближневосточной политике и пропаганде Третьего рейха 127 логии панарабизма обычно рассматривали эту идею не столько как шаг, сколько как препятствие на пути к единому арабскому государству. «Великая Сирия» не существовала в качестве политической единицы, и не было «великосирийской нации», однако разделение территории «исторической» Сирии в 1919-1920 гг. на ряд государств под французским и британским мандатом стало одной из тяжелейших травм в череде многих политических травм, пережитых на Ближнем Востоке в то время [2. P. 3]. Абдалла и Фейсал - два представителя Хашимитского дома, утвердившиеся у власти в Трансиордании и Ираке - подмандатных территориях, вошедших в британскую зону ответственности, значительную часть своих усилий направляли на реализацию (в том или ином виде) панарабского проекта. Ибн Сауд, эмир Неджда, нанесший в 1926 г. поражение шерифу Мекки Хусейну и его сыну Фейсалу и объединивший почти весь Аравийского полуостров в рамках созданного в 1932 г. государства Саудовская Аравия, напротив, видел свою задачу в том, чтобы не дать реализоваться панарабским амбициям Хашимитов. Эмир Трансиордании Абдалла стал одним из самых известных и последовательных сторонников «Великой Сирии». Поскольку режим Абдаллы опирался на поддержку Британии, многие полагали, что за «великосирийскими амбициями» эмира Трансиордании стоит Лондон, другие формулировали эту мысль еще более радикально, рассматривая Абдаллу как орудие в руках британцев. Не отрицая зависимости Абдаллы от Великобритании, следует признать, что его отношения с британскими властями (в том числе и по поводу «Великой Сирии») были сложнее описанной логики. В разное время представители британского правительства не только поддерживали великодержавные устремления Абдаллы, но и ставили заслон его чрезмерной, как им казалось, активности. В британском правительстве были как сторонники «Великой Сирии» (не обязательно во главе с Абдаллой), так и противники этого проекта. «Британские сомнения также были связаны с необходимостью учитывать позиции других государств. К концу 1941 г. стало очевидно, что французская, ливанская, сирийская, иракская, саудовская и египетская оппозиция возвышению Абдаллы означала, что поддержка «плана Абдаллы» была бы контрпродуктивной. Тем не менее Абдалла был хорошим другом Британии, и британцы как можно дольше избегали публичной критики его планов» [Ibid. P. 93]. Третий рейх и «Великая Сирия» Множество акторов, располагавшихся на разных уровнях, но сложно друг с другом связанных, находившихся в отношениях противодействия и сотрудничества, множество контекстов и высокая динамика их изменения - все эти признаки делали ситуацию на Ближнем Востоке в межвоенный период отчасти похожей на современную. Однако необходимо обращать внимания не только на относительное сходство, но и на существенные различия. С окончанием Первой мировой войны в истории Ближнего Востока начинается постосманский, но не постимперский период - политическая карта региона в это время в основных своих контурах формируется двумя соперничающими империями - Британской и Французской. В целом они сохраняли доминирующие позиции в регионе на протяжении всего межвоенного периода, реагируя на растущие национальные движения на подмандатных территориях, приспосабливаясь к ним и подавляя периодически вспыхивающие восстания. В межвоенные годы только несколько стран региона являлись независимыми, в первую очередь кемалистская Турция, Иран во главе с династией Пехлеви и Хашимитская (вскоре Саудовская) Аравия [11. P. 607]. Хотя Италия присоединилась к Антанте в августе 1915 г., итальянцы узнали о соглашении Сайкс-Пико только в октябре 1916 г., и несмотря на то, что под давлением итальянцев союзники признали ограниченную сферу влияния Италии в Малой Азии, по итогам Парижской мирной конференции Италия не получила никаких колониальных приобретений в регионе [12. P. 12-13]. После прихода к власти Муссолини Италия использовала все доступные ей возможности для расширения своего влияния на Ближнем Востоке и в Северной Африке. В конце 1920-х гг. Рим усилил связи с лидерами арабских националистических движений, в том числе с видными сирийскими националистами (в частности, с Шакиб Арсланом). Итальянская активность в Леванте была предметом постоянного беспокойства французских властей. Позиция Италии относительно судьбы французских подмандатных территорий в Леванте не была лишена противоречий. Так, итальянское правительство стремилось поддержать христиан, выступавших за независимость Великого Ливана, и в то же время защищало тезис о неделимости сирийского мандата в Лиге наций [13. P. VIII]; итальянцы поддержали сирийских националистов, которые заявляли о единстве «Великой Сирии» и в то же время предлагали христианским меньшинствам защиту перед мусульманским большинством [Ibid. P. XI]. Итальянский исследователь Мауро Пирас связывает эту противоречивость с тем, что фашистский режим в Италии, выстраивая новую «исламскую политику», не отказывался от старых методов традиционной арабской политики даже тогда, когда эти политические курсы вступали в противоречие друг с другом [Ibid.]. Возможно, это противоречие объясняется стремлением итальянцев в условиях сохранявшейся неопределенности политического будущего Леванта работать с разными политически мобилизованными группами, действовавшими на территории «исторической» Сирии. Оценивая политику Веймарской республики в отношении Палестины и всего Ближнего Востока, исследователь Ф. Никозия писал: «Палестина и Ближний Восток не имели ключевого значения во внешнеполитических целях различных правительств Веймарской Г ермании, но находились на периферии непосредственной сферы интересов Германии. Тем не менее у Германии были конкретные политические, экономические и культурные интересы в Палестине и на остальном Ближнем Востоке, и она проводила определенную политику, направленную на сохранение и поощрение Проблемы всеобщей истории / Problems of world history 128 этих интересов. Политика Германии была двунаправленной; экономическим и культурным интересам наилучшим образом способствовали поддержание сионистского движения и осуществление Декларации Бальфура, в то время как общие политические интересы в Европе и на Ближнем Востоке обеспечивались поддержкой Британского мандата в Палестине (цит. по: [14. P. 465]). После прихода в 1933 г. Гитлера к власти в Германии ее ближневосточная политика до 1939 г. не претерпела радикальных изменений - ключевыми элементами этой политики являлись заинтересованность в еврейской эмиграции в Палестину и, напротив, незаинтересованность в поддержке арабских националистов, выступавших с антисионистскими и антиколониальными лозунгами. Германские дипломаты на Ближнем Востоке выступали в роли наблюдателей, стремившихся оценить ситуацию в отдельных странах и в регионе в целом, иногда не скрывавших злорадства по поводу трудностей, с которыми сталкивались там британские и французские власти, но уклончиво или отрицательно отвечавших на просьбы арабских националистов о конкретной помощи. До 1937 г. Гитлер стремился к достижению союза с Великобританией, в соответствии с которым Германия бы гарантировала интересы и безопасность Британской империи во всем мире в обмен на британское одобрение экспансии Германии в Центральной и Восточной Европе [15. P. 359]. Неудачи Г итлера в реализации этого курса ускорили формирование в конце 1930-х гг. германо-итальянского союза. Рассматривая экспансию в Европе в качестве основного приоритета, Гитлер легко пошел на признание Средиземноморья (и арабского мира) сферой влияния Италии: во время своего визита в Германию в сентябре 1937 г. Муссолини признал интересы Германии в Австрии и принял немецкую декларацию о поддержке итальянских интересов во всем Средиземноморском регионе [16. P. 117]. Хотя Италия со второй половины 1930-х гг. направляла все больше ресурсов на подрывную деятельность на Ближнем Востоке, настоящий вызов британофранцузскому доминированию в регионе страны «оси» смогли бросить только после начала Второй мировой войны (точнее - после разгрома Франции в июне 1940 г.). После начала Второй мировой войны сторонники более активного курса Германии на Ближнем Востоке могли с большим основанием полагать, что их доводы будут услышаны и приняты. Одним из первых о необходимости подорвать британские позиции на Ближнем Востоке заявил Макс фон Оппенгейм - ориенталист и бывший германский дипломат, давно не служивший в МИДе, но по-прежнему имевший репутацию одного из лучших экспертов по Ближнему Востоку и сохранявший связи как среди немецких дипломатов, так и среди арабских националистов. В октябре 1914 г. Оппенгейм предложил план «революционизации исламских областей» противников Германской империи -документ, фактически легший в основу стратегии Германской империи в «мусульманском мире» в годы Первой мировой войны. Оппенгейм остался верен себе - в 1940 г. он выступил со сходной идеей, предусматривавшей «револю-ционизацию» Ближнего Востока, целью которой было бы «уничтожение британского господства» в регионе [17. S. 1]. Центральное место в своих замыслах Оппенгейм отводил Сирии, называя ее «единственной страной, опираясь на которую можно вести в настоящее время нашу борьбу против Англии» [Ibid.]. Оппенгейм считал необходимом отправить в Сирию «так быстро, насколько это возможно прежнего посла в Багдаде доктора Гроббу»6 [Ibid]. Одного этого достаточно было, полагал Оппенгейм, чтобы стимулировать борьбу арабских стран против Британии. «Гробба там известен как опаснейший противник Англии, - писал Оппенгейм, - его имя будет действовать там как программа, его появление и его работа в Дамаске станут призывом к борьбе не только для Сирии, но и для всех арабских стран» [Ibid. S. 2]. Оппенгейм уже много лет не находился на государственной службе, однако взгляды, которые он выражал в своей записке (о симпатиях к Германии в арабском мире и готовности арабов выступить при первой возможности против Великобритании) были широко распространены среди действующих немецких дипломатов, занимавшихся Ближним Востоком. Отмечая, что Ирак хочет аннексировать Сирию и что Ибн Сауд этому объединению всеми способами препятствует, Оппенгейм формулировал свое видение будущего Сирии: «Простым решением было бы на сооружаемый сирийский трон посадить сына Ибн Сауда. О прямой аннексии Сирии Саудовской Аравией из религиозных соображений не может идти речи, так как господствующий в Саудовской Аравии фанатичный ваххабизм неприемлем для Сирии. Саудовскому принцу необходимо будет при управлении Сирией отказаться от его религиозного учения» [Ibid. S. 3-4]. Оппенгейм, как и Фриц Гробба, считал, что позиция Саудовской Аравии будет иметь важное (если не определяющее) значение в исходе борьбы с Великобританией за Ближний Восток, и поэтому он предлагал дать обещание Ибн Сауду в отношении части (или даже всей) территории Трансиордании и решить благоприятным для Ибн Сауда образом спор о «Великой Сирии». Однако в отличие от Гроббы, который акцентировал внимание на особой роли Саудовской Аравии в мусульманском мире, Оппенгейм рассматривал религиозный фактор скорее, как препятствие для экспансии последней. В проекте Оппенгейма, с одной стороны, выражалась идея возвращения к границам «исторический Сирии» (в частности, он писал, что «Ливан, как до Первой мировой войны, снова вошел бы в Сирию как район с собственным управлением»), с другой - выдвигалась идея союзного государства, границы которого были бы гораздо шире границ «Великой Сирии» («После достижения мира и победоносного завершения борьбы против Англии, - писал он, - возникло бы союзное государство упомянутых арабских стран Передней Азии, в котором были бы представлены Йемен и ма- Шерстюков С.А. Проект «Великой Сирии» в ближневосточной политике и пропаганде Третьего рейха 129 лые государства аравийского полуострова, такие как Оман, Йемен, Кувейт и т.д. »). [17. S. 4]. Оппенгейм, изложивший в записке свое видение «нового порядка» в арабском мире, понимал, что эта проблема еще будет рассматриваться и решаться в будущем (как он полагал - в ближайшем). В этой связи он хотел, чтобы Гробба взял с собой в Сирию известного сирийского националиста Шакиба Арслана, «чтобы с ним обсудить новый государственный порядок в арабского мире и особенно в Сирии» [Ibid.]. Оппенгейм направил свою записку в МИД 25 июля 1940 г. - через месяц после разгрома немецкими войсками французских вооруженных сил и капитуляции Франции. Выведение из войны Франции имело множество последствий для участников глобального конфликта, одно из них - изменение военно-политической ситуации в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Хотя условия франко-германского перемирия предусматривали, что в статус мандатных территорий Франции не будет внесено каких-либо изменений и «Франция будет продолжать свою миссию в Леванте» [19. С. 57], в Берлине и Риме активно разрабатывались планы, предусматривавшие использование территории Сирии и Ливана как плацдарма для борьбы с Великобританией на Ближнем Востоке. Параллельно обсуждался вопрос о переустройстве политического пространства в Леванте. Итальянская комиссия по перемирию прибыла в Бейрут спустя месяц после подписания перемирия с Францией. За ней вскоре последовали различные немецкие агенты и служащие, которые в основном занимались пропагандой, играя на арабских надеждах и страхах, среди прочего, относительно Палестины и Александретты7. Французское поражение и арабский опыт британской и французской политики с 1918 г. делали немецкую пропаганду успешной у части арабских националистов [20. P. 366]. Немецкие дипломаты исходили из того, что Германия может обещать арабам не только возможность создания объединенного государства, но и решение «еврейского вопроса» на Ближнем Востоке. Сотрудник политического отдела МИДа В. Мельхерс в своей записке от 9 декабря 1940 г. в сверхоптимистическом ключе описывал эффект от подобных обещаний: «В целом обещание приемлемого для них решения еврейского вопроса может быть дано арабскому миру. Намек на возможности формирования Большого сирийского государства, вероятно, вызовет у Британии большие трудности в Палестине... Осуществление только некоторых из этих предложений вызвало бы во всем арабском мире (вероятно, также в Северной Африке) значительное движение и, вероятно, лишило бы возможности действовать Англию так же, как и де Голля» [21. S. 692]. В то же время Мельхерс призывал к изучению ситуации на месте и к консультации с союзниками - итальянцами и арабами. Несмотря на ожидаемый эффект от планируемых пропагандистских акций, Мельхерс был крайне осторожен в своих формулировках. У этой осторожности было много причин, лежавших как в сфере политической целесообразности, так и в сфере идеологии. Немецкий посол в вишистской Франции Отто Абетц в свой телеграмме от 28 февраля 1941 г. называл некоторые из них: «Раскрытие тайных немецких обещаний арабским государствам относительно помощи в создании Великой арабской империи, несомненно, придало бы решающий импульс голлистскому движению, которое очень сильно в Сирии, и будет восприниматься французским правительством как противоречащее соглашению о прекращении огня» [22. S. 155]. Признавая, что обнародование планов создания в какой-либо форме объединенного арабского государства может стать мощным инструментом политического влияния, Мельхерс и Абетц диаметрально противоположно оценивали последствия подобного шага. В документах, затрагивавших вопрос о будущих «политических конструкциях» на Ближнем Востоке, встречались разные названия этих «конструкций», два из которых - «Великая Сирия» и «Великая арабская империя» - пересекались, но, как правило, не совпадали. «Великая Сирия» могла рассматриваться как ядро будущей «Великой арабской империи», как одна из ее частей и как альтернативный ей проект. Упомянутый уже Абетц предлагал в этом вопросе ограничиться «конфиденциальной гарантией» арабским партнерам. «Если этой гарантии будет недостаточно, - писал он, -можно было бы первоначально поддержать формирование федерации шести арабских государств, в которой три подмандатных государства - Сирия, Трансиордания, Палестина - могли бы иметь особый статус» [Ibid.]. Стремясь найти формулу, которую можно было бы представить арабским националистам, не вызвав одновременно отрицательной реакции других акторов, Абетц предлагал промежуточный вариант, в котором единое арабское государство совмещалось с сохранением системы мандатов. Поиск такой формулы станет в это время одной из главных забот немецких дипломатов. Сотрудники германского МИДа, рассуждавшие о политических преобразованиях в регионе, вынуждены были учитывать не только признаваемый Германией приоритет Италии в арабских делах, но и, как они неоднократно подчеркивали, сдержанное отношение Италии к созданию «Великой арабской империи». Вместе с тем, хотя Италия в своей политике на Ближнем Востоке с гораздо большей осторожностью подходила к вопросу о создании единого арабского государства, чем ее союзник по «оси», в итальянской пропаганде, направленной на регион, содержались призывы к пересмотру существующих в нем политических образований. Итальянцы распространяли листовки в поддержку «большой Палестины». А 30 июня 1940 г., сразу после падения Франции, они объявили по радио Бари о своем видении создания большого сирийского государства [2. P. 96]. В 1941 г. происходило нарастание пропагандисткой, разведывательной и военно-политической активности Германии в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Высадка африканского корпуса Роммеля в Ливии в феврале, оккупация Греции и Югославии в апреле, антибританское восстание в Ираке, поддержанное Германией, и захват острова Крит, произо- Проблемы всеобщей истории / Problems of world history 130 шедшие в мае 1941 г., с одной стороны, создали новые возможности для действий Третьего рейха в арабском мире, с другой - ставили перед ним новые задачи. Среди них - поиск более эффективных способов пропаганды, в которой нужно было найти оптимальное сочетание исламской риторики и риторики арабского национализма. Дилемма выбора и вместе с тем признание приоритета национализма перед исламом просматривается в записке, имевшей характер программного документа, руководителя политического отдела германского МИДа Эрнста Воерманна от 7 марта 1941 г.: «Исламская мысль (“Священная война|”), - писал Воерманн, -при современном соотношении сил неприменима. Арабизм и ислам не совпадают. Приобщаемые к нашей игре арабы борются не за религиозные, а за политические цели. Однако вопросы, связанные с исламом, требуют тактичного обращения» [22. S. 194]. За этой обязательной для министерства иностранных дел позицией, как отмечал немецкий исследователь Герхард Хепп, которая явно признавала приоритетным поиск «партнеров» среди национальных или националистических движений в Северной Африке и на Ближнем Востоке, безусловно, скрывался провальный опыт исламской политики Германской империи во время Первой мировой войны, который передавался также вследствие персональной преемственности в ведомстве [23. S. 440]. Тем не менее и после указания Воерманна вопрос о политическом и военном значении ислама и «мусульманского мира» продолжал обсуждаться - не только дипломатами, но и людьми, к голосу которых могли прислушаться в МИДе8. Осенью 1941 г. в МИД поступил двухстраничный документ, автором которого был Ласло Алмаши - исследователь пустыни, ориенталист и с 1941 г. - офицер африканского корпуса Эрвина Роммеля. В ней автор изложил свою стратегию использования ислама для достижения немецких военных целей на Ближнем Востоке. В этом документе ислам и арабский национализм не противопоставлялись друг другу; напротив, в нем заметно стремление соединить их в проекте «Великой Сирии» и в лице иерусалимского муфтия Мухаммада Амина аль-Хусейни, которой должен был стать халифом и главой «великосирийского государ-ства»9. Анализируемый документ - его стилистика, язык и выражаемые в нем представления о «мусульманском мире» и его значении в противостоянии противникам Германии - не просто напоминал «план Оппенгейма», предложенный в октябре 1914 г. Вильгельму II, но фактически в основных чертах воспроизводил его. «У Германии мало внутренних связей с исламом. Британия, напротив, имеет разнообразные внутренние связи с миром ислама» [25. S. 1], - утверждалось в документе. Значимость «внутренних связей» с исламом раскрывалась в следующем пассаже: «Если чувство солидарности между Германией и исламом возникло бы, и в результате 250 миллионов мусульман проявили бы внимание и сочувствие к Германии, то таким образом получилось бы вызвать у Англии массовый психоз с катастрофическими последствиями... следовательно, Англия вынуждена будет пойти на заключение скорейшего мира» [Ibid.]. Халифат, как и Османская империя, перестал существовать после Первой мировой войны, однако в анализируемой записке 1941 г. именно возрождение халифата рассматривалось как способ, с помощью которого Германия могла бы создать «глубокую связь» с исламом, а муфтий аль-Хусейни характеризовался как наиболее подходящая фигура на роль халифа. Прибытие муфтия и его переговоры с Гитлером открывали новые возможности для немецкой пропаганды на Ближнем Востоке. «Весь ислам пришел бы в огромное движение, - писал Алмаши, - при приеме великого муфтия фюрером, торжественном заявлении о гарантии для объединенной Большой Сирии с признанием великого муфтия духовным лидером, а также посредством пропаганды, ссылающейся на необходимость халифата и обращения великого муфтия по радио к арабскому миру» [Ibid. S. 2]. В конце записки содержался призыв «.сооружать не панарабское, а великосирийское государство, чтобы проложить путь к решению вопроса о халифате и тем самым помочь исламу по-настоящему бескорыстным способом» [Ibid.]. Автор документа обращался к целому комплексу проблем, находившихся в орбите ближневосточной политики Третьего рейха, правда, если одни из них (о декларации, гарантирующей независимость арабских стран10, о едином арабском государстве, о политике в отношении ислама, об арабских лидерах, на которых следует сделать главную ставку) находились в центре внимания немецких дипломатов, то другие -в частности «проблема халифата», скорее - на периферии их внимания. В той упрощенной и искаженной реальности, которую рисовал в своем воображении Алмаши, продвижение халифатистского проекта, безусловно, рассматривалось как многообещающее с точки зрения пропаганды мероприятие, с другой стороны, подобный проект плохо соотносился с идеей о необходимости дозированного и избирательного обращения к исламу и мог быть негативно воспринят как союзниками Третьего рейха (Италией, вишистской Францией), так и странами, рассматривавшимися им как важные партнеры (Турция, Саудовская Аравия). К тому же аль-Хусейни, являвшийся известным арабским националистом, не был и не мог быть общепризнанным лидером арабского мира. Неслучайно позднее, через год после появления анализируемого выше документа, Штеффен, сотрудник «штаба Гроббы» в МИДе, в своей записке от 9 ноября 1942 г. пришел к заключению, что «вопрос о восстановлении халифата больше не является актуальным...» [23. S. 444]. Необходимость учитывать позиции Италии, вишист-ской Франции, нейтральной Турции и других акторов заставляла немецкое руководство придерживаться крайне осторожной линии в отношении любых политических проектов в арабском мире, в том числе и проекта «Великой Сирии». Тем не менее поскольку, начиная с лета 1941 г., немецкое командование планировало прорыв на Ближний Восток одновременно по двум направлениям, эту Шерстюков С.А. Проект «Великой Сирии» в ближневосточной политике и пропаганде Третьего рейха 131 операцию нужно было сопроводить соответствующими пропагандистскими и политическими мероприятиями. Немецкий МИД снова возвращается к вопросу о «политической организации» арабского мира. В начале 1942 г. Риббентроп поручил Фрицу Гроб-бе, «уполномоченному по арабским странам» в МИДе, подробно изложить линию МИДа в предстоящем «наступлении Германии в арабских странах» [26. S. 107]. В одном из разделов подготовленной Гроббой записки, датированной 7 февраля 1942 г., называвшемся «Новый порядок в арабских странах», немецкий дипломат сформулировал планируемые политические преобразования: «Ирак, Саудовская Аравия, Йемен и Египет останутся независимыми странами. Сирия, Ливан, Палестина и Трансиордания будут объединены в одно государство - «Великая Сирия». Ирак и Великая Сирия могут создать единую федерацию. Все перечисленные арабские страны будут объединены союзом или системой союзных договоров. Свержение хашимитских правителей в Багдаде и Аммане. Ирак получает Кувейт, Ибн Сауд - Маан и Акабу, а также контроль над Оманом, морским побережьем и, возможно, над Хадра-маутом и Бахрейнскими островами» [27. C. 187]. Интересно, что понятие «независимые» использовалось для описания Ирака, Саудовской Аравии, Йемена и Египта - государств, которые имели различную степень самоуправление перед войной, но не для Сирии, Ливана, Палестины и Трансиордании [16. P. 207] -подмандатных территорий, находившихся до войны под прямым контролем Великобритании и Франции. В документе подтверждена линия, состоявшая в готовности немецкого МИДа поддержать территориальные притязания Ибн Сауда в отношении части территорий Трансиордании и небольших государств Аравийского полуострова, находившихся под контролем Великобритани
Наумкин В. Компьютерные джихадисты Ближнего Востока. URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/kompyuternyedzhikhadisty-blizhnego-vostoka/ (дата обращения: 16.04. 2018).
Pipes D. Greater Syria: the History of an Ambition. New York : Oxford University Press, 1992. 240 p.
Наумкин В. Нужно ли присоединять Россию к соглашению Сайкса-Пико? URL: http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/nuzhnoli-prisoedinyat-rossiyu-k-soglasheniyu-sayksa-piko/ (дата обращения: 16.04. 2018).
The Balfour Declaration. November 2, 1917. URL: http://www.mfa.gov.il/mfa/foreignpolicy/peace/guide/pages/the%20balfour%20declaration.aspx (accessed: 16.04. 2018)
Barr J. A Line in the Sand. Britain, France and the Struggle that shaped the Middle-East. London : Simon & Schuster, 2011. 464 p.
Letters between Hussein Ibn Ali and Sir Henry Mcmahon. URL: https://wwi.lib.byu.edu/index.php/Letters_between_Hussein_Ibn_Ali_and_Sir_Henry_Mcmahon (accessed: 16.04. 2018)
Остерхаммель Ю. Трансформация мира: история XIX века. Главы из книги // Ab Imperio. 2011. № 3. С. 21-140.
Алимова А.Н. Антун Сааде и идеология пансирианизма // Ислам в современном мире. 2018. № 14 (1). C. 209-222.
Bosworth C.E. Al-Sham // Encyclopaedia of Islam : 12 vols. / ed. by C.E. Bosworth, E. Van Donzel, W.P. Heinrichs, G. Lecomte et al. Leiden : E.J. Brill, 1995. Vol. VIII: Ned-Sam. P. 261-281.
Masalha N. Faisal's Pan-Arabism, 1921-33 // Middle Eastern Studies. 1991. Vol. 27 (4). P. 679-693.
Motadel D. The Muslim world in the Second World War // The Cambridge History of the Second World War / R. Bosworth, J.A. Maiolo (eds.). Cambridge : Cambridge University Press, 2015. P. 605-626.
Arielli N. Fascist Italy and the Middle East, 1933-40. Basingstoke : Palgrave Macmillan, 2010. 257 p.
Mauro P. Politica islamica e propaganda fascista in Siria e Libano (1932-1940) : Doctoral Thesis. Universita' degli Studi di Cagliari, 2012. 329 p.
Dieterich R. Germany's Relations with Iraq and Transjordan from the Weimar Republic to the End of the Second World War // Middle Eastern Studies. 2005. Vol. 41 (4). P. 463-479.
Nicosia F.R. Arab Nationalism and National Socialist Germany, 1933-1939 Ideological and Strategic Incompatibility // The International Journal of Middle East Studies. 1980. Vol. 12. P. 351-372.
Nicosia F.R. Nazi Germany and the Arab World. New York : Cambridge University Press, 2015. 301 p.
Bundesarchiv. Potsdam. Auswartiges Amt. Fro 14882.
Шерстюков С.А. «Арабский вопрос» во внешней политике Третьего рейха / под науч. ред. О.Ю. Курныкина. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2014. 146 с.
Пир-Будагова Э.П. История Сирии. ХХ век / Ин-т востоковедения РАН. М. : ИВ РАН, 2015. 392 с.
Tibawi A.L. A Modern History of Syria (Including Lebanon and Palestine). Macmillan : St Martin's Press, 1969. 441 p.
Akten zur deutschen auswartigen Politik 1918-1945. (ADAP). Serie D: 1937-1945. [S.l.], 1964. Bd. 11. S. 2.
ADAP. Serie D: 1937-1945. Frankfurt a. M., 1963. Bd. 12. S. 1.
Hopp G. Der Koran als «Geheime Reichssache». Bruchstucke deutscher Islampolitik zwischen 1938 und 1945 // Gnosisforschung und Religionsge-schichte : Festschrift fur Kurt Rudolph zum 65. Geburtstag / Hrsg. H. PreiBler, H. Seiwert. Marburg : Diagonal-Verlag, 1994. S. 435-446.
Hitler's Muslim stop-gaps.Interview with historian David Motadel. URL: https://en.qantara.de/content/interview-with-historian-david-motadel-hitlers-muslim-stop-gaps (accessed: 16.04. 2018)
Bundesarchiv. Potsdam. Auswartiges Amt. Nr. 611174.
Eichholtz D. Krieg um Ol. Ein Erdolimperium als deutsches Kriegsziel 1938-1943. Leipzig : Leipziger Universitatsverlag, 2006. 141 S.
Тайны дипломатии Третьего рейха: германские дипломаты, руководители зарубежных военных миссий, военные и полицейские атташе в советском плену : документы из следственных дел, 1944-1955 / отв. ред. В.С. Христофоров; вступ. ст., сост. В.Г. Макарова, B.C. Христофорова; коммент. В.Г. Макарова. М. : МФД, 2011. 880 с.
Bundesarchiv. Potsdam. Auswartiges Amt. F. 13300.
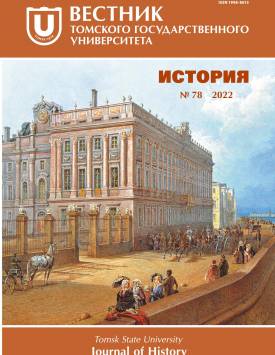

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью