Му'риб ан ба'д аджаиб ал-Магриб и Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-аджаб абу Хамида ал-Г арнати как источники по истории и религиозной практики народов Дагестана в XII в.: сравнительный анализ
Приводятся новые сведения по истории Дагестана XII в. на основе перевода, комментирования и сравнительного анализа выдержек из сочинений ал-Гарнати (ум. 1170) My'риб ан ба’д аджаиб ал-Магриб и Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-а'джаб, относящихся к истории народов Кавказа. Также выполнено сопоставление отрывков о Восточном Кавказе из указанных сочинений ал-Гарнати в переводе О.Г. Большакова, чтобы выяснить, содержат ли они интерпретационные недостатки. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Al-mu 'rib 'an bad ayd'ib al-Maghrib and Tuhfat al-albab wa nukhbat al-a’jhab by abu Hamid al-Gharnati as.pdf Для народов Кавказа сочинения на арабском языке являются источниками знаний в области социально-культурной, этнорелигиозной, и политико-экономической истории. Фрагментарность извлечений из арабских источников не дает возможности исследователям обстоятельно изучить, в частности, средневековую историю народов Дагестана. Данная статья написана с целью освещения новых сведений по истории Дагестана XII в. на основе перевода, комментирования и сопоставительного анализа выдержек из сочинений Абу Хамида ал-Гарнати Му’риб ан ба’д аджаиб ал-Магриб («Ясное изложение некоторых чудес Магриба») 0е и Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-а'джаб («Подарок умам и выборка из чудес») М^ѴІ МДѴІ, относящихся к истории Кавказа, для их взаимопроверки и осмысления, а также сравнительного анализа существующего перевода отрывков о Восточном Кавказе из сочинений ал-Гарнати, выполненного О.Г. Большаковым в 1971 г., который содержит интерпретационные ошибки: в частности, некоторые фрагменты из арабских текстов ал-Гарнати отсутствуют. В классической арабской географической литературе прослеживается несколько основных жанров: астрономо-математический, описательный и энциклопедический. В XII в. эта литература продолжает свое развитие в смешанном стиле, известном нам как жанр космографии и описательной географии. В 1130 г. через г. Дербент и другие политические образования Кавказа по пути в Саксин, город в низовьях Волги, путешествовал андалузский ученый-правовед, географ Абу Хамид Мухаммад б. Абдурахим б. Сулайман б. Раби ал-Кайси б. Гайлан б. ал-Басир б. Рида Абу Тураб. Он родился в 1080 г. в Гренаде (отсюда - нисба ал-Гарнати), где и получил первоначальные знания. Чтобы продолжить дальнейшее образование, наш автор, подобно многим своим соотечественникам, покинул Пиренейский полуостров и прибыл в Александрию в 511 г.х. /1117, а в следующем году перебрался в Каир, оттуда через год отправился в Багдад, где прожил четыре года. После Сицилии, Александрии, Каира, Дамаска и Багдада он много путешествовал, побывал во многих странах Кавказа, Восточной Европы и Средней Азии, за исключением Индии и Китая. Его наблюдения и впечатления от этих путешествий легли в основу произведений, известных под названиями Му’риб ан ба’д аджаиб ал-Магриб и Тухфаг ал-албаб ва нухбат ал-а’джаб [1. C. 299]. Трудно сказать, что побудило ал-Гарнати двинуться в этот дальний путь. О.Г. Большаков считает, что «Абу Хамид полон энергии и миссионерского пыла -всюду он наставляет местных мусульман, не искушенных в тонкостях вероисповедания и мусульманского права. В Дербенте его принимает эмир, которому он преподает уроки мусульманского права, в Саксине у него собираются местные правоведы, к нему приходят за разрешением трудных случаев. Саксин на 20 лет стал домом ал-Гарнати. Оттуда он совершал поездки в Булгар (1135-1136), где пробыл по крайней мере зиму и лето, и дважды побывал в Хорезме» [2. C. 7]. С 1150 по 1153 г. ал-Гарнати прожил в Венгрии, где пользовался влиянием на местных мусульман. Об этом говорит тот факт, что сам король Венгрии согласился на его отъезд для паломничества в Мекку лишь при условии его возвращения обратно, в залог этого пришлось оставить старшего сына Хамида. Но из Мекки он не поехал ни в Венгрию, ни в Саксин, где оставалась часть его семьи, а вернулся в Багдад. Оттуда, окончив Тухфат ал-албаб, ал-Гарнати переехал в Сирию, где и скончался в 1170 г. [Там же] Списки сочинений ал-Гарнати Му’риб ан ба’д аджаиб ал-Магриб и Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-а'джаб находятся в библиотеках разных стран. Первое сочинение посвящено прикладной астрономии, ориентации мечетей, хронологии различных народов, описанию чудес и диковинок Магриба, Александрии и Каира. Содержание второго в значительной мере повторяло первое, но композиция сильно изменилась. Перед нами воспоминания о путешествии, изложенные более или менее последовательно: Сицилия, Мальта, Александрия, Каир, Аскалон, Дамаск, Ардебиль, Муган, Баку, Дербент Саксин и др. История изучения этих сочинений достаточно подробно изложена в работе О.Г. Большакова «Путешествие Абу Хамида ал-Г арнати», что избавляет нас от необходимости подробно останавливаться на этом. Сочинение Тухфаг ал-албаб ва нухбат ал-а’джаб нам известно переводом Б. Дорна на немецкий язык ряда отрывков, посвященных Прикаспию и Поволжью [3. Р. 695-696]. Затем В.В. Бартольд опубликовал из ГизбулаевМ.А. Шу'риб ан бад аджаиб ал-Магриб и тухфат ал-албаб ва нухбат ал-аджаб 137 него отрывок текста о кубачинцах [4. C. 121]. В 1925 г. появилось критическое издание Г. Феррана указанного сочинения ал-Гарнати, в основу которого он положил одну из пяти рукописей Национальной библиотеки в Париже [5]. В 1953 С. Дублер опубликовал часть обнаруженной им в Мадриде рукописи ал-Гарнати ал-Муриб ан бад аджаиб ал-Магриб, которая до того была известна только по упоминанию у библиографа XVII в. Хаджи Халифы [6]. На следующий год появилась статья И. Хрбека, в которой он знакомил чешских читателей с содержанием нового сочинения, привел перевод наиболее интересных мест и предложил ряд поправок к чтениям С. Дублера [7. P. 166]. В СССР первая статья, посвященная этому сочинению, появилась только в 1959 г. и принадлежала А.Л. Монгайту [8]. Некоторые отрывки из Муриба были переведены Б.Н. Захо-дером [9. C. 66-67]. Для выделения сведений о Дагестане в исследовании использовались Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-а'джаб [5], ал-Му’риб ан бад аджаиб ал-Магриб [10], а также перевод О.Г. Большакова некоторых фрагментов текста ал-Гарнати [2]. Сочинение Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-аджаб распадается на четыре неравных по величине и достоинству главы: 1) описание мира и его обитателей из людей и джиннов; 2) описание чудес стран и необычайных построек; 3) описание людей и диковинных животных в них; 4) описание пещеры и могил. Что касается нашего исследования, существует сообщение в Тухфат ал-албаб, где содержится описание дагестанского Дербента. Ал-Гарнати везде пишет название этого города через «д», но мы в соответствии с современным написанием пишем Дербент: «В стране [в данном случае как собирательное название региона] Дербент - Баб мин ал-Абваб1 - есть народность, которую называют табасаранцы (в тексте табарсалан), у них 24 рустака [сельские поселения], в каждом рустаке имеется большой военачальник сер-ханк ^j«, подобный эмиру. Они - мусульмане, принявшие ислам во времена Масламы б. ‘Абдулмалика (ум. 738)2, когда Хишам б. ‘Абдулмалик [Омейядский халиф (723-743 гг.)], став халифом, послал его и он освободил Баб ал-Абваб» [5. Р. 83]. Более подробные сведения о Дербенте ал-Гарнати приводит в Мурибе и добавляет, что «основание его - обтесанная скала и стена его из скалы [обтесанный камень твердой породы]. Он [город] - построенный кисрой [Сасанидский правитель Хосров I Ануширваном (ум. 579)] и освобожденный [затем от политического господства хазар] Масламой б. ‘Абдулмаликом - продолговатый от горы до моря, а расстояние его в длину равна трем фарса-хам, где его ширина равна полету стрелы, а ворота [в город] из железа, и есть у него множество башен. [Следует отметить, что] в каждой башне имеется и мечеть, и жилища для ищущих спасения [от насилия, угроз для жизни], и светлые помещения. А на самой [Дербентской оборонительной] стене расквартирована стража, которая [вдоль нее] занимается призывом [в ислам] от заката до рассвета, и во всеуслышание говорит: “Нет бога, достойного поклонения, кроме одного лишь Аллаха, у которого нет сотоварища, и что Мухаммад - посланник Аллаха - мир ему”. Также она [стража] занимается поминанием Аллаха всю ночь. [Кроме того], в этих башнях, а также на самой стене служат защитники [границ] и представители службы безопастности, в распорежение которых имеется множество вакуфной собственности» [10. F. 13]3. В Мурибе в продолжении описания Дербента и прилегающих к нему земель следуют сведения, которые относятся к описанию островов Каспийского моря: «[Недалеко от Дербента] в [Каспийском] море есть гора, покрытая черной глиной [возможно после извержения вулкана], на гребне которой имеется длинный кратер с вытекающей из него водой. Вместе с этой водой выходят [наружу] камушки, похожие на латуни, и люди привозят их оттуда в разные уголки мира [в качестве диковинки для изумления]. Вблизи от вышеуказанной горы есть два острова, один из которых наполненный [разными] змеями и травой, посреди которого никто не может наступить своей ногой на землю из-за того, что она кишит змеями. Кроме того, там морская птица высиживает яйца посреди змей, которые не причиняют вреда ее яйцам. Следующий из них - остров джиннов, который не обитаем зверями, но [говорят] там слышится голос, когда они [джинны] разговаривают. [Так ли это] Аллах знает лучше» [Ibid]4. Что касается расстояния между стенами, выраженного нашим автором как «полет стрелы», то оно соответствует примерно 450 м. Реальное же расстояние между стенами цитадели примерно 350 м. Кроме того, неточен ал-Гарнати в определении длины города в три фарсаха (около 18 км), в то время как длина города от моря до цитадели составляет 2,5 км. Это вполне объяснимо тем, что как бы продолжением городских стен служила каменная стена, начинающаяся от цитадели и тянущаяся вглубь гор на 42 км, с башнями, контролирующими горные проходы. Подтверждается и сообщение о железных воротах Дербента. В сочинении Ибн А'сама ал-Куфи зафиксирована информация о том, что Маслама назначил правителем Дербента одного из своих приближенных по имени Ибн Сувайд ас-Са'лаби, которому он приказал соорудить хранилища в крепостных башнях города для пшеницы, ячменя, оружия, а также проследить за строительством железных ворот, чтобы восстановить значимость города [11. C. 138]. Следует отметить, что Маслама б. ‘Абдулмалик -Омейядский генерал-губернатор провинции Арминийи, брат четырех халифов: ал-Валида, Сулаймана, Йазида II и Хишама, при которых он неизменно вел наиболее ответственные военные кампании против хазар. Рассказывая об усилиях мусульманского наместника и арабского населения в Дербенте по распространению ислама среди горцев, ал-Гарнати сообщает: «И обратил он [Маслама] в ислам множество народов [из различных политических образований] таких как: Лакзан jj£Ul, и Филан j^dl, и Хайдак jl^l, и Заклан и Гумик и Дарха дД Всего их [в Кабке] семьдесят, и у каждого свой язык» [2. C. 55; 5. Р. 83]. Примечательно, что, по данным ал-Гарнати, территориально процесс исламизации охватывал Дагестан с юго-востока на северо-запад, т.е. включал ближайшие Проблемы историографии, источниковедения... /Problems of historiography, source studies... 138 к Дербенту небольшие политические образования. Но чтобы в VIII в. могло перейти в ислам все население вышеуказанных политических образований, трудно поверить. Так, еще в начале XIII в. - по словам Ибн Асира - «среди лакзов есть как мусульмане, так и неверующие из них...» [12. Р. 405]. Далее ал-Гарнати сообщает о процессе формирования этнической структуры Дербента и об обращении табасаранцев с просьбой к нему не покидать Дагестан, так как шел начальный этап исламизации некоторых дагестанских народов: «А когда Маслама захотел уйти [в Дамаск, где находилась резиденция Халифа], после того как поселил в Дербенте 24 000 арабских семей из Мосула, Дамаска, Хомса, Тадмора [Пальмиры], Халеба [Алеппо], и других городов Сирии и Джазиры [Верхнее Месопотамия], то сказали ему табасаранцы [в тексте автора: табарсалан]: “О эмир! Мы боимся, что когда ты уйдешь от нас, то эти народности отпадут [совершат вероотступничество] от ислама и мы будем бедствовать из-за соседства с ними”» [5. Р. 83]. Причина этого ухода неясна, возможно, она связана с решением Омейядского халифа Хишама в 732 г. заменить пожилого Масламу на своего более молодого и отличившегося в войне с хазарами родственника Марвана б. Мухаммада5. Из Тухфат ал-албаб следует, что тогда Маслама извлек свою саблю и сказал: «Сабля моя будет среди вас [табасаранцев], оставьте ее здесь, и, пока она будет среди вас, никто из этих народностей не отпадет [не совершит вероотступничество]. И сделали они для его сабли в скале что-то вроде михраба [ниша в стене] и поставили ее внутри него, на холме, где [Маслама] стоял лагерем. Она и сейчас [в 1130 г.] находится в той земле, люди совершают к ней паломничество» [2. C. 56; Р. C. 84]. Что касается рассматриваемого сюжета из текста, то представляется вероятным, что сабля Масламы действительно была оставлена в Табасаране в целях устрашения и в качестве символа покорения народа и непобедимости ислама в Дагестане. Однако, как пишет А.М. Генко, по прошествии нескольких столетий табасаранцы приписывали тому мечу чудеса настолько, что они и другие жители Южного Дагестана и Азербайджана стремились приносить туда свои дары и просить бога милости в минуты нужды [13. C. 103]. «Тому, кто направляется к ней [к месту, где хранится сабля Масламы] зимой, не запрещается надевать синие одежды или иных цветов, а если направляется в сезон жатвы, то не разрешают никому посещать ее в каких-либо одеждах, кроме белых; а если кто-нибудь посетит ее не в белой одежде, то идет обильный дождь, и губит посевы, и портит фрукты. Это дело у них хорошо известно» [2. C. 57; 5. C. 84]. К этим сведениям ал-Гарнати в другом сочинении Мурибе добавляет: «поэтому в рустаках [Табасарана] на дорогах к этому холму поставлены стражи, которые не пускают тех, кто идет смотреть саблю в цветной одежде» [2. C. 29; 10. F. 14]. Таким образом, из рассказа ал-Гарнати следует понять, что культ сабли связан с аграрной образностью, что подтверждается посещением сабли паломниками во время жатвы. Здесь прослеживаются пережитки языческих воззрений на железо как на средство защиты от злых духов, которые при несоблюдении определенного запрета могут причинить различные беды. Исходя из этого, мы можем полагать, что белый цвет одежды паломников мог связываться с солнцем, ясной погодой. Примечательно, что и сейчас у табасаранцев особо почитаемым и священным местом, где устраиваются коллективные моления «зикр» во время стихийных бедствий, считается горная пещера Дюрк в с. Хустиль. На этом описание территории и культуры народов Южного Дагестана не закончилось. По данным ал-Гарнати, «...недалеко от Дербента есть большая гора, у подножия которой - два селения; в них живет народность, которую называют зерехгеран [кубачинцы], т.е. “бронники”; они изготавливают всякое воинское снаряжение: кольчуги, и панцири, и шлемы, и мечи, и копья, и луки, и стрелы, и кинжалы, и всевозможные изделия из меди. Все их жены, и сыновья, и дочери, и рабы, и рабыни занимаются всеми этими ремеслами. И хотя нет у них пашен и садов, добра и денег у них больше, чем у других, потому что со всех сторон привозят к ним всякие блага» [2. C. 57; 5. Р. 85]. В Мурибе наш автор дает точное расстояние между этими населенными пунктами: «А выше Дербента в дне пути под горой на двух больших холмах [Аштинского микрорегиона] находится два села, в которых, как говорят, живут бронники. У них нет другого ремесла, кроме как заниматься производством кольчуг, панцирей, сабель, копий, железных ядер, стрел (арбалет) и другого рода занятий с металлом» [10. F. 14]6, - что близко к реальному расстоянию между этими населенными пунктами, тогда как по автомобильной дороге - 89 км. Кроме того, следует подчеркнуть, что Кубачи был и есть один из центров ремесла на территории Восточного Кавказа. Далее следуют сведения о том, как у кубачинцев в рассматриваемый период (XII в.) проходил древнеиранский зороастрийский обряд похорон и что представляла из себя их социальная структура. У населения Зерехгерана « .нет религии, но они не платят джизью [вид налога, который платили немусульмане в обмен на их защиту]. А когда умирает у них кто-нибудь, то если это был мужчина, то отдают его мужчинам, которые в подземных домах; они расчленяют мертвого, и освобождают кости от мяса и мозга, и собирают его мясо, и кормят им черных воронов, стоя с луками и не давая другим птицам съесть хоть что-то из его мяса. А если это была женщина, то отдают ее мужчинам, которые под землей, они вынимают ее кости и кормят ее мясом коршунов, стоя со стрелами и не давая другим [птицам] приблизиться к ее мясу» [4. C. 123; 5. Р. 85]. К этим сведениям ал-Гарнати в другом сочинении Мурибе добавляет: «.жители каждого дома в том селении бронников состоят из [следующих категорий]: свободные, рабы и невольницы. У них нет другого ремесла, кроме как заниматься этим [производством кольчуг, панцирей и т.д.]. [Кроме того,] они не являются ни мусульманами, ни христиа- ГизбулаевМ.А. Шу'риб ан бад аджаиб ал-Магриб и тухфат ал-албаб ва нухбат ал-аджаб 139 нами, ни иудеями, ни огнепоклонниками, у них нет религии» [10. F. 14]7. Указанные выше сведения ал-Гарнати по пережиткам доисламских верований у кубачинцев дают нам основание говорить о существовании у них еще в середине XII в. своеобразного погребального обряда, сложившегося под влиянием зороастризма, проникшего из Сасанидского Ирана в VI в. В отличие от ал-Гарнати, утверждающего, что у кубачинцев нет религии, ал-Мас’уди пишет: «Они исповедуют разные религии... среди них есть как мусульмане, иудеи, так и христиане. Их местность [проживания] - сурова, благодаря чему они недоступны для [покорения] соседним народам» [14. C. 70]. В Тухфат ал-албаб сохранились сведения о неудачных попытках правителей Дербента и других мусульман исламизировать население Зерехгерана. Источник этих сведений указан - военачальник исфахсалар Дербента ‘Абдулмалик б. Абубакр, который, в частности, сообщил нашему автору следующее: «Как-то раз эмир [правитель] Дербента Сайфудин Мухаммед б. Халифа ас-Сулами [1100-1118], да помилует его Аллах [а я - ал-Гарнати - видел его, и он оказал мне почет, да воздаст ему Аллах благом], отдал мне приказ, чтобы я, собрав множество тюрков [сельджуков] и других, вышел [в поход против населения Зерехгерана]. И вышел [сам] эмир во главе дербент-цев, [а также] пришли народы [из числа мусульман] с гор: лакзан, и филан, и другие. И было наше войско подобно морю. И направились мы к тем двум селениям, а у них нет ни оборонительной стены, ни цитадели, они [только] заперли свои двери. А я был первым, кто вошел в одно из этих селений, и вот из-под земли вышла группа мужчин, на которых не было оружия, они стояли и указывали руками на горы, говоря на языке, который я не понимал, затем скрылись под землей» [5. Р. 85]. В данном случае Дербент, как показывает этот текст, был таким крупным политическим и культурным многонациональным центром, где многие дагестанцы приобщались к исламу и затем, в свою очередь, оттуда выступали его распространителями в других районах Дагестана. Кроме того, большой интерес представляет нисба,, сохраненная в Тухфат ал-албаб Дербентского эмира: арабский род ас-Сулами, к которому принадлежали многие крупные военачальники и администраторы, появился в Дербенте еще с первых времен Омейядского наместника на Кавказе Масламы б. ‘Абдулмалика. Существование эмиров из династии Хашимидов, которых сменяют представители династии Аглабидов, в Дербенте подтверждается историческими данными, приведенными в Тарих Баб ал-Абваб [15], и наличием чеканенных ими монет. Так, например, Музаффар, сын упомянутого выше эмира Дербента Мухаммад б. Халифа, чеканил монеты наряду с именем Аббасидского халифа Мухаммада ал-Муктафи (1136-1160) [16. C. 1]. Далее повествуется о неудачах мусульман в вышеуказанном походе из-за возникшей паники в их среде после ухудшения погоды. Так, ‘Абдулмалик продолжает свое повествование нашему автору о той беде в Зерехгеране, где получил ранение: «.и обрушился на нас холодный ветер и такой сильный снег, что мы ничего не видели, а небо сыпало на нас снег и град. Мы повернули назад, и не знал ни я, ни другие, куда идти. И убивали мы друг друга из-за того, что налетала сильная лошадь на слабую [вследствие страха], и та падала вместе со своим всадником, и люди шли по нему [к вершине горы], и погибали и он, и лошадь. И кто-то, не знаю кто [из тех зерехге-ранцев], пробил мне стрелой левое плечо, и она вышла под мышкой, и я чуть не погиб; я крепился, пока мы удалились от них на несколько фарсахов, и прекратился этот снег, и ветер, и град [а мы потеряли много людей из войска], тогда я вытащил стрелу из-под мышки и болел из-за нее еще четыре месяца. И не смогли мы взять с них ни одной лепешки и не убили из них ни одного» [2. C. 58; 5. C. 86]. К этим сведениям ал-Гарнати в другом сочинении Мурибе добавляет: «[Даже] грозный правитель Шир-вана также сам совершил поход против них, но его постигла такая же участь. Они не доступны для [покорения] ни народам, ни правителям, что является одним из чудес света» [10. F. 14]8. По словам ал-Гарнати, «.это не что иное, как колдовство этих самых людей, которые вынимают кости мертвецов и кладут их в мешки, - богатых и знатных -в мешки из золотой румейской парчи, а рабов и невольниц - в [мешки] из коленкора и тому подобной ткани. И подвешивают их в доме и пишут на каждом мешке имя того, кто в нем. И это очень удивительно» [Ibid.]. Мешки, в которых хранили кости покойников кубачин-цы, - это практика, вполне допустимая зороастрий-ским ритуалом. Так как, согласно Авесте, костехранилища могли быть из различных материалов - камня, глины или тканей [17]. Ни у кого до ал-Гарнати в арабских географических и исторических трудах таких сведений нет. Муриб добавляет сравнительно немного к материалу Тухфат ал-Албаб, но сопоставление обоих текстов оказывается очень полезным для их взаимопроверки и осмысления. Дальше в тексте сообщается о неком источнике среди деревьев за пределами Дербента: «Каждую ночь к нему приходит группа людей, чтобы там ночевать. И иногда ночью из этой воды им является сильный свет, такой, что люди видят друг друга. Этот источник называют айн ас-саваб «Источник воздаяния»» [2. C. 29]. Ал-Гарнати уточняет в Мурибе, что «в ночь с четверга на пятницу к нему [источнику] приходит группа людей, чтобы там ночевать» [10. F. 14]9. Затем речь идет о мусульман, которые не упоминаются в Тухфат ал-Албаб, живущих в горах, и о посещении этих дагестанцев автором рассказа, который говорит также о долголетии горцев, об обилии в долинах таких благ, как мед, мясо и фрукты, о мечетях. «.выше Дербента входил я в горы Калалат, в которых [проживает] множество народов, все они мусульмане, следующие исламу, да помилует их Аллах! Они говорят на разных языках, а число их [народов] знает только всевышний Аллах. Они живут на высоких вершинах гор, где очень холодно, и одеваются люди из-за сильного холода в меха, а кроме того, на них Проблемы историографии, источниковедения... /Problems of historiography, source studies... 140 еще тяжелые накидки [дагестанские бурки]. Люди этой страны живут долго, и много у них всяких благ, таких как мед, и мясо, и фрукты в их долинах. Они народ великодушный, и есть у них простые мечети и соборные» [11. C. 129]. Следует подчеркнуть, что Ал-Гарнати уточняет в Мурибе, что «в горах ал-Лакзана все народы - мусульмане, придерживаются правового дискурса шафиитской школы» [10. F. 14]10. Здесь ал-Гарнати говорит о различных народностях Дагестана, исповедовавших ислам еще в первой половине XII в. Необходимо подчеркнуть, что пятисотлетний период господства арабского населения в Дербенте принес Дагестану ощутимые результаты в исламизации горцев. Огромную роль сыграло и местное население в лице газиев, а также влияние сильных ученых. Следует также отметить, что часть населения как равнинного, так и нагорного Дагестана оставалась верной зороастрийским, языческим, иудейским и христианским религиозным представлениям. Например, Ибн Хаукаль сообщает: «И были в Самандаре мечети, синагоги и церкви...» [18. Р. 394]. Кроме того, необходимо сказать несколько слов и о специфике проявления социальных функций ислама в указанной местности в горах Лакзана. Так, «.в каждой мечети около михраба есть помещение, которое называют байт ал-маль [казна]; когда умирает тот, у кого нет наследника, то его имущество отдают в это помещение и предназначают его для путников, там хранится также часть зякята [третий столп ислама]. А в противоположном конце мечети есть большое помещение, предназначенное для иноземных неученых гостей, что же касается людей науки [ученых], то их везут в свои дома» [2. C. 29]. Таким образом, участие дагестанцев в решении социальных проблем не ограничивается помощью лишь в пределах собственной мусульманской общины. Они также ведут работу с различными категориями людей, в частности с путниками и приезжими гостями, нуждающихся в социальной поддержке, независимо от их национальности. Следующее сообщение ал-Гарнати касается главы одной из мусульманских общин Дагестана, говорившего на языках разных народов, перечень которых приводится в тексте. Кроме того, он вел курс по мусульманскому праву для студентов, которые, в свою очередь, после возвращения на родину должны были претворять в жизнь нормы Шариата. Ал-Гарнати рассказывает: «Я жил у одного из их [дагестанских] эмиров, известного под именем Абу ал-Касим; его рабы каждый день резали для меня барана, я говорил им: “Разве ничего не осталось от того барана?” - а они отвечали: “Да, [осталось], но наш господин нам так приказал”. Этот эмир читал под моим [ал-Гарнати] руководством Китаб ал-Мукни (“Удовлетворяющую книгу”) ал-Махамили11 по фикху [мусульманское право]. Он - уже усопший, да помилует его Аллах! - говорил на разных языках, таких, как лакзан-ский [лезгинский], и табаланский [табасаранский], и филанский, и закаланский, и хайдакский [кайтагский], и гумикский [лакский], и сарирский [аварский], и аланский, и асский [осетинский], и зерехгеранский [кубачинский], и тюркский, и арабский, и персидский. У меня на занятиях присутствовали люди из этих народностей, и он объяснял [содержание этой книги] каждой народности на ее языке» [2. C. 31]. То, что среди народностей Дагестана названы разговаривавшие на тюркском, арабском и персидском языках, не вызывает сомнения и не нуждается в комментариях. Наконец, последние сведения о Дагестане ал-Гарнати приводит о том, как он однажды был в гостях у сестры вышеуказанного эмира Абу ал-Касима, которая сказала своему брату: «Спроси этого человека: если я буду с моим мужем и будет у него поллюция, то обязательно ли мне омовение?». В ответ наш автор сказал ему: «Скажи ей, что женщина из ансаров [мусульмане Медины, принявшие у себя мекканцев, когда они совершили хиджру в 622 г.] спросила подобное этому у Посланника Аллаха, - да благословит его Аллах и приветствует! - и тот ответил: если она увидит воду, то пусть совершит омовение. И сказал Посланник Аллаха - да благословит его Аллах и приветствует! - лучшие жены - жены ансаров! Стыдливость не препятствует им постигать [разбираться в правовых вопросах] религию» [2. C. 31; 10. F. 14]. Здесь суть хадиса заключается в том, чтобы женщина-мусульманка получала хорошее религиозное образование, соответствующее величине той ответственности, которая возложена на не! как в доме, так и за его пределами. И эта стыдливость заставила дагестанку поспешить к источникам полезного знания. Таким образом, много нового мы узнаем от ал-Гарнати о Дагестане, а именно о правителе Дербента XII в., погребальном зороастрийском ритуале в Зерехге-ране, об образовательной и социальной работе мусульман Лакзана, при этом его сведения, подтвержденные данными других арабских географов, свидетельствуют о точности описания и наблюдательности нашего путешественника. Наиболее важные описания Дагестана имеются у Ибн Руста, ал-Мас’уди, ал-Истахри, Ибн Хор-дадбеха, а также в Тарих Баб ал-Абваб, книге XI в., изданной В.Ф. Минорским. Следует отметить, что Муриб добавляет сравнительно немного к материалу Тухфат ал-Албаб, но сопоставление обоих текстов оказывается очень полезным для их взаимопроверки и осмысления. Важно и то, что написанный материал доведен до современной автору эпохи и известен нам только благодаря ал-Гарнати. Также нами определено, что перевод отрывков о Восточном Кавказе из указанных сочинений ал-Гарнати, выполненный О.Г. Большаковым, содержит интерпретационные недостатки. Сочинения Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-а'джаб и ал-Муриб ан ба'д аджаиб ал-Магриб ал-Гарнати являются полезным справочником не только по историко-географическим вопросам, но в такой же мере и по религии, культуре, этнологии, фольклору, особенно связанным с Восточной Европой, в том числе и Северным Кавказом, в частности Дагестаном. Применчания Переводится с арабского как «ворота ворот», т.е. главные ворота, средневековое арабское название Дербента. Он был правителем Ирака, командовал войсками в походах против хазар на Кавказе и Византии. ГизбулаевМ.А. Шу'риб ан бад аджаиб ал-Магриб и тухфат ал-албаб ва нухбат ал-аджаб 141 3 У Большакова перевод данного отрывка из Муриба отсутствует. 4 У Большакова перевод данного отрывка из Муриба отсутствует. 5 Марван б. Мухаммад - последний халиф (744-750) из династии Омейядов. Именно назначение на должность наместника на Кавказе молодого Марвана сделало возможным осуществление крупной военной операции, которая привела к практически полному разгрому хазарской армии. 6 У Большакова полный перевод данного отрывка из Муриба отсутствует. 7 У Большакова перевод данного отрывка из Муриба отсутствует. 8 У Большакова перевод данного отрывка из Муриба отсутствует. 9 У Большакова перевод данного отрывка из Муриба отсутствует. 10 У Большакова перевод данного отрывка из Муриба отсутствует. 11 Абу ал-Хасан Ахмад ибн Мухаммад ал-Махамили ад-Дабби (978-1024) - мусульманский ученый из Багдада, как и ал-Гарнати, был ша-фи'итом.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 38
Ключевые слова
средневековый Дагестан, Му'риб ан ба'д аджаиб ал-Магриб, Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-а'джаб, ал-Гарнати, источниковедениеАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Гизбулаев Магомед Андалавмагомедович | кандидат исторических наук, независимый исследователь | awariyav@gmail.com |
Ссылки
Крачковский И.Ю. Избранные сочинения. М.-Л. : Наука, 1957. Т. 4: Арабская географическая литература. 965 с.
Большаков О.Г. Путешествие Абу Хамида ал-Гарнати. М. : Наука, 1971. 134 c.
Dоrn В. Über zwei für das Asiatische Museum erworbene Arabische Werke // Mélanges asiatiques. St.-Pétersbourg : de l’Imprimerie de l’Academie Impériale des Sciences, 1872. T. VI, livr. 5. Р. 695-696.
Бартольд В.В. Сочинения. М. : Наука, 1966. Т. IV. 497 с.
Le Tuhfat al-albab de Abu Hamid al-Andalusi al-Garnati / ed. G. Ferrand // JA. 1925. T. CCVII. P. 1-148.
Abu Ḫamid el Granadino y su relación de viaje por tierras eurasiáticas / Texto árabe, traducción e interpretación por C.E. Dubler. Madrid : Imprenta y editorial Maestre, 1953. XX, 425 p.
Hrbek I. Arabico-Slavica. I Abu Hamid al-Andalusi und sein Werk Mu'rib // Archiv Orientalny. 1955. T. XXIII. P. 109-135.
Монгайт А.Л. Абу Хамид Ал-Гарнати и его путешествие в русские земли 1150-1153 гг. // История СССР. 1959. № 1. С. 169-181.
Заходер Б.Н. Каспийский свод сведений о Восточной Европе. М. : Наука, 1967. Т. 2: Булгары, мадьяры, народы Севера, печенеги, русы, сла-вяне. 212 с.
Abu Hamid al-Gharnati, Al-Mu'rib 'an Ba'd Ayd'ib al-Maghrib. Maktaba al-wataniya fi Baris. ARABE. Ms. 6877. 27 f.
Гизбулаев М.А. Дагестан в арабских исторических источниках: «китаб ал-футух» ал-куфи // Вопросы истории. 2019. № 4. С. 129-147.
Ibn al-Athir. al-Kamil fi al-tarikh. Bayrut : Dar Sadir lil-Tiba`ah wa-al-Nashr, 1965-1966. Т. XII. 405 p.
Генко А.Н. Арабский язык и кавказоведение // Труды Второй Сессии Ассоциации арабистов, 19-23 октября 1937 г. М. -Л. : Изд-во Акад. наук СССР, 1941. С. 81-110.
Гизбулаев М.А. Сведения арабского географа Ал-Мас'уди о Кабке в X в. // Вестник Московского Городского Педагогического Университета. Серия: Исторические Науки 3 (39) 2020. C. 64-75.
Минорский В.Ф. История Ширвана и Дербента X-XI вв. Москва «Издательство восточной литературы», 1963. 270 с.
Пахомов Е.А. О дербендском княжестве XII-XIII вв. К толкованию пехлевийских надписей Дербенда Баку : АзГНИИ, 1930. 16 с. (Известия АзГНИИ / Азербайджан. гос. науч.-исслед. ин-т. Историко-этнографическое и археологическое отделение; т. 1, вып. 2).
Иностранцев К.А. О древнеиранских погребальных обычаях и постройках // Журнал Министерства народного просвещения. 1909 № 3. С. 117-120.
Bibliotheca geographorum arabicorum. Opus geographicum auctore Ibn Haukal / ed. J.H. Kramers. Leiden : E.J. Brill, 1937-1939. Fasc. 1-2: Lugduni Batavorum. 574 p.
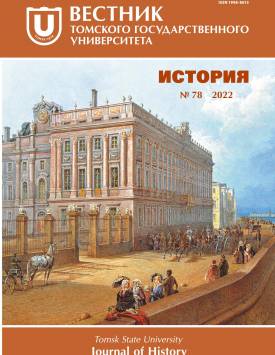
Му'риб ан ба'д аджаиб ал-Магриб и Тухфат ал-албаб ва нухбат ал-аджаб абу Хамида ал-Г арнати как источники по истории и религиозной практики народов Дагестана в XII в.: сравнительный анализ | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2022. № 78. DOI: 10.17223/19988613/78/17
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 318

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью