При освоении любой территории происходит встреча разных культур, приводящая либо к их слиянию, либо к противодействию проникновению чуждого в свою картину мира. Ярким тому подтверждением служат путевые описания миссионеров Обдорской миссии, которые и стали объектом настоящей работы. Тексты содержат несколько сюжетных линий, из которых в фокус данного исследования попали культурные описания территории, позиции миссионеров относительно описываемого пространства и оценочные суждения и выводы о локальной встрече языческой и христианской культур в XIX в. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Space and people in the travel descriptions of missionaries from the Obdorsk mission (60-70s ofthe 19th century).pdf При изучении истории освоения любой территории неминуемо обращение к документам, фиксирующим зачастую не столько официальные данные, сколько рефлексию авторов, причастных к этому процессу. В нашем исследования такими документами явились путевые описания миссионеров Обдорской миссии [1]. Содержащаяся в путевых журналах информация является важным свидетельством, привлекаемым учеными для решения исследовательских задач при изучении религиозных верований [2, 3], ненецкой топонимии [4], деятельности миссионерских учреждений севера Сибири [5], этничности обских угров и ненцев [6], источниковедческого анализа [7], археологических полевых исследований [8]. В данном исследовании фокус направлен на изучение пространства, в которое по долгу службы были погружены миссионеры, а также на отношения их к иной культуре жителей Северо-Западной Сибири. Путевые журналы священников Обдорской миссии, в данном случае Петра Попова, Иоанна Платонова, Александра Тверитина, Николая Герасимова, содержат несколько сюжетных линий, раскрывающих всю остроту межкультурной коммуникации и адаптации к суровым реалиям окружающей среды. Справедливо замечено, что «специфичность миссионерского описания территории изначально определена тем, что миссионер выступает как исследователь нового для него пространства, причем исследователь, в высшей степени заинтересованный, - он пытается оценить “перспективность” данной территории для дела христианской проповеди» [9. C. 99]. Пространство, изначально населенное людьми, враждебно настроенными к восприятию новых культурных ориентиров, описывается с позиции противопоставления «свое-чужое». Вот что пишет П. Попов: «Выехавши из Обдор-ска на 16 оленях с двумя проводниками в тундры низовых самоедов, кочующих между Обскою и Тазов-скою губами, на третий день выезда я встретил первых самоедов, откочевавших к Енисейской губе. Посетивши в этот день три семейства, невдалеке одно от другого находящиеся, я составил себе полное понятие о дикости низовых самоедов, рассказы о которых проводников моих наводили страх на меня. Зверский вид, злобная недоверчивость и грубое обращение достаточно свидетельствовали, что пребывание наше небезопасно для нас» [1. C. 46]. Несмотря ни на что, миссионер пытается быть принятым и понятым в этом пространстве, ему необходимо было научиться говорить с окружающими людьми так, чтобы донести суть своей культурной и религиозной традиции. Самый действенный инструмент - это знание языка твоего оппонента. Как правило, большая часть местного населения с русским языком не была знакома, и миссионерам приходилось изъясняться с ними через толмачей, в роли которых выступали причетники. К сожалению, уровень знания языка носил обыденный характер и не позволял в полном объеме передавать суть христианского учения. В 1867 г. И. Платонов оставил в своем журнале запись, которая еще раз демонстрирует, в чем заключается успех миссионера на ниве проповеди христианских заповедей: «Некоторые из инородцев, и крещенные также, оскорблялись тем, что я очень мало могу говорить сам на их наречии, а говорю через толмача. Доказательства мои были напрасны, так как они тотчас же приводили пример старшего священника, который объясняется с ними свободно на их наречии» [Там же. С. 74]. Не имея возможности изъяснятся на родном для местного населения языке, И.М. Платонов прибегал к проповеди через христианские образы: иконы иконостаса, Ветхий и Новый Завет в картинках. Стремление к преодолению языкового барьера со стороны миссионеров было очевидным; в том числе и для этого старший миссионер Обдорской миссии Петр Александрович Попов долгое время работал над составлением остяцко-самоедскорусского словаря. В качестве инструмента, позволяющего установить контакт с местным населением, выступала и еда. Находясь в январе 1867 г. в Обдорске, Иван Митрофанович Платонов записал в путевом журнале: «С 9-го числа занимался обучением девиц, коих было числом 8. В эти дни постоянно приходили остяки и самоеды, из коих некоторые готовились к принятию св. крещения; всех должен был, по заведенному обычаю, покормить. Иногда так было довольно их, что к вечеру выходил печеный хлеб, а потому некоторым давал одну рыбу или мясо, а иным, уже известным мне, вынужденным находился и отказывать, так как иной был в день раза два и, собственно, для того, чтобы только поесть» [1. С. 72]. Отношение к угощению у местного населения было утилитарным и носило компенсационный характер за вмешательство в их культурную идентичность. Ярким подтверждением этому служит случай, зафиксированный И.М. Платоновым: «Пришел один старик новокрещенный самоедин и привел с собой некрещенного сына, которому от роду было не более 6 лет. Я советовал отцу, чтобы он крестил своего сына, а с тем вместе просил отдать его мне для воспитания, так как мать у него умерла, а сам отец находился в работе у чужих людей. Все расходы содержания принимал на себя. После некоторого совета со своим сыном он с радо-стию согласился отдать его мне, но с тем, чтобы по обучении его, предположительно, году на 15-м, отдать ему его обратно... Тут он просил у меня отсрочить два дня поступления его ко мне, чтобы в это время повидаться с родственниками своими. После этого он приходил ко мне каждодневно утром и вечером. Прошел и срок отдачи; но он и не поминал об этом. Видя, что старик начинает колебаться, вероятно, от своей братии Щербич С.Н. Пространство и люди в путевых описаниях миссионеров Обдорской миссии 145 получил такой прекрасный совет, - чтобы не отдавать его учиться, что по их понятиям для них вредно, я стал говорить ему, что не буду теперь и принимать его к себе. Старик сейчас же согласился отдать своего сына, но с тем, чтобы, когда будут посещать его родственники, живущие в Обдорске в юртах, кормить и их. После сего он привел ко мне более пяти человек; видя такие условия и не имея средств подобных людей пропитать, вынужденным нашел отказываться от принятия его сына с подобными условиями, хотя и жаль было мне мальчика, коего отец и отдал своим родственникам для пропитания, у коих, коснея, подобно им, в невежестве, должен будет, кроме сего, претерпевать и холод и голод, каковые недостатки претерпевают и родственники его от обычной своей жизни [1. С. 72-73]. Затронутый в данном сюжете вопрос о грамотности также является элементом проникновения чужой традиции в границы иной культурной идентичности. Обучение детей не являлось очевидной необходимостью и не воспринималось должным образом. В качестве контраргумента, который постоянно слышали миссионеры от населения, являлось то, что предки их не были грамотны, но это не мешало им жить. Большинство усилий миссионеров по распространению грамотности среди инородцев было тщетным. Основное же противостояние, фиксируемое в путевых описаниях, связано с представлениями о религиозной картине мира. Воспринимая новое для себя вероучение, местное население продолжало сохранять свою религиозную идентичность. Очевидно, что играл свою роль и характер миссионерской работы, а именно ограниченность ее во времени. Все поездки священников с походной церковью были кратковременны и эпизодичны, а шаманы как основные оппоненты были всегда на месте. Поэтому в текстах можно увидеть эмоциональные описания уничтожения элементов чуждой для священников религиозной культуры. Например, такое встречается в описаниях у А. Тверитина: «Чтобы доказать инородцам ничтожность их идола, и притом будучи вполне уверен, что они, как все крещенные, непременно откажутся от своего идола, я положил торжественно сжечь его в глазах всех инородцев и со всеми принадлежностями его и с этой целью приказал своим рабочим приготовить большой костер дров... Не показывая стачала шайтана, я взял ящик за душку, поднял его кверху и спросил: “Чей это ящик?” Ответа нет. “Ведь это ящик ваш?” - сказал я затем. “Нет, мы не знаем, не наш”, - посыпались со всех сторон голоса. Отдав обратно ящик Собрину и взяв идола и также подняв его кверху, спросил: “Это что такое? Не ваш этот идол?” - “Нет, нет, мы не знаем, откуда ты взял его”, - кричали с разных сторон. “Так знайте, что этот идол ваш, - продолжал я, - я его взял около ваших юрт; вы сами воздвигли и поклоняетесь ему; но он ничтожный - бессильный, и если он бог ваш, то пусть причинит мне какое-либо зло за то, что я жгу его на огне”. С этими словами я бросил идола в пламень, а затем приказал Собрину отворить ящик и каждую вещь, показывая народу, бросать в огонь, в заключение всего и самый ящик последовал туда же» [Там же. С. 92]. Такие действия миссионеров относительно элементов религиозной картины мира северных народов Обского севера лишь на время визуально меняли окружающее пространство, которое старательно восстанавливалось после их отъезда. С одной стороны, категоричность в отношении идолопоклонства, а с другой - подробное описание обрядности также являются неотъемлемой чертой путевых описаний. На наш взгляд, стремление зафиксировать элементы обрядов продиктовано тягой к познанию и осмыслению или структурированию чуждого культурного пространства. Например, П. Попов в 1863 г. в поездке был весьма удивлен рассказом о идоле Мастерке, находящимся в с. Троицком, который и зафиксировал в путевом журнале: «.Из рассказа о Мастерке я узнал, что для приношения ему жертв остяки и самоеды каждогодно ездят к селению Троицкому, для прикладов возят ему лучшие лисьи шкуры и деньги значительными суммами, сверх того, через три, иногда семь лет ездят тайные сборщики, которым и передаются обещанные приклады, взамен которых жертвователи получают ничтожные вещицы от Мастерка - кольца, пояски, лоскутки суконные и другие...» [Там же. С. 46-47]. Достаточно подробное описание истории идола, изображающего женщину, сидящую на медном котле, мы встречаем в путевом журнале А. Тверитина. В одной из юрт он встретился с домашней уменьшенной копией идола, а в человеческий рост изваяние находилось в лесу в 10 верстах от этой юрты, и называлось оно Путь-посты ничь. Особо почитаем данный идол был при обряде сватовства, к нему привозили подарки в виде котлов в случае успешного проведенного обряда. Сохранилось даже предание о том, что «предки войтваских остяков, за долгое еще время завоевания Сибири, в одно время вели междоусобную войну с со-седственными остяками, во владении которых находился идол “путь-посты-ничь”, тогда-то он и достался им как военная добыча» [Там же. С. 105]. Детальная фиксация встречается и при описании миссионерами погребальных и поминальных обрядов, что также свидетельствует об определенном интересе и стремлении осмыслить данную информацию. Например, предметом, на который священники обращали особое внимание в борьбе с идолопоклонством, в культуре обских угров и самодийцев являлись куклы, означающие тень умершего человека. Существовал даже прецендент о кукле: по инициативе священника П. Попова было возбуждено дело о идолопоклонстве относительно жительницы Собских юрт, у которой были изъяты две куклы умерших родственников. Данное дело дошло до Министерства внутренних дел, которое не признало куклы-заместители идолами и предписало вернуть их хозяйке. Из себя данные куклы представляли следующее: «.в одном чуме у одного язычника я встретил здесь куклу, которая помещена в противоположной стороне от идола и видно, что не пользуется никаким особым почетом. Эта кукла означает тень умершего человека. Умирает человек - остяк или самоедин, родственники омывают его, одевают в лучшее платье, потом срезывают с головы его локон волос и после погребения умершего делают куклу, во внутренность которой вшивают срезанный с головы Проблемы историографии, источниковедения... /Problems of historiography, source studies... 146 его локон волос вместо сердца. По верованию остяков и самоедов, тень (душа) умершего человека не прекращается и продолжает существовать, если умерший мужчина - три года, а если женщина - два года, поэтому и кукла, означающая тень (душу) умершего человека, существует в чуме после смерти три или два года, смотря по тому, мужчина или женщина умерший, и в продолжение всего этого периода времени каждый раз, когда сами употребляют пищу, садят вместе с собой и куклу, накладывают ей из общего котла на особой деревянной чашке всего, что сами едят; когда же окончится известный срок, зарывают куклу в особую от умершего могилу, кладут с нею все те же принадлежности, какие были положены с умершим» [1. С. 109]. Стоит остановиться и на погребальном обряде, зафиксированном в одном из путевых журналов: «У остяков не совершается никакой обрядности над умершими, у самоедов, напротив, бывает. После омовения и после того, как готова могила, умершего кладут среди чума, Тад-ибе (шаман) расставляет вокруг него, всегда готовые на этот случай, сделанные из дерева - модели разных хищных животных: медведя, волка, лисицы, песца и других, птиц: орла, коршуна и пр. Обставивши таким образом, он берет лук со стрелою и начинает петь: “Умерший (такой-то - называет по имени) в жизни своей был человек скромный, никого не обижал, ты, медведь (обращается к модели), не должен касаться его трупа, пусть он спокойно лежит в земле, пока не изгниет, а если коснешься, то сам будешь мертв”, - и с этими словами стреляет его из лука; потом переходит с тем же припевом к другой модели и так далее, пока не перестреляет всех. Затем умерший выносится из чума, но мимо двери - в особо приготовленное отверстие, и предается погребению. Тад-ибе получает за обряд погребения всегда два оленя» [Там же. С. 109-110] Особое место в путевых описаниях миссионеры уделяют встречам с шаманами. Как правило, это содержательные беседы о сути христианской веры и пагубности язычества. Встречи носили разный характер, но одна из них, состоявшаяся между священником А. Тверитиным и шаманом Лямби, является, на наш взгляд лакмусовой в споре о вере: «Утром, лишь только что я встал, заявился ко мне старый мой знакомый Лямби - шаман, с просьбой посетить его чум; очень рад я был радушному гостеприимству язычника и притом шамана; а особенно откровенности его при беседе со мною. Вот его слова: “Я осознаю, что наша вера не права, но подумай сам, - я ведь такой же поп, как и ты, думаю, что ты не согласишься изменить своей вере, зачем же меня отвлекаешь от моей веры? Что скажут тогда обо мне те, которые обращаются ко мне за советами и которым я помогаю в нуждах?.. Книг ваших мы не знаем. Мы веруем, что после смерти будем в том же состоянии, в каком находимся и здесь, т.е. будем заниматься такими же делами, какими кто и здесь занимался, а что ты говоришь о другой жизни - загробной, об этом никто не знает, никто там не был”» [1. С. 154]. Доводы, которые, по всей видимости, приводил священник, не имели значения для шамана. Неудовольствие выслушивать проповеди православных священников высказывали и обычные люди, в этом случае все беседы миссионеры сразу прекращали и покидали данное место, отправляясь далее в путь. Но, были и те, кто в ходе многочасовых бесед принимали новую веру или изъявляли желание, давая обет креститься, например, после перенесенной болезни. Примечательно, что по этому поводу местные жители окружающее их пространство насыщали визуальными символами - крестами. Зачастую же все беседы о новой вере вызывали неудовольствие и не давали желаемого результата. В очередном своем путешествии в 1866 г. Петр Попов стал свидетелем наступающего, по местным преданиям, конца света. По свидетельству инородцев, должен был наступить потоп, четвертый от сотворения мира, и все население пребывало в панике, готовясь принять неминуемую гибель, оставляя свои промыслы за ненадобностью. Наступление конца света люди связывали исключительно с приобщением их к христианской вере. Выказывая свое неравнодушие к происходящему, П. Попов объявил о своем намерении остаться с ними до этого дня и молиться об избавлении от погибели мира. Эти действия священника были продиктованы стремлением донести до людей мысль о том, что день конца света никому не известен и проповеди миссионеров не являются причиной этого. Труд убеждения был нелегким в сообществе людей, изначально враждебно настроенных к проникновению иной культуры, меняющей повседневный уклад жизни и миропонимание. Природные условия, в которые волею судеб были помещены миссионеры, также были не из легких. Пространство, где проживали северные народы, не имело четких границ ввиду постоянной внутренней миграции по Обскому северу и сопредельным территориям. Для совершения многодневных речных переходов в своем распоряжении миссионеры имели лодки, а для передвижения по тундре использовали нарты, которые они просили у местного населения. В миссионерской поездке священников сопровождали рабочие, в обязанности которых входила вся техническая работа по передвижению парусной лодки по речному пространству р. Оби и мелких речушек, впадающих в оную. В путевых журналах миссионеры очень подробно описывают все природные явления и действия своей команды в сложившихся трудных обстоятельствах. Как правило, миссионеры в весенне-осенний период ночевали в лодках, в зимнее время - в юртах у крещенных инородцев. По итогам одной сентябрьской поездки И. Платонов оставил следующую запись в журнале, фиксирующую события 14-17 сентября 1866 г.: «Ночью, когда уже все легли спать, сделалась страшная буря, так что лодка наша, поставленная на двух якорях, не могла устоять против сильного напора ветра и, сорванная с якорей, начала биться о берег; я, разбудив своих рабочих, увидел, что совершенно невозможно было сохранить одними своими рабочими, потому вынужден был собрать инородцев, при помощи коих едва могли ввести в небольшой залив, находившийся невдалеке от нас... страшная буря продолжалась с большею силою. Перед утром погода сделалась потише. Утром пригласили инородцев, чтобы они пособили вывести лодку из залива. Собралось человек Щербич С.Н. Пространство и люди в путевых описаниях миссионеров Обдорской миссии 147 около 40; когда разломали лед, образовавшийся на заливе в течение двух дней, то увидели, что бурею угнало воды очень много, так что в заливе осталось воды не более 8 вершков глубины, а потому и провод лодки по такому мелкому месту был трудный и даже невозможный...» [1. С. 68]. Александр Тверитин в июле 1868 г. с участниками миссионерской поездки в течение несколько дней переживал настоящий шторм: «Лодку нашу начало заливать и бросать то в ту, то в другую сторону; от этой качки не было совершенно никакой возможности никому ни стоять, ни сидеть, только с усиленным трудом два человека попеременно могли отливать воду с носу и кормы лодки. Небольшая лодка, которая служит для завоза якорей и для легких разъездов и которая была привязана к корме, -давно залита водою, и все, что в ней было, унесено волнами. В этом несчастно-гибельном состоянии мы пробыли до полдня 15-го числа; а с этого времени ветер, кажется, еще более усилился, с тем вместе и прилив морской, - мерка наша показала глуби уже более трех аршин. Пять человек рабочих, вожак, причетник и я пришли в совершенное изнеможение, к этому еще у каждого из нас сделались головная боль и рвота. Прошел еще час времени тревожно-мучительного состояния, и вдруг воровая-пеньковая снасть у одного якоря с носу лодки обрывается. Страх обнял всех нас. И в этом несчастном положении сколько горячих, ис кренних молитв излилось ко Господу о спасении нас? Да, действительно, справедлива русская пословица: кто не бывал на море, тот усердно Богу не молился.» [Там же. С. 114]. Подобного рода сюжеты постоянно встречаются в описаниях всех миссионеров и характеризуют прежде всего силу духа людей, преодолевающих вызовы окружающего мира. Во время поездок ведение журналов являлось для священников обязанностью, а с другой стороны, возможностью разговора с самим собой. Первоначально все записи были черновые, только по возвращении в Обдорск миссионеры занимались их перепиской и подготовкой отчетов о поездке. Поэтому черновики представляют наибольший интерес для изучения ввиду сохранения первоначального осмысления миссионерами пережитых событий и явлений. К сожалению, они практически не сохранились, за малым исключением. Анализируемые в статье путевые описания сохранили остроту повседневных переживаний священников миссии в ходе их служения и позволяют выявить специфику межкультурной коммуникации в пространстве Обского севера второй половины XIX столетия, заключающуюся, с одной стороны, в категорическом неприятии и нежелании общения, а с другой - в приспособлении, а иногда просто в утилитарном отношении к представителям иной культурной традиции.
Путевые журналы миссионеров Обдорской миссии (60-70-е гг. XIX в.) / сост. и коммент. В. Темплинг; вступ. ст и коммент. С. Туров. Тю мень : Изд-во Юрия Мандрыки, 2002. 224 с.
Перевалова Е.В. Атых Микола-Торум (Милостивый Бог Николай) // Уральский исторический вестник. 2008. № 4 (21). С. 119-130.
Главацкая Е.Мы не можем без попа. // Родина. 2009. № 1. С. 33-37.
Квашнин Ю.Н. Названия родов в ненецкой топонимии // Антропологический форум. 2011. № S14. С. 23-66.
Выдрин Е.В. Туруханская походная церковь в системе подобных учреждений севера Сибири // Вестник Красноярского государственного педагогического университета им. В.П. Астафьева. 2014. № 3 (90). С. 180-183.
Перевалова Е.В. Обские угры и ненцы Западной Сибири: этничность и власть : дис.. д-ра ист. наук : 07.00.07. Новосибирск, 2017. 515 с.
Щербич С.Н. Путевые журналы миссионеров Обдорской миссии (60-70-е гг. XIX в.): анализ публикации источников // Вестник археологии, антропологии и этнографии. 2016. № 3 (34). С. 154-163.
Новиков А.В., Гаркуша Ю.Н. Предварительные результаты исследований городища Усть-Войкарское - 1 (Приполярная зона Западной Сибири) в 2012-2016 годах // Вестник Российского фонда фундаментальных исследований. Гуманитарные и общественные науки. 2017. № 3 (88). С. 141-149.
Карташева Н.В. Путевые записки русских миссионеров на Дальнем Востоке как модель культурного описания территории // Человек в мире культуры: культурное описание территории : материалы X Междунар. философско-культурного симпозиума. Рязань, 2015. С. 98-100.
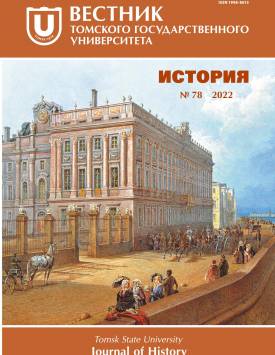

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью