Изучается история исследования коренных малочисленных народов Севера, проживающих в арктических районах Якутии, в 1950-е гг. Выявлены и рассмотрены важнейшие реализованные в регионе научные проекты, показаны их персональный состав, методика проведения, география и ключевые направления. Дана характеристика основным положениям, выработанным участниками проведенных изысканий. Установлено, что в исследуемый период в силу комплекса факторов в Якутии произошла значительная активизация работы по научному изучению аборигенных этносов. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Scientific study of arctic indigenous peoples in Yakutia in the 1980s.pdf Расположенные за Северным полярным кругом 13 арктических районов Якутии занимают гигантскую площадь, сравнимую с территорией трех Франций. Помимо того, что эти районы объединяют суровый даже по сибирским меркам климат, значительные запасы разнообразных полезных ископаемых, крайне неразвитая инфраструктура, состояние которой в том числе обусловливает необходимость использования специфического механизма организации снабжения, называемого «северным завозом», они являются местом традиционного проживания коренных малочисленных народов Севера - долган, чукчей, эвенков, эвенов, юкагиров, а также русских арктических старожилов. Рассматриваемый в данной статье период в жизни представителей названных этносов был ознаменован серьезными переменами. В 50-е гг. ХХ в. на севере Якутии завершилась реализация политики коллективизации и поселкования, в результате чего произошла концентрация населения, часть которого ранее была рассредоточена по небольшим селениям, а часть вовсе вела кочевой образ жизни, в относительно крупных поселках. В них в том числе появилась возможность получить медицинские и образовательные услуги. Последний фактор, наряду с изменениями в традиционной хозяйственной деятельности (новые направления деятельности колхозов), а также интенсификацией связей с пришлым населением, являлся важной компонентой этнокультурных трансформационных процессов. Приток пришлого населения при этом существенно ускорился. Связан данный факт был в первую очередь с резкой активизацией процессов транспортно-промышленного освоения региона. В частности, получили развитие «морские ворота» республики - Тикси, осуществлялось строительство Нижнеянского порта, аэропортов в административных центрах арктических районов Якутии. Интенсифицировались разведка и добыча полезных ископаемых: золота, олова, сурьмы, угля и др. Сосредоточение распыленных ранее по необъятным тундровым пространствам коренных малочисленных народов Севера в поселках, повышение транспортной доступности этих поселков за счет развития воздушного сообщения и инфраструктуры речных перевозок наряду со сложившейся этнокультурной ситуацией, когда резко изменилась сама среда жизнедеятельности аборигенных этносов, однако традиционные элементы культуры и хозяйства хорошо сохранились, создали чрезвычайно питательную почву для проведения научных исследований. При этом именно в послевоенный период исследовательский потенциал Якутии значительно вырос. В 1947 г. была открыта Якутская научно-исследовательская база Академии наук СССР, через два года преобразованная в Якутский филиал. В 50-е гг. ХХ в. к действующему Институту языка, литературы и истории (ИЯЛИ) ЯФ АН СССР добавились институты биологии и геологии. В 1957 г. Якутский филиал был включен в состав организованного Сибирского отделения (СО) АН СССР. К этому моменту численный состав его сотрудников составил около 400 человек, в том числе за счет привлечения квалифицированных специалистов из центральных научных учреждений Советского Союза. Совокупность названных выше факторов позволила рассматриваемому в данной статье десятилетию стать одним из уникальных в деле научного познания коренных малочисленных народов Севера, проживающих в арктических районах Якутии. Значимость, характер и масштаб осуществленных в 50-е гг. ХХ в. изысканий, многогранность их направлений, особенности исследовательского корпуса позволяют, как представляется, рассматривать эти годы как самостоятельный, оригинальный период в истории развития научного знания в республике. Характеризуя сложившуюся в регионе применительно к интересующему нас периоду историографическую ситуацию, следует отметить, что ранее, в том числе и автором данной статьи, были рассмотрены только отдельные эпизоды из истории исследовательской работы среди аборигенных этносов Заполярной Якутии - реализация ряда инициатив [1-3], разработка некоторой конкретной научной проблематики [4-7], а также деятельность персоналий [8-10]. Исследований же, в которых предпринимались бы попытки создать цельное представление об осуществлявшейся в арктических районах Якутии в течение 50-х гг. ХХ в. работе по научному изучению коренных малочисленных народов Севера, на настоящий момент не существует. В данной статье представлена первая в отечественной историографии попытка хотя бы частично восполнить этот пробел. Актуализируют целесообразность заполнения обозначенной историографической лакуны непреходящая ценность и необходимость сохранения языкового и этнокультурного многообразия Севера, что едва ли возможно без своевременного проведения научных изысканий и скрупулезного анализа аккумулированных ранее учеными материалов. Представляется также, что именно сейчас, когда на повестке дня остро стоят вопросы реиндустриализации Российской Арктики и выработки новых подходов к ее освоению, изучение имеющегося опыта является одной из важных задач, решению которой может и должна способствовать работа ученых -историков. Представленная работа основана главным образом на привлечении архивных материалов, в том числе впер- Сулейманов А.А. Научное изучение коренных малочисленных народов Севера 163 вые вводимых автором в научный оборот, которые хранятся в Рукописном фонде Архива Якутского научного центра Сибирского отделения РАН (Якутск), Архиве Российской академии наук, Научном архиве Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая РАН (Москва), а также данных научной литературы. Несколько забегая вперед, следует отметить, что существенная часть рассматриваемых в данной статье исследовательских инициатив так или иначе связана с именем выдающегося советского североведа И.С. Гур-вича (1919-1992). В Якутии будущий ученый оказался в 1941 г., после окончания исторического факультета Московского государственного университета. Здесь он в течение 1941-1946 гг. работал учителем, а затем директором неполной средней школы в с. Оленек одноименного района. В эти же годы И.С. Гурвич становится ученым-корреспондентом Научно-исследовательского института языка, литературы и истории при СНК ЯАССР (будущий ИЯЛИ ЯФ АН СССР), собирает материалы по религии, фольклору, традиционному хозяйству и быту местного населения в наслегах северо-западных Оле-некского и Анабарского районов Якутии. В 1946 г. И.С. Гурвич возвращается в Москву и поступает в аспирантуру Института этнографии АН СССР, где пишет на основе аккумулированных сведений кандидатскую диссертацию «Оленекские и анабарские якуты (историко-этнографический очерк)», которая была успешно защищена в 1949 г. Спустя год И.С. Гурвич вернулся в Якутию в качестве сотрудника ИЯЛИ ЯФ АН СССР. Следует отметить, что ученый оказался в небольшом тогда еще научном учреждении (штат института составлял всего 19 исследователей [11. Л. 21]) единственным подготовленным специалистом по этнографии коренных народов Севера - на тот момент в принципе единичной специализации в советской науке. Еще через год И.С. Гурвич приступил к осуществлению своих планов по проведению сплошного этнографического изучения аборигенных этносов, проживающих в арктических районах Якутии. Одной из важнейших задач этих изысканий являлось определение реальной численности представителей коренных малочисленных народов Севера. Методика их учета в рамках проводившихся в 1920-1930-е гг. переписей населения вызывала у специалистов такие вопросы, что породила в начала 50-х гг. ХХ в. одну из оживленнейших публичный дискуссий в отечественной этнографии, вылившуюся в том числе на страницы журнала «Советская этнография» [12-15]. Активным участником этой дискуссии был и И.С. Гурвич, настаивавший на необходимости сочетания при учете численности аборигенных этносов Севера «тщательного критического анализа» материалов переписи с полевыми наблюдениями этнографов [13. С. 78]. Достаточно сложной была также ситуация с этнографическим изучением проживающих в арктических районах республики коренных малочисленных народов. Несмотря на то, что исследования среди них стали проводиться с XVIII в., а в XIX столетии они попали в фокус изысканий таких специалистов, как В.Г. Богораз и В.И. Иохельсон, считающихся сейчас одними из классиков отечественного североведения, стараний отдельных энтузиастов и организации спорадических инициатив было явно недостаточно для создания объективной картины этногенеза, исторического развития традиционного хозяйства и культуры аборигенных этносов [16. С. 37-145]. В частности, население Абыйского, Момского, Усть-Янского и Саккырыр-ского районов (упразднен в 1958 г., в настоящее время большая его часть - Эвено-Бытантайский национальный улус) до середины ХХ в. вовсе не было охвачено специализированными этнографическими исследованиями. В результате программа изысканий, составленная И.С. Гурвичем для экспедиции 1951 г. и затем частично корректировавшаяся перед полевыми исследованиями 1952 и 1953-1954 гг., включала проведение посемейного опроса о национальной самоидентификации респондентов, определение их языковой принадлежности, изучение похозяйственных книг и списков, выяснение географической локализации и примерной численности коренного населения. Кроме того, И.С. Гурвич рассчитывал собрать материал о родоплеменной принадлежности опрошенных, истории административного деления, взаимоотношениях между различными этническими сообществами, а также рассмотреть социолингвистическую ситуацию, культуру, хозяйство и быт аборигенных этносов [17. Л. 1-15]. В 1951 г. И.С. Гурвич и сопровождавший его лаборант-переводчик, идентифицировать которого, к сожалению, на настоящий момент не удалось, провели исследования в Нижне- и Среднеколымском районах [18. С. 200]. Поскольку в состав последнего с некоторыми оговорками входила тогда территория современного Верхнеколымского района, то изысканиями было охвачено практически все аборигенное население бассейна Колымы в Якутии от ее верховьев до устья [19. Л. 2935]. В 1952 г. экспедиционные исследования проводились уже в бассейне Индигирки: в Момском, Абый-ском и Аллаиховском районах Якутской АССР. Изыскания ученый вновь проводил в компании лаборанта-переводчика [20. Л. 1-15]. Наконец, в 1953-1954 гг. И.С. Гурвич и сменявшие друг друга лаборанты-переводчики А.Н. Божедонов, Е.Д. Колесов, С.Н. Горохов, Н. Ефимов, а также коллектор А.Н. Окороков работали среди коренного населения Верхоянского, Саккырыр-ского, Усть-Янского, Булунского и Жиганского районов Якутии [21. Л. 1; 22. Л. 1]. Таким образом, учитывая, что в 40-е гг. ХХ в. И.С. Гурвич осуществил исследования в Оленекском и Анабарском районах, он стал первым этнографом, охватившим своими изысканиями все арктические районы Якутии. При этом поражает длина маршрутов, проделанных ученым вместе со своими помощниками и каюрами на широком спектре транспортных средств - от тогда еще традиционных для Севера до технологичных: собаках, оленях, лошадях, ветках, лодках, катерах и пароходах. Только в ходе изысканий на Колыме и Индигирке исследователи преодолели более 5 200 км [19. Л. 3-4; 22. Л. 1; 23. Л. 6-7]. Точных данных по экспедиции 19531954 гг., к сожалению, не сохранилось, однако гигант- Проблемы антропологии, этнологии и этнографии / Problems of anthropology, ethnology and ethnography 164 ская площадь, занимаемая пятью вышеназванными районами, а также продолжительность исследований, составившая около полугода беспрерывных полевых работ (с ноября по май), дают определенное представление о масштабах проделанного пути. Всего же в течение изысканий 1951-1954 гг. И.С. Гурвич находился в поле более 15 месяцев. За это время ученый исследовал традиционную хозяйственную деятельность и выявил ареалы расселения аборигенных этнических сообществ, подготовил соответствующие карты-схемы и определил численность русских старожилов, чукчей, эвенков, эвенов, юкагиров и якутов в исследованных районах. При анализе численности представителей того или иного коренного народа И.С. Гурвичу приходилось заниматься на местах установлением реальной этнической принадлежности респондентов. Например, исследования в Булунском районе позволили ученому провести четкую грань между эвенским и эвенкийским населением, не только отсутствовавшую тогда в официальных документах, но и неочевидную для самих местных жителей [22. Л. 1]. На основе полученных во время экспедиций 19511954 гг. данных И.С. Гурвич проследил развитие ассимиляционных процессов, значительно ускорившихся, по его наблюдениям, после коллективизации, которая способствовала широкому распространению межнациональных браков, смешению культуры и обычаев коренных народов [19. Л. 7-46]. Одновременно в ходе исследований И.С. Гурвич выявил представителей некоторых из бывших родов аборигенных этносов, установил примерные территории их жизнедеятельности и входившие в них семьи. Значительное внимание в ходе экспедиций уделялось анализу социолингвистической ситуации. В частности, И.С. Гурвич определял язык, превалировавший в сферах администрирования, образования и быту местного населения [19. Л. 37-46; 23. Л. 9]. Интересны наблюдения ученого и за языком русских старожилов арктических районов Якутии - походчан и русскоустьинцев. Исследователь отметил значительное своеобразие их говоров, а также обилие в словарном фонде древнерусских слов и заимствований из языков соседних народов [19. Л. 23]. Во время экспедиций 1951-1954 гг. было сделано более тысячи фотоснимков, выполнены чертежи жилых и хозяйственных построек, зарисовки традиционной одежды коренных народов, обуви и орнамента [19. Л. 88-89; 21. Л. 8; 23. Л. 70-71]. И.С. Гурвич, таким образом, стал одним из пионеров североведческой визуальной антропологии в нашей стране. До него сопоставимыми умением и тягой к фотографированию при исследовании аборигенных этносов Якутии отличался только В.И. Иохельсон во время своих экспедиций 1895-1897 и 1901-1902 гг. Кроме того, отдельным направлением изысканий являлся анализ современного состояния хозяйства, быта и благосостояния колхозов и колхозников. И.С. Гурвич охарактеризовал методику организации работы и хозяйственного цикла оленеводческих бригад, технику охоты и рыболовства, заготовляемую в местных коллективных хозяйствах продукцию. Ученый установил «узкие» места, мешающие их экономическому развитию и повышению благосостояния местного населения. Подобная социально-экономическая ориентированность изысканий И.С. Гурвича в дальнейшем будет только усиливаться [19. Л. 47-68; 21. Л. 3-9; 22. Л. 4049, 83-86, 135-148, 171-174, 186-190; 23. Л. 43-70]. Этот факт был связан прежде всего с еще одним фактором, благоприятствующим научному изучению коренных малочисленных народов Севера Советского Союза в целом и Якутии в частности в рассматриваемый период. В 50-е гг. ХХ в. произошел резкий рост внимания органов власти к проблемам аборигенных этносов арктических и приарктических районов нашей страны. В результате был издан ряд правительственных постановлений, фактически на четверть века определивших политику государства по отношению к ним (постановления Совета Министров РСФСР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры малых народностей районов Севера» от 22 декабря 1954 г. и «О мерах помощи в развитии хозяйства и культуры районов Севера» от 10 декабря 1956 г., постановление ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» от 16 марта 1957 г.). Как это часто бывает в нашей стране, такой рост внимания благотворно отразился на поддержке исследовательской деятельности среди коренных малочисленных народов Севера. В частности, в рамках реализации правительственных решений в Институте этнографии АН СССР был создан сектор по изучению социалистического строительства у малых народностей Севера (сектор Севера). На сектор возлагалась задача изучения культуры и быта аборигенных этносов и в первую очередь их современного положения. Как отмечает Е.П. Батьянова, новое структурное подразделение должно было осведомлять директивные органы о текущей ситуации в среде коренных народов, направляя им специальные информационные документы - докладные записки [1. С. 18]. В 1955 г. ряды сектора Севера пополнил И.С. Гурвич, а его первой экспедицией в новом качестве стали изыскания в созданном годом ранее Верхнеколымском районе Якутии. Основное внимание в ходе этих исследований, проводившихся в течение августа 1956 г. в юкагирском колхозе «Светлая жизнь» и его административном центре с. Нелемное, ученый уделил изучению современного экономического и бытового положения верхнеколымских юкагиров. В частности, И.С. Гурвич охарактеризовал состояние важнейших (рыболовство и охота) и вспомогательных (оленеводство, коневодство и скотоводство) отраслей хозяйства, жилищных условий, качество услуг здравоохранения и образования [24. Л. 4-5]. Обращают на себя внимание смелые даже с учетом правительственных поручений и общей либерализации общественной жизни в стране выводы, среди которых резюме о бесперспективности и пагубности насаждения птицеводства, огородничества и свиноводства, имевшего место в начале 50-х гг. ХХ в. По мнению ученого, это приводило к распылению и без того недостаточной рабочей силы, а также к постоянной перегруженности наиболее трудоспособного населения, Сулейманов А.А. Научное изучение коренных малочисленных народов Севера 165 отражавшейся, среди прочего, на его здоровье (например, из 82 обследованных летом 1956 г. юкагиров у 37 был обнаружен туберкулез). Наряду с этим И.С. Гурвич отмечал отсутствие у большинства семей личных хозяйств, их необеспеченность хозяйственным инвентарем (около четверти хозяйств не имели необходимого снаряжения даже для ведения рыболовства или охоты), а также низкую стоимость трудодня [Там же. Л. 7-14]. Учитывая подобную направленность изысканий, важное место в них отводилось выработке конкретных мер по повышению благосостояния местного населения и развитию колхоза «Светлая жизнь», которые были отражены в подготовленной ученым докладной записке [24. Л. 15-17]. Один из древнейших аборигенных этносов Российской Арктики, юкагиры, углубленное научное изучение которого имело значительные перспективы в плане реконструкции этнической истории региона, таким образом, находился в фокусе внимания И.С. Гурвича и во время экспедиционных работ 1951-1954 гг., и во время изысканий 1956 г. Однако наиболее полно исследовать этот народ ученому удалось немного позднее - в 1959 г., в ходе Юкагирской комплексной экспедиции (ЮКЭ). С инициативой ее проведения после выхода в свет постановления «О мерах по дальнейшему развитию экономики и культуры народностей Севера» 1957 г. выступило руководство ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР (к этому времени институт вошел в состав созданного Сибирского отделения). Инициатива получила поддержку со стороны Якутского филиала СО АН СССР, профинансировавшего исследования (на полевые работы было выделено 100 тыс. руб. при стоимости, например, автомобиля «Москвич 407» 16 тыс. руб.), и ведущих профильных учреждений страны - Института этнографии и Института языкознания АН СССР, которые согласились выделить для участия в работах своих научных сотрудников [25. Л. 35]. Состав участников ЮКЭ в результате сочетал как уже признанных специалистов, так и исследователей, которые не так давно начали свою научную карьеру. Ее руководителем, а также начальником археологического отряда являлся директор ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР З.В. Гоголев. Научным руководителем и начальником этнографического отряда экспедиции стал И.С. Гурвич. Лингвистический отряд возглавлял старший научный сотрудник Лениградского отделения Института языкознания АН СССР Е.А. Крейнович, который на тот момент был не просто крупнейшим специалистом по юкагирскому языку, но и фактически единственным, кто углубленно занимался его исследованием в Советском Союзе. В частности, именно языку юкагиров была посвящена кандидатская диссертация исследователя, защищенная в 1948 г. Вместе с ними в работе экспедиции принимали участие И.М. Золотарева (Институт этнографии им. Н.Н. Миклухо-Маклая АН СССР), К.И. Горохов, М.Я. Жорницкая, А.Н. Лаптев и С.А. Федосеева (ИЯЛИ ЯФ СО АН СССР) [26. Л. 5]. Ко времени проведения экспедиции юкагиры являлись одним из наиболее малочисленных этносов среди всех коренных народов северо-востока СССР. По данным переписи населения 1959 г., в Советском Союзе проживали всего 442 юкагира, в том числе 419 на территории Якутии и Магаданской области. В самой же Якутии были зафиксированы 276 юкагиров. При этом основная их часть была сосредоточена в трех арктических районах республики - Аллаиховском, Верхне- и Нижнеколымском [27]. Исследованиями ЮКЭ были охвачены все эти заполярные районы, а также Среднеканский район Магаданской области (здесь изыскания ограничивались только работами И.С. Гурвича). Рамки данной работы не позволяют подробно рассмотреть историю проведения Юкагирской комплексной экспедиции. В связи с этим представляется целесообразным остановиться в первую очередь на анализе ее научного значения и основных особенностей. Важнейшей из них стала действительная комплексность изысканий, прекрасно прослеживаемая на примере программы экспедиции. Среди главных задач ЮКЭ в этом документе были определены: реконструкция истории хозяйственной деятельности, культуры и быта юкагиров; изучение языка, происхождения и физической организации представителей данного народа для выяснения его этногенеза; анализ происходящих этнических процессов; исследование современного хозяйства и культуры с целью разработки общих мер по улучшению положения населения северных районов Якутии [28. Л. 3]. Экспедиционные работы включали в себя археологические, историко-этнографические, фольклорно-лингвистические, физико-антропологические и социально-экономические изыскания. При этом исследованиями были охвачены не только все поселки и села, являвшиеся местами компактного проживания юкагиров, но и оленеводческие стада, рыбалки и заимки, представлявшие хотя бы незначительную ценность для выполнения программы экспедиции. В этом отношении показателен пример физикоантропологических изысканий, организованных И.М. Золотаревой: из 276 юкагиров, проживавших тогда /в Якутии, ими было охвачено 159 представителей этого этноса [21. Л. 30]. Еще одной ключевой особенностью ЮКЭ стало то, что юкагиры исследовались не в фактической изоляции от окружающих их аборигенных этносов (эвены, чукчи, якуты, русские арктические старожилы), как это довольно часто было ранее и случалось впоследствии, а в тесной связи с ними. Следует отметить, что вплоть до Юкагирской комплексной экспедиции единственными изысканиями, в ходе которых предпринималась попытка рассмотреть все стороны жизни юкагиров - их язык, историю, культуру, быт и социальные отношения, - являлись вышеупомянутые ранее исследования, проведенные В.И. Иохельсоном. При этом полученные исследователем материалы при всей их уникальности и огромной ценности постепенно устаревали, а с развитием научной мысли некоторые из разработанных положений требовали серьезных уточнений и корректировки. Кроме того, основной акцент В.И. Иохельсон делал на изучении так называемых лесных юкагиров - жителей верховьев Колымы, их тундренным же сородичам, Проблемы антропологии, этнологии и этнографии / Problems of anthropology, ethnology and ethnography 166 живущим севернее, он уделил значительно меньше внимания. В связи с этим основная часть изысканий в рамках ЮКЭ была проведена в Нижнеколымском и Аллаи-ховском районах. Так, из 5 месяцев работы этнографического отряда 3,5 заняли исследования именно в них. Лингвистический отряд же вовсе работал в Нижнеколымском районе 4,5 месяца. С исследований участника этого отряда юкагира А.Н. Лаптева и начались полевые работы в рамках ЮКЭ. 16 февраля 1959 г. он прилетел в Нижнеколымск из Якутска, а на следующий день был уже в с. Колымское - главном месте сосредоточения усилий филологов. Продолжались же экспедиционные изыскания до конца августа, завершившись работами И.С. Гурвича в Среднеканском районе Магаданской области [26. Л. 27-273; 29. Л. 42]. Так же как и во время рассмотренных ранее исследований, транспортные схемы участников ЮКЭ являлись симбиозом старого и нового: перемещения из отправного пункта экспедиции - Якутска - до места проведения полевых работ, а также из одного района в другой осуществлялись на самолетах; в «поле», наряду с моторными лодками и катерами, использовались собаки, олени, лошади и ветки [29. Л. 43]. При этом если участники лингвистического отряда работали фактически автономно, то члены этнографического и археологического отрядов взаимозаменяли друг друга. Так, начальник этнографического отряда И.С. Гурвич принимал участие в археологических раскопках, а археолог С.А. Федосеева в период до начала раскопок (с июня, когда началось оттаивание почвы) работала как этнограф, собирая сведения о традиционной хозяйственной деятельности, погребальном обряде, кулинарных практиках и обычаях местных жителей [26. Л. 103-142; 30. Л. 2]. Следует отметить, что ни до, ни после Юкагирской комплексной экспедиции в местах компактного проживания юкагиров исследований подобного формата и масштабов, с привлечением ведущих в стране специалистов, не проводилось. Именно работам ее участников мы обязаны многими из современных представлений о юкагирах, включая сведения об их этногенезе, истории, языке, культуре и хозяйственной деятельности. В частности, выявленные в ходе ЮКЭ сведения дали возможность И.С. Гурвичу сделать вывод о существовавших ранее тесных контактах между юкагирами и нганасанами, а также о наличии до прихода русских в тундровых и лесотундровых районах севера России цепи охотничье-оленеводческих племен. В конце 1980-х гг. выводы ученого о родстве юкагиров и нганасан были подтверждены в результате анализа генетико-демографических данных [31. С. 58-59]. Являвшиеся во многих отношениях пионерскими физико-антропологические исследования И.М. Золотаревой позволили на основе богатого эмпирического материала подтвердить сформулированную незадолго до ЮКЭ концепцию об особенном положении юкагиров среди всех антропологических типов северовостока России и их отнесении к байкальскому типу [26. Л. 50-53]. Эта концепция расходилась с популярной ранее гипотезой В.И. Иохельсона, сближавшего юкагиров по антропологическому типу с коряками, камчадалами, чукчами и индейцами северо-западного побережья Америки [32. Р. 44]. На настоящий момент антропологическая принадлежность юкагиров к байкальскому типу является в научном мире общепризнанной. Подверглось корректировке и выработанное В.И. Ио-хельсоном положение о близости юкагирского языка с языками аборигенных этносов Северной Америки. В результате Юкагирской комплексной экспедиции Е.А. Крейновичем был аккумулирован комплекс материалов, характеризующих особенности синтаксиса, морфологического строя и фонетики языка юкагиров. На основе их анализа ученый отнес основу юкагирского языка к уральской языковой семье. Вплоть до последнего времени гипотеза о родстве юкагирского языка с уральскими являлась среди исследователей превалирующей. Кроме того, Е.А. Крейнович осуществил первый глубокий анализ грамматики диалектов тундренных и лесных юкагиров, отметив их значительные лексические расхождения, а также различия в звуковом строении и внутренней структуре целого ряда слов [33. С. 3-272]. Впоследствии эти положения получат развитие в работах ряда лингвистов (включая ученика Е.А. Крейновича юкагира Г.Н. Курилова, сыгравшего значительную роль в обработке материалов ЮКЭ), которые придут к выводу о наличии не диалектов, а двух самостоятельных языков. Неоценимо и значение работы второго участника лингвистического отряда А.Н. Лаптева, который, помимо помощи Е.А. Крейновичу, составил уникальную рукописную коллекцию из 100 фольклорных текстов: юкагирских сказок, рассказов, легенд, преданий и загадок [34-36]. Помимо участников этого отряда изыскания филологического плана осуществил и И.С. Гурвич. В частности, проведя исследования в поселениях русских старожилов, ученый отметил их быстрое сближение с пришлым русскоязычным населением, в результате которого, а также под воздействием развития СМИ произошло стремительное («всего за несколько лет» с момента исследований 1951-1952 гг.) разрушение нижнеколымского и походского говоров [26. Л. 39-42]. Именно в рамках ЮКЭ были проведены первые специализированные исследования археологов в Ал-лаиховском районе, в Нижне- и Верхнеколымском же они стали вторыми после изысканий А.П. Окладникова 1946 г. - арктические районы республики были на тот момент практически не изучены с археологической точки зрения [30. Л. 1-2; 37. Л. 22-24]. Внимание участников экспедиции к различным этническим группам позволило создать действительно широкую панораму жизни местного населения, которая нашла отражение в том числе в докладной записке, подготовленной И.С. Гурвичем. Документ был посвящен анализу современного социально-экономического положения коренных народов северо-востока Якутии. В нем получил развитие критический подход, характерный для рассмотренной ранее записки, составленной ученым по результатам экспедиции 1956 г. В частности, негативную оценку на примере исследованного в рамках ЮКЭ ареала, помимо отмеченных Сулейманов А.А. Научное изучение коренных малочисленных народов Севера 167 выше замечаний относительно неоправданного распыления лимитированных трудовых ресурсов и перегруженности работников местных колхозов, крайне ограниченных размеров или полного отсутствия личных подсобных хозяйств, получили проведенное в ходе коллективизации укрупнение оленьих стад, укрупнение по примеру центральных районов страны колхозов на севере Якутии, неразумная погоня за выполнением производственных планов и многое другое [26. Л. 305-341]. Следует отметить, что после прекращения И.С. Гур-вичем своих исследований в Якутии в начале 60-х гг. ХХ в. подобные критически направленные оценки применительно к условиям жизни аборигенных этносов в ее арктических районах автору данной статьи удалось встретить только в работах уже перестроечного периода. К сожалению, нет уверенности, что здесь сказалось действительное улучшение социально-экономического положения проживающих в регионе представителей коренных малочисленных народов Севера. В рамках краткого анализа истории проведения Юкагирской комплексной экспедиции уже были затронуты вопросы научного изучения языков и фольклора юкагиров. Не менее плодотворно в 50-е гг. ХХ в. филологические изыскания велись и в отношении еще одного аборигенного этноса - эвенов. Вместе с тем следует оговориться, что в рассматриваемый в данной работе период сложно выделить какие-либо самостоятельные исследования касательно языка и фольклора представителей других коренных народов, населяющих арктические районы Якутии - долган, эвенков и чукчей. Споры вокруг самостоятельности долганского языка продолжаются и в наше время, а в 1950-1980-е гг., возможно в том числе под влиянием упомянутой выше дискуссии в журнале «Советская этнография», анабар-ских долган даже не фиксировали переписи населения. Эвенки рассматриваемого ареала являлись носителями якутского языка, и лингвистические изыскания, проводимые в их среде, как правило, посвящались анализу влияния эвенкийского языка на якутский. Масштабы же исследований чукотского языка в Якутии, к сожалению, вплоть до наших дней оставляют желать лучшего. Следует отметить, что ситуация с изученностью эвенского языка к 1950-м гг. была лишь немногим лучше положения с этнографической изученностью коренных малочисленных народов Севера Якутии. На протяжении XVIII - начала ХХ в. в поле зрения исследователей (М.М. Робек, Г.Л. Майдель, В.Г. Богораз) фактически попадало только эвенское население низовий Колымы. Лишь в 1930-е гг., в рамках работы по всеобщей ликвидации безграмотности и созданию письменности для не имевших ее народов, были получены первые материалы по языку эвенов Саккырыр-ского, Булунского и Усть-Янского районов Якутии. Эти материалы собирала Л.Д. Ришес (Институт народов Севера, Ленинград) [38. Л. 1-24]. К сожалению, значительная их часть была утрачена в годы Великой Отечественной войны. Тогда же, в 1930-е гг., были выделены западный (Усть-Янский, Булунский, Саккырырский районы) и восточный (все остальные районы) диалекты эвенского языка [Там же. Л. 77]. Характеризуя важность продолжения научного изучения эвенского языка в Якутии в 50-е гг. ХХ в. и постановки его на систематические начала, представляется необходимым упомянуть два момента. Во-первых, к этому времени на базе ольского говора эвенов Хабаровского края была создана и активно внедрялась эвенская письменность. Во-вторых, следует отметить, что, несмотря на достаточную малочисленность эвенов в Якутии (3 537 чел. по переписи 1959 г.), они проживали в Оймяконском, Момском, Абыйском, Аллаихов-ском, Томпонском, Усть-Янском, Саккырырском, Булун-ском, Верхне-, Средне- и Нижнеколымском районах республики [39. С. 50]. При этом указанная дисперсность расселения имела достаточно глубокие исторические корни, что обусловливало отличия местных диалектов как друг от друга, так и от разработанных литературных норм. Все это, естественно, диктовало необходимость внимания ученых к каждой из территориальных групп эвенского населения Якутии. С июля до ноября 1953 г. в Якутске и Саккырырском районе исследованием говоров эвенского языка и возможностей использования созданной эвенской письменности в школах региона занималась К.А. Новикова (Ленинградское отделение Института языкознания АН СССР). В результате опроса 26 респондентов она записала 700 рукописных страниц образцов ламунхинского, тюгесирского, томпонского, аллаи-ховского и момского говоров эвенского языка, 500 из которых приходилось на саккырырцев, а также составила рабочий вариант диалектологического словаря из 8 000 слов [40. Л. 4-7]. Одновременно К.А. Новикова определила важнейшие проблемы в образовательном процессе эвенов в Якутии (нехватка педагогических кадров, владеющих эвенским; недостаточное количество учебной и художественной литературы на родном языке и неэффективное использование имеющейся; диалектологические различия) и потенциально пригодные для перевода обучения начальных классов на эвенский или эвенкийский языки школы [Там же. Л. 42-43]. Наибольшие же успехи в отношении научного познания эвенского языка в Якутии в рассматриваемый период были связаны с именем упоминавшейся выше Л.Д. Ришес (1904-1971). Выпускница географического факультета Ленинградского государственного университета (1929), она в 1948 г. была принята на работу в Якутскую научно-исследовательскую базу Академии наук СССР. В составе базы, а затем ИЯЛИ ЯФ АН СССР она проработала (с перерывом на 1949-1954 гг.) до 1958 г. Именно в период трудовой деятельности в институте Л.Д. Ришес совместно с В.И. Цинциус был подготовлен и издан предназначенный для преподавателей и студентов Эвенско-русский словарь (1957). Примечательно, что только в 2004 г. на смену этому пособию пришло более полное издание, составленное В.А. Роббеком и М.Е. Роббек. В течение 1955-1957 гг. при участии Л.Д. Ришес были проведены полевые исследования в районах распространения восточного диалекта эвенского языка в Якутии, представлявшие ранее в исследовательском плане «невспаханное поле». Проблемы антропологии, этнологии и этнографии / Problems of anthropology, ethnology and ethnography 168 Так, она являлась руководителем диалектологических экспедиций ИЯЛИ ЯФ АН СССР в Момский (1955), Средне- и Верхнеколымский (1956) районы Якутии, в ходе которых ее единственным помощником являлся студент Ленинградского государственного педагогического института им. А.И. Герцена В.Д. Лебедев [41. Л. 35-44; 42. Л. 1-2; 43. Л. 1-2]. В 1957 г. В.Д. Лебедев проводил уже самостоятельные изыскания в Мямяло-готниканском наслеге Томпонского района по программе, составленной В.И. Цинциус и дополненной Л.Д. Ришес [44. Л. 2-7]. О масштабах осуществленной полевой работы можно судить на примере экспедиции в Момский район. Ее продолжительность превысила 5 месяцев (апрель-сентябрь), а протяженность маршрутов составила около 1 780 км. Из Якутска до Момы исследователи добирались на самолетах, к месту изысканий - «зимним путем на нартах», обратно же следовали верхом на лошадях [41. Л. 2]. В ходе экспедиции было записано более 1 000 страниц текстов с переводами, собраны материалы по грамматике и фонетике эвенского языка, а также составлен рабочий вариант словаря (около 4 500 слов, относящихся к названиям месяцев, времен года, жилищ, одежды, домашней утвари, диких животных, различных явлений природы, термины родства и др.) [Там же. Л. 21-23]. Особое внимание в ходе экспедиций уделялось сравнительному анализу местных диал
Батьянова Е.П. Северная экспедиция Института этнографии (1956-1991 гг.) // Этнографическое обозрение. 2013. № 4. С. 17-34.
Сулейманов А.А. Этнографическое изучение коренных народов арктических районов Якутии в 1951-1954 гг. // Вестник Омского государ ственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2015. № 2. С. 56-60.
Сулейманов А.А. Юкагирская комплексная экспедиция 1959 г. // Гуманитарные науки в Сибири. 2014. № 3. С. 74-78.
Боякова С.И. Гуманитарные проблемы Арктики: основные направления научных исследований // Якутия в российском научном простран стве XX - нач. XXI вв.: гуманитарные исследования : сб. науч. ст. / Акад. наук Респ. Саха (Якутия), Ин-т гуманитарных исслед.; редкол.: B. Н. Иванов (отв. ред.), Н.Н. Ефремов. Якутск : Изд-во ЯНЦ СО РАН, 2005. С. 56-70.
Прокопьева П.Е. Юкагироведческие исследования в ИГИиПМНС СО РАН // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2015. № 3. С. 79-83.
Шарина С.И. Вклад якутских исследователей в изучение эвенского языка // Северо-Восточный гуманитарный вестник. 2015. № 3. С. 72-78.
Сулейманов А.А. Научное изучение эвенского языка в Якутии в 50-е гг. ХХ в. // Академические исследования в Якутии: «территория исто рика» : сб. статей, посвящ. юбилею профессора Д.А. Шириной. Якутск : Алмас, 2016. С. 285-294.
Батьянова Е.П., Жорницкая М.Я., Мухамедьяров Ш.Ф., Томилов Н.А. Илья Самуилович Гурвич как ученый и человек // Этническая история тюркских народов Сибири и сопредельных территорий (по данным этнографии и языкознания) : материалы всерос. конф. Омск, 1992. C. 15-26.
Роон Т.П., Сирина А.А. Е.А. Крейнович: жизнь и судьба ученого // Репрессированные этнографы. М. : Восточная литература РАН, 2003. Вып. 2. С. 47-77.
Саввинов А.И. Север Якутии в исследованиях И.С. Гурвича // Якутский архив. 2009. № 3-4. С. 117-120.
Архив Российской академии наук (АРАН). Ф. 188. Оп. 8. Д. 164.
Гурвич И.С. К вопросу об этнической принадлежности населения Северо-Запада Якутской АССР // Советская этнография. 1950. № 4. С. 150-168.
Гурвич И.С. По поводу определения этнической принадлежности населения бассейнов рек Оленека и Анабара // Советская этнография. 1952. № 2. С. 73-85.
Долгих Б.О. О населении бассейнов рек Оленека и Анабара // Советская этнография. 1952. № 2. С. 86-91.
Терлецкий П.Е. Еще раз к вопросу об этническом составе населения северо-западной части Якутской АССР // Советская этнография. 1951. № 1. С. 88-99.
Ширина Д.А. Россия: научное исследование Арктики. XVIII в. - 1917 г. Новосибирск : Наука, 2001. 191 с.
Рукописный фонд Архива Якутского научного центра Сибирского отделения (РФА ЯНЦ СО) РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 233.
Гурвич И.С. Этнографическая экспедиция в Нижне-Колымский и Средне-Колымский районы Якутской АССР в 1951 году // Советская этнография. 1952. № 3. С. 200-209.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 231.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 247.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 250.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 258.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 236.
Научный архив Института этнологии и антропологии им. Н.Н. Миклухо-Маклая (НА ИЭА) РАН. Ф. 142. Оп. 2. Д. 24.
АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1201.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 359.
Всесоюзная перепись населения 1959 года // Демоскоп Weekly. URL: http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_59.php (дата обращения: 05.05.2019).
АРАН. Ф. 142. Оп. 1. Д. 1202.
НА ИЭА РАН. Ф. 142. Оп. 2. Д. 39.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 356.
Посух О.Л. Генетико-демографическое изучение популяций эвенов и юкагиров Якутии // Популяционно-генетическое изучение северных народностей : сб. ст. / Рос. акад. наук, Сиб. отд-ние, Ин-т цитологии и генетики; отв. ред. В.К. Шумный, С.Н. Родин. Новосибирск : ИЦИГ, 1992. С. 41-65.
Johelson W. Peoples of Asiatic Russia. New York : The American Museum of Natural History, 1928. 277 p.
Крейнович Е.А. Исследования и материала по юкагирскому языку. Л. : Наука, 1982. 304 с.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 34.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 35.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 36.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 1. Д. 361.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 14. Д. 28.
Филиппова В.В. Коренные малочисленные народы Севера Якутии в меняющемся пространстве жизнедеятельности. Вторая половина ХХ в. Новосибирск : Наука, 2007. 176 с.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 14. Д. 26.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 5. Д. 496.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 14. Д. 27а.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 14. Д. 30.
РФА ЯНЦ СО РАН. Ф. 5. Оп. 14. Д. 39.
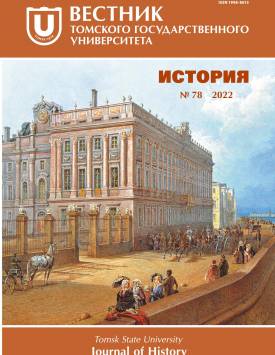

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью