На основе анализа керамического комплекса из культурного слоя памятника Ближние Елбаны VII выдвигается гипотеза, согласно которой считавшийся ранее культурно-хронологически однородным материал, относящийся к фоминскому этапу кулайской культуры, подразделяется на два различных памятника. Первый представлен поселением, керамический комплекс которого относится к переходному, саровско-фоминскому типу, второй является более поздним погребально-поминальным комплексом, относящимся к фоминскому этапу кулайской культуры. Выделены основные признаки керамического комплекса фоминского этапа кулайской культуры. Пересмотрена в сторону незначительного омоложения (до начала-середины II в.) нижняя хронологическая граница фоминского этапа кулайской культуры. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
On the Question of Cultural and Chronological Homogeneity of Blizhnie Elbany VII Complex (based on the State Hermitage M.pdf Еще до момента полноценной публикации М.П. Грязновым [1] материалов могильника Ближние Елбаны VII этот памятник стал одним из наиболее обсуждаемых среди ученых. Даже предварительные доклады выдающегося исследователя и первичные публикации материалов этого памятника [2-6] вызвали бурные дискуссии по поводу его культурно-хронологической принадлежности [7, 8], которые достаточно подробно проанализированы в историографических разделах крупных монографических исследований [9-12]. Пожалуй, из всех памятников, исследованных М.П. Грязновым в пункте Ближние Елбаны, ни один не имеет столь обширной историографии. И это неслучайно, ведь это единственный до недавнего времени могильник, представляющий огромный культурный пласт, основным характеризующим материалом которого до этого являлись поселенческие комплексы. В отношении преобладания поселенческих комплексов над погребально-поминальными Барнаульско-Бий-ское Приобье не является исключением. В этом регионе известно три достоверных погребально-поминальных комплекса (Фоминский могильник [1. С. 126; 11. С. 20], могильник Круглое Озеро [1. С. 133; 11. С. 21] и Ши-пуновские находки [11. С. 21] таковыми являются лишь гипотетически, ни одного погребения с этих памятников не описано, материал представлен лишь артефактами со сборов), в которых исследовано 36 погребений (БЕ-7 - 31 погребение [1. С. 127, 130; 11. С. 20; 13. С. 16], Татарские могилки (памятник известен под разными названиями, обоснование используемого названия см.: [13. С. 6-7]) - 3 погребения [11. С. 30; 13. С. 16], Кармац-кий - 2 погребения [14. С. 102]). Остальные материалы представлены поселенческими комплексами, в основном керамикой. Поэтому интерпретация наиболее представительного погребально-поминального комплекса является чрезвычайно актуальной задачей. Несмотря на то, что материалы этого памятника уже много раз пересматривались исследователями и уже вроде как утратили свою информативность, считаю целесообразным еще раз вернуться к его анализу. По-новому посмотреть на них позволяют увеличение источниковой базы, которое дает возможность на основании исследованных поселенческих комплексов охарактеризовать достаточно однородный комплекс керамики фоминского этапа кулайской культуры, от крытие и исследование 14 погребений Усть-Абинского могильника [11. С. 34] и двух погребений могильника Кармацкий [14. С. 102]. Эти источники вызывают сомнение в однородности опубликованного в монографии М.П. Грязнова материала, так как часть сосудов керамического комплекса могильника БЕ-VII, отнесенного к фоминскому этапу верхнеобской культуры, по ряду признаков отличается от довольно стандартного комплекса фоминской керамики. Работа с коллекциями Государственного Эрмитажа дала возможность обработать представительный комплекс керамического материала, не нашедшего отражения в публикации 1956 г. Его анализ позволил разделить считавшийся ранее однородным керамический комплекс фоминского этапа с памятника БЕ-VII на два отличных друг от друга комплекса. Таким образом, имеющийся в настоящее время объем источников позволяет переосмыслить материалы могильника БЕ-VII и определить его место в системе древностей рубежа эр первой половиной 1 тысячелетия. Начнем с того, что вслед за великолепным методологом М.П. Грязновым [15], никто из последующих исследователей не усомнился в культурно-хронологической и типологической однородности коллекции с могильника БЕ-VII. В своей работе М.П. Грязнов отмечал, что «в нижней половине почвенного слоя в исследованной части могильника почти повсюду находились черепки глиняной посуды и некоторые другие предметы», причем им же отмечено, что эти черепки принадлежат и «более крупным, нарядным сосудам, какие встречены в культурном слое... поселения (видимо, имеется в виду поселение БЕ-IV)». Эти обломки «следует рассматривать как остатки похоронных и поминальных тризн». По его мнению, фрагменты керамики из культурного слоя могильника принадлежат не менее чем 55 сосудам [1. С. 132]. Из них опубликован лишь один, да и тот далеко не показательный [1. Табл. 50, 29]. Сам тезис о принадлежности материала культурному слою могильника, называемого почвенным, а следовательно, относящегося к единому погребальнопоминальному комплексу, не позволяет усомниться как в культурно-хронологической, так и типологической (имеется в виду тип памятника) однородности всего материала, полученного с этого памятника. Это Проблемы археологии / Problems of archaeology 174 положение не вызывало сомнений ни у кого из исследователей. Наиболее полную характеристику керамического комплекса, происходящего из почвенного слоя БЕ-VII, мы находим в работе Т.Н. Троицкой. Ею проанализировано достаточно большое количество фрагментов керамики, происходящих от 82 сосудов, как из почвенного слоя, так и из погребально-поминальных комплексов [9. С. 41-42]. Вслед за М.П. Грязновым она также считает этот комплекс как типологически, так и культурно-хронологически однородным. К сожалению, в иллюстративной части монографии Т.Н. Троицкой опубликовано только 4 фрагмента керамики из почвенного слоя [Там же. С. 120], что не дает целостного представления о всем комплексе. Более полную публикацию находок из почвенного слоя БЕ-VII мы находим в работе Ю.В. Ширина, которым опубликовано 15 рисунков, представляющих как фрагменты керамических сосудов, так и реконструированные сосуды и вещи, происходящие из почвенного слоя БЕ-VII, относящиеся к комплексу фоминского могильника [11. С. 169-171]. У него также не вызывает сомнения культурно-хронологическая и типологическая однородность комплекса [Там же. С. 21-22], более того, вслед за Т.Н. Троицкой он дает общую характеристику керамического комплекса, происходящего как из почвенного слоя, так и из погребений. Причем используется не весь массив материалов, а лишь наиболее полно сохранившиеся сосуды [Там же. С. 96-98]. Сомнения в типологической однородности комплекса кулайской культуры с БЕ-VII мы находим только в работе Л.А. Чиндиной, где она на карте-схеме размещения памятников саровского этапа кулайской культуры [10. С. 225] на рис. 20 под № 4 поместила памятник БЕ-VII с припиской «пос.», что должно означать поселение, однако этот тезис нигде в тексте монографии более не высказан, а сам памятник БЕ-VII однозначно трактуется как могильник [Там же. С. 103, 111]. На этой же карте-схеме мы не видим могильника БЕ-VII. Не знаю, можно ли это трактовать как возможность разделения Л.А. Чиндиной типологически единого могильника БЕ-VII на два типа памятников - поселение и могильник, однако приписка «пос.» позволяет говорить о наличии таковой. При работе с материалами памятника БЕ-VII из почвенного слоя, относящимися к кулайской культуре, обращает внимание очень плотная его насыщенность находками. Согласно данным М.П. Грязнова, на 1 180 м2 раскопа приходятся фрагменты 55 сосудов [1. С. 132]. Получается, что средняя насыщенность слоя составляет примерно 0,05 сосуда на 1 м2. Согласно данным той же Т.Н. Троицкой, на поселении БЕ-IV на 250 м2 раскопа приходится 42 сосуда [9. С. 42]. Это дает среднюю насыщенность культурного слоя в 0,17 сосуда на 1 м2, что ненамного больше. С целью определения степени насыщенности культурного слоя находками был проведен анализ исследованных однослойных поселенческих комплексов. Учитывая, что изучено небольшое количество однослойных поселений поздних этапов кулайской культуры (саровского и фоминского), для большей репрезентативности выводов был привлечен и материал сопредельных, близких в культурно-хронологическом отношении комплексов васюганских этапов кулайской культуры и одинцовской культуры из Томского, Новосибирского и Барнаульско-Бийского Приобья. Результаты анализа приведены в таблице. Насыщенность культурного слоя находками № п/п Название памятника Площадь раскопа, м2 Количество сосудов, шт. Средняя насыщенность, сос./м2 Культурная принадлежность Источник 1 Дубровинский Борок 4 2 600 12 0,05 Первый этап новосибирского варианта кулайской культуры [9. С. 20] 2 Дубровинский Борок 3 198 260 1,31 Второй этап новосибирского варианта кулайской культуры [Там же. С. 25-28] 3 Усть-Ирмень 32 67 2,09 Второй этап новосибирского варианта кулайской культуры [Там же. С. 32] 4 Ивановка 4 231 30 0,13 Третий этап новосибирского варианта кулайской культуры [Там же. С. 38] 5 Бехтемир 16 28 1,75 Сошниковский этап одинцовской кульутры [12.С. 9] 6 Городище 2 112 1 0,009 Сошниковский этап одинцовской кульутры [Там же. С. 13] 7 Гор. Малый Иткуль 5 80 8 0,1 Сошниковский этап одинцовской кульутры [Там же. С. 17] 8 Гор. Малый Иткуль 6 80 7 0,09 Сошниковский этап одинцовской кульутры [Там же. С. 20] 9 Сошниково 1 964 12 0,01 Сошниковский этап одинцовской кульутры [Там же. С.25-26] 10 Пос. Малый Иткуль 1/7 140 4 0,03 Одинцовский этап одинцовской кульутры [Там же. С. 37] 11 Пос. Малый Иткуль 2/2 64 2 0,03 Одинцовский этап одинцовской кульутры [Там же. С. 42] 12 Пос. Малый Иткуль 1 220 30 0,14 Фомиинский этап кулайской культуры [16] 13 БЕ-7 1 180 55 0,05 Фомиинский этап кулайской культуры [1. С. 132] 14 БЕ-4 250 42 0,17 Фомиинский этап кулайской культуры [9. С. 42] Средняя насыщенность 0,46 Казаков А.А. К вопросу о культурно-хронологической однородности комплекса Ближние Елбаны VII 175 Наибольшую насыщенность, превышающую 1 сосуд на 1 м2, мы наблюдаем на памятниках Дубровинский Борок 3, Усть-Ирмень и Бехтемир. На городище Бехте-мир такая высокая насыщенность обусловлена разбивкой раскопа внутри жилищного котлована. На городище Дубровинский Борок 3 небольшим по площади раскопом (198 м2) исследовано три жилищных котлована, а именно в них наблюдается наибольшая насыщенность находками. К сожалению, не владея ситуацией, не могу объяснить столь высокую насыщенность культурного слоя поселения Усть-Ирмень. Можно лишь предполагать, что М.П. Грязнов небольшим по площади раскопом в 32 м2 попал на хозяйственную зону жилища с наибольшей концентрацией находок. Большинство исследованных памятников с небольшими по площади раскопами ориентировано на исследование как раз жилищных котлованов, в которых и сосредоточено подавляющее количество находок, что дает достаточно высокую насыщенность культурного слоя, да то далеко не всегда. Средняя насыщенность культурного слоя в 0,1 и более сосуда на 1 м2 считается уже достаточно высокой! Исследование всей площади памятника крупным раскопом предполагает и изучение межжилищного пространства и линий ров-вал, культурный слой в которых практически не содержит никаких находок, что в среднем дает очень низкую среднюю насыщенность. Подобным образом изучались такие памятники, как Дубровинский Борок 4 и Сошниково 1, которые дают среднюю насыщенность культурного слоя в 0,025 сосуда на 1 м2. Очень слабую насыщенность культурного слоя поселений, относящихся к рассматриваемому периоду, констатирует и Л.А. Чиндина, которая отмечает, что на поселении Степановское 1 находки концентрировались около жилищ или ям [10. С. 186], а на поселении Степановское 4 в межжилищном пространстве находок почти не было [Там же. С. 191]. Что касается распределения находок в котлованах, то Л.А. Чиндиной выявлено, что они, как правило, тяготели к очагам либо концентрировались у стен или в углах жилищ [10. С. 18, 45]. Вслед за другими исследователями описанные закономерности отмечены автором при характеристике культурного слоя поселений одинцовской культуры [12. С. 86]. Такая слабая насыщенность культурного слоя стационарных поселений заставляет усомниться в возможности высокой насыщенности находками культурного слоя на погребально-поминальных комплексах, который трактуется как остатки тризн. Трудно представить, что разовые, достаточно редкие обрядовые действия могли привести к формированию культурного слоя на поминально-погребальном комплексе большей насыщенности, чем на поселении, на территории которого люди обитали непрерывно достаточно длительное время и вели интенсивный образ жизни. А на памятнике БЕ-VII, на котором раскопом исследована сплошная площадь, средняя насыщенность слоя находками очень высока -0,05 сосуда на 1 м2, что в 2 раза превышает таковую на долговременных памятниках, исследованных так же, как и БЕ-VII, сплошными площадями (Дубровинский Борок 4 и Сошниково 1)! Косвенными доказательствами существования поселенческого слоя могут служить и такие наблюдения, как неоднородное залегание материала в почвенном слое. Так, фрагменты одного сосуда, судя по инвентарным номерам (если принять во внимание, что соседние квадраты должны шифроваться порядковыми номерами, идущими последовательно), найдены в достаточно отдаленных друг от друга квадратах, что при единичном факте можно объяснить случайностью, при большой распространенности - остатками поселенческого культурного слоя. Большая фрагментированность сосудов свидетельствует в пользу этого же. Согласно механизму образования остатки тризны должны быть представлены развалами, мы же имеем дело с большой фрагментированностью. Это позволяет усомниться в типологической однородности комплекса и говорить о поселенческом культурном слое и погребально-поминальном комплексе, т.е. на БЕ-VII наряду с грунтовым могильником существовало еще и поселение кулайской культуры. Таким образом, на этом месте было два типологически разнородных памятника - поселение и могильник. Анализ наличия следов поминальных тризн на других погребально-поминальных комплексах кулайской культуры также подтверждает выдвинутую гипотезу. Так, из 72 погребений могильника Каменный Мыс лишь четыре сопровождались остатками тризны, и всего в одном (к. 4) найдены остатки двух керамических сосудов [9. С. 9]. На могильнике Ордынское 1 таковых вообще не обнаружено, хоть это и объясняется сильной разграбленностью памятника [Там же. С. 22]. На площади погребально-поминального комплекса фомин-ского этапа кулайской культуры Татарские могилки остатков материальной культуры, а тем более керамических сосудов, однозначно связанных с поминальными тризнами, не зафиксировано [11. С. 30]. На могильнике Карлык 1 также не зафиксировано следов погребальных тризн [Там же. С. 31]. На площади исследованного Ю.В. Шириным Усть-Абинского погребально-поминального комплекса, на котором выявлено и исследовано 14 погребений, имеются следы поминальной тризны, однако они не сопровождаются остатками керамической посуды [Там же. С. 34-35]. Принимая во внимание, что погребально-поминальная обрядность является очень консервативным явлением, слабо подверженным различным новациям и достаточно однородным в пространстве, что позволяет считать ее одним из основных культурообразующих признаков при выделении и характеристике археологических культур, следует признать, что наличие следов погребальных тризн для могильников различных этапов кулайской культуры не свойственно для погребально-поминальной обрядности носителей этой культуры, тем более наличие подобных следов в форме остатков керамических сосудов.Таким образом, следует признать наличие на памятнике БЕ-VII наряду с могильником фоминского этапа кулайской культуры и поселенческого культурного слоя достаточно высокой насыщенности. Для определения культурно-хронологической однородности материалов из культурного слоя могиль- Проблемы археологии / Problems of archaeology 176 ника и поселения необходимо провести их сравнительный анализ, который начинается с описания. Опишем керамический комплекс поселения, материалы которого хранятся в Государственном Эрмитаже в коллекции № 1623. С № 1 по № 301 зашифрованы артефакты, происходящие из погребально-поминальных комплексов, с № 302 по № 513 - артефакты, происходящие из культурного слоя и случайные находки, т.е. из слоя поселения происходит порядка 211 предметов. При работе с коллекцией автор частично реконструировал и зарисовал фрагменты от 36 сосудов (рис. 1-4)1. К сожалению, это, вероятнее всего, далеко не полный объем материала (М.П. Грязновым насчитано не менее 55 сосудов, происходящих из почвенного слоя [1. С. 132], Т.Н. Троицкой - 82 сосуда [9. С. 41]), однако это самая представительная впервые опубликованная выборка, характеристика которой ввиду большого ее объема дает достаточно полное представление о всем комплексе. Полностью восстановить форму ни одного сосуда не удалось. Судя по отсутствию в составе керамического комплекса фрагментов плоских или приострен-ных днищ, сосуды были круглодонными. О кругло-донности всего комплекса косвенно свидетельствуют и частично реконструированные сосуды, верхняя часть которых имеет форму, характерную для круглодонных сосудов (см. рис. 2, 16; 4, 1, 6). Сосуды сформованы из хорошо отмученного глиняного теста с мелкими примесями отощителя, с тонкими стенками. Причем можно наблюдать более толстые стенки в верхней части сосуда, которые утончаются на протяжении первой трети, переходя в примерно одинаковую толщину тулова и дна. Фрагменты керамики очень плотные, хорошего качества, «звонкие». Судя по венчикам, преобладают сосуды закрытой баночной формы (диаметр венчика меньше наибольшего диаметра тулова) (см. рис. 1, 2, 4, 5; 2, 3, 4, 5, 6,13, 14; 3, 1, 7; 4, 1). Встречаются открытые банки (диаметр тулова не превышает диаметра венчика) (см. рис. 1 , 3; 2, 1, 16; 4, 4, 5, 6). Примерно в таком же количестве, как и открытые банки, встречаются сосуды с чуть заметной профилировкой венчика (см. рис. 1, 1, 7; 2, 2, 7, 11, 12), однако о горшковидных формах можно говорить достаточно условно, скорее, при такой слабой профилировке это переходная к горшковидным форма. Если формы сосудов достаточно стабильные, то формы венчиков значительно разнообразнее. Большинство венчиков прямые, срезаны внутрь сосуда (см. рис. 1, 2, 4, 6, 7; 2, 1, 2, 4, 6, 8-11, 13; 3, 1, 5-7; 4, 1, 2, 4-6). Встречаются округлые (см. рис. 1, 3, 5; 2, 3, 15, 16) и горизонтальные (см. рис. 1, 2; 2, 5, 7, 14). Срезанный наружу встречен в одном случае (см. рис. 2, 12). Сами срезы венчиков плоские (см. рис. 1, 1, 2, 6, 7; 2, 1, 2, 5, 7, 10, 12-14; 3, 1, 5, 6; 4, 2, 4, 6) или округлые (см. рис. 1, 3-5; 2, 3, 4, 6, 8, 9, 15, 16; 3, 7; 4, 1, 5). На венчиках нередко встречаются карнизики с внутренней стороны (см. рис. 1, 7; 2, 1, 2, 10; 3, 5, 6; 4, 4). Кроме венчиков с карнизиками нередки венчики с утолщением с внутренней стороны (см. рис. 1 , 1 , 6; 2, 6, 7, 11; 4,1, 2, 5). Рис. 1. Керамический комплекс поселения Ближние Елбаны VII: 1 - 1623/495; 2 - 1623/381; 3 - 1623/421; 4 - 1623/419; 5 - 1623/343 и 495; 6- 1623/333; 7 - 1623/433 Казаков А.А. К вопросу о культурно-хронологической однородности комплекса Ближние Елбаны VII 177 Рис. 2. Керамический комплекс поселения Ближние Елбаны VII: 1 - 1623/332; 2 - 1623/345; 3 - 1623/407; 4 - 1623/407; 5 - 1623/338; 6 - 1623/424; 7 - 1623/496; 8 - не зашифрован; 9 - 1623/468; 10 - 1623/446; 11 - 1623/468; 12 - 1623/435 и 396; 13 - 1623/362; 14 - 1623/391; 15 - 1623/344; 16 - 1623/494 Характеризуя другие морфологические особенности, стоит отметить, что практически на всех сосудах жемчужины на внутренней поверхности, образовавшиеся при нанесении такого элемента орнамента, как ямки, сглажены полностью (см. рис. 1, 2-5; 2 - 9, 15) либо частично (см. рис. 1, 1, 6, 7; 2, 1, 7, 12; 4, 4, 6). Сосу дов, у которых жемчужины не сглаживались вообще, не встречено. Немного забегая вперед, можно говорить о том, что самые четкие карнизики и слабозаглаженные жемчужины встречаются на сосудах со сложной орнаментальной композицией и наколами с выпуклиной посередине (см. рис. 1, 1, 6, 7; 2, 1, 7,12; 4, 4, 6). Из орнаментальных элементов наиболее часто встречаются наколы различной формы и отпечатки гребенчатого штампа. Отпечаток гладкого штампа встречен в одном случае (см. рис. 4, 4). Все орнаментальные элементы наносились в статичной манере, динамичной техники нанесения орнамента не зафиксировано. Из наколов наиболее часто встречаются ямки и треугольный штамп. Ямки наносились разными орнаментирами. В подавляющем большинстве случаев у ямок дно плоское (см. рис. 1, 4, 5, 7; 2, 1, 7, 9, 12, 15; 4, 6), другие имеют форму кольца с выпуклиной либо прямой полосой посередине (см. рис. 1, 1, 2, 3, 6; 4, 4). Вероятнее всего, одни наносились орнаментиром с плоским рабочим концом, другие - с полым (возможно, трубчатой костью птицы). Треугольный штамп (см. рис. 3, 1-7; 4, 1, 4) также имел разновидности, а именно форму, близкую шеврону, с закругленным углом немного вытянутого треугольника (см. рис. 3, 2, 4, 5, 7). Проблемы археологии / Problems of archaeology 178 Наибольшая вариабельность наблюдается у гребенчатого штампа. Самым распространенным является так называемая гусеничка, когда отпечаток имеет четко выраженную форму рабочего края орнаментира, который при штамповании полностью погружался в глиняное тесто. Зубцы у этого штампа большие, с тонкими и невысокими перегородками между ними. Гусеничка имела, как правило, прямоугольную форму со слегка округлыми углами (см. рис. 2, 1-3, 6, 10, 14; 4 - 1-3, 5) и четко прямоугольные формы (см. рис. 2, 7, 11, 12, 15; 3, 3; 4, 6). Достаточно распространенной формой гребенчатого штампа-гусенички является гребенчатая уточка. На керамике встречены как классические формы ку-лайской уточки с почти параллельными верхним и нижним краями (головой и туловищем) и хорошо выраженным четким одинаковым углом в изломах (см. рис. 4, 1-3, 5), так и эсовидный гребенчатый штамп-гусеничка (см. рис. 4, 1), являющийся разновидностью уточки. В одном случае встречен эсовидный гладкий штамп удлиненных пропорций (см. рис. 4, 4), а также штамп, по форме напоминающий уточку, лежащую на боку, с резкими, острыми углами в изломах с полосками внутри (см. рис. 4, 6). Такой штамп на керамике встречается крайне редко. Кроме гусенички встречен и обычный гребенчатый штамп, при нанесении которого отпечатываются только зубцы, а сама форма рабочего края орнаментира не оставляет отпечатка на орнаментальном поле. В порядке убывания распространенности зафиксированы такие его разновидности, как гребенчатый штамп с прямоугольными зубцами, расположенными длинной стороной перпендикулярно длинной оси орнаментира (см. рис. 2, 4, 13; 3, 1, 6), крупнозубый гребенчатый штамп сильно вытянутоовальной формы (см. рис. 2, 5, 8; 3, 4), крупнозубый гребенчатый штамп с квадратными зубцами (см. рис. 2, 9), частый мелкозубый штамп с тонкими зубцами, расположенными перпендикулярно длинной оси орнаментира вытянутоовальной формы (см. рис. 2, 16). Рис. 3. Керамический комплекс поселения Ближние Елбаны VII: 1 - 1623/442; 2 - 1623/335; 3 - 1623/451; 4 - 1623/445; 5 - 1623/363; 6 - 1623/334; 7 - 1623/347 Рис. 4. Керамический комплекс поселения Ближние Елбаны VII: 1 - 1623/450; 2 - 1623/365; 3 - не зашифрован; 4 - 1623/390; 5 - 1623/425; 6 - 1623/426 Казаков А.А. К вопросу о культурно-хронологической однородности комплекса Ближние Елбаны VII 179 Других элементов орнамента на описываемом керамическом комплексе не встречено.Орнаментальные мотивы, как и орнаментальные элементы, достаточно разнообразны. Наиболее распространенными являются горизонтальный (см. рис. 1, 1-7; 2, 1-7, 9, 11, 13, 14; 3, 1, 4, 7; 4, 1-6), вертикальный (см. рис. 2, 4, 8, 11) и наклонный (см. рис. 2, 15, 16; 3, 6, 7; 4, 2, 3, 5, 6). Наряду с простыми мотивами встречаются и сложные, такие как зигзагообразный (см. рис. 2, 7), елочка (см. рис. 2, 1, 6, 8, 10, 12; 3, 3; 4, 1, 2, 5) и паркетный (см. рис. 3, 1-3, 5-7; 4, 1, 4). Как правило, украшалась только верхняя треть, лишь в одном случае орнаментальное поле занимало примерно половину высоты сосуда (см. рис. 4, 6). Часто орнаментировался и срез венчика. Орнамент по срезу наносился одним из штампов, которыми украшалось тулово сосуда (см. рис. 1, 1; 2, 2, 5, 7, 9-12, 14; 3, 1, 6, 7; 4, 1, 2, 4, 6). У сосудов, орнаментированных только ямками, срез венчика орнаментирован лишь в одном случае (см. рис. 1, 1 ). Орнаментальная композиция достаточно сложна. Для начала отметим, что ямки (кольца) и треугольники (фестоны) на одном сосуде ни разу не совмещались. В некоторых случаях ямки и треугольники могли выступать как самостоятельные элементы декора, образуя один или несколько (до 2 орнаментальных строк) горизонтальных поясков по верхней части сосуда (см. рис. 1, 1-7; 3, 2, 5). Треугольники одной орнаментальной строкой не наносились, как самостоятельный элемент использовались только в паркетном мотиве (см. рис. 3, 2, 5). Часто самостоятельным декоративным элементом, наносимым без совмещения с другими, выступает гребенчатый штамп различных форм (см. рис. 2, 2-6, 8-11, 13, 14, 16). Наиболее распространенным орнаментальным мотивом, наносимым отпечатком гребенчатого штампа, является елочка (см. рис. 2, 1, 6, 8, 10). Кроме елочки отпечатками гребенчатого штампа наносились горизонтальные полосы вертикально поставленного штампа (см. рис. 2, 2-5, 9, 11, 13, 14), горизонтальные полосы косо поставленного штампа (рис. 2, 16), вертикальные елочки (рис. 2, 8). Более сложные композиции состояли из двух элементов орнамента, за исключением композиций, в построении которых использовались уточки. Одним из обязательных элементов сложных орнаментальных композиций являлись ямки или треугольный штамп. Они выступали как разделители орнамента. Еще раз обращу внимание, что даже в сложных орнаментальных композициях эти элементы ни разу не совмещаются на одном сосуде. Причем если разделительная функция ямок не всегда читается явно, они наносились и поверх других орнаментальных элементов (см. рис. 2, 1, 7, 12, 15; 4 - 4, 6), то треугольники всегда достаточно четко вписаны между орнаментальными строками, нанесенными гребенчатым штампом или уточкой (см. рис. 3, 1, 3, 4, 7; 4,1, 4). Как правило, орнаментальные элементы четкие, пропечатаны аккуратно и тщательно, особенно это наблюдение касается сосудов, украшенных орнаментальной композицией с присутствием треугольного штампа и уточки. На сосуды, орнаментированные ямками, гребенчатым штампом или их сочетанием, орнамент мог наноситься и достаточно небрежно, с отклонениями по углу наклона штампа и не совсем пунктуальным соблюдением верхней и нижней границ орнаментальных строк. При орнаментации сосуда использовался только один гребенчатый штамп, два разных гребенчатых штампа не совмещаются, за исключением прямого гребенчатого штампа и гребенчатой уточки. Орнаментальных строк на одном сосуде встречено от 1 до 7. Наряду с достаточно свободным размещением орнаментальных элементов часто встречается и плотное заполнение орнаментального поля очень четкими отпечатками штампа, что характерно в основном для сосудов, в орнаментальной композиции которых присутствует такой элемент орнамента, как уточка (см. рис. 4, 1 -6). Уточка всегда встречается в сочетании с гребенчатой гусеничкой и треугольным штампом или ямками, образуя не менее двух горизонтальных строк между отпечатками гребенки (см. рис. 4, 1, 2, 3, 5, 6). Только в одном случае встречена разновидность уточки, нанесенной эсовидным гладким штампом (см. рис. 4, 4). На этом фрагменте керамики хочется остановиться особо, так как он по многим своим параметрам немного не вписывается в анализируемый керамический комплекс и может быть несколько раз назван как уникальный. Во-первых, орнаментальные элементы на нем слишком мелкие и очень плотно нанесены, чего не скажешь о других фрагментах. Во-вторых, только на нем встречен такой орнаментальный элемент, как гладкая уточка, вернее, ее разновидность в виде эсо-видного штампа. В-третьих, несмотря на то, что при описании комплекса несколько раз акцентировалось внимание на отсутствии совмещения ямок и треугольного штампа, на этом фрагменте они все же совместились. Подобное совмещение можно считать столь редким исключением, что его можно просто-напросто игнорировать, так как оно при массовом материале является единичным. Причем обращает внимание, что ямки, совмещенные с треугольником, наносились трубчатой костью, т.е. представляют из себя ямку с выпуклиной посередине. Столь подробное описание публикуемого керамического комплекса необходимо для его более обоснованной культурно-хронологической интерпретации. Даже на первый взгляд видно, что мы имеем дело с ранее неизвестным на территории лесостепного Алтая керамическим комплексом, а точнее комплексом, фрагментарная публикация которого не позволяла составить о нем целостного представления, благодаря чему его трактовали как относящийся к фоминскому этапу кулайской культуры, считая однородным с керамическим комплексом могильника, о чем уже говорилось ранее. Подобное толкование обусловливало и большое сходство некоторых сосудов из погребений с находками керамики из почвенного слоя могильника: Это сосуд из м. 6 [11. С. 172] и сосуд из слоя, изображенный на рис. 2, 7, сосуд из м. 33 [Там же. С. 182] и сосуд из слоя, изображенный на рис. 3, 1, сосуд из м. 98 [Там же. С. 199] и сосуды из слоя, изображенные на рис. 4, 2, 3, 5. Это только примеры почти прямых Проблемы археологии / Problems of archaeology 180 аналогий. Сходство же керамических комплексов из погребально-поминальных объектов и почвенного слоя несомненно. Но имеются и существенные различия, не позволяющие объединить их в единый культурнохронологический комплекс. В настоящее время в связи со значительным пополнением корпуса источников следует признать, что отнесение керамического комплекса с поселения БЕ-VII к фоминскому этапу кулайской культуры следует пересмотреть. Об этом свидетельствуют достаточно представительные комплексы фоминской керамики, полученные с исследованных в последние годы памятников, представленных в основном поселениями и тремя погребениями могильника Татарские могилки. К поселенческим комплексам, давшим материалы, позволяющие составить достаточно полное представление об их керамических комплексах, относятся Усть-Чумыш 1 [17], Чудацкая гора фом. [18], Малоугре-нево 1 [19], Енисейское [Там же], Бийское городище 2 [20, 21], Бийское городище 4 [20, 21], Бийское городище 6 [20, 21], Троицк-1 [22], Фоминское [23], Малый Иткуль 1 [16], Кислянский Рыбак-1 [24]. К сожалению, до настоящего времени не опубликованы достаточно показательные и представительные коллекции с ряда фоминских поселений, происходящие из однослойных памятников, на которые можно было бы сослаться, но их материалы после публикации только повысят убедительность представленных построений. Среди новых погребально-поминальных комплексов, содержащих в своем составе керамические сосуды, можно назвать могильник Татарские могилки [11]. Большое количество памятников, содержащих достаточно однородные керамические комплексы, позволяет охарактеризовать керамику фоминского этапа кулай-ской культуры в целом. Это тонкостенные, сформованные из тонкоотмученного глиняного теста с мелкими фракциями отощите-ля, круглодонные сосуды преимущественно баночной формы (как открытые, так и закрытые) с прямыми венчиками [16. Рис. 2, 1-7, 9, 10; рис. 3, 1, 2, 4, 5, 9-10; 19. Рис. 1, 1-3, 6-8, 11-13, 15, 16; рис. 3, 1, 3-5; 20. Рис. 3, 1, 5, 7, 8, 13, 17, 18, 21; рис. 4, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 18; 23. Рис. 1, 2-10; 24. Рис. 2]. Встречаются и переходные к горшкам формы со слабопрофилированными венчиками [19. Рис. 1, 5, 8-10, 14, 17; рис. 3, 2, 6; 16. Рис. 3, 3, 7, 11, 12; 24. Рис. 2]. Срезы венчиков в основном горизонтальные [19. Рис. 1, 1-3, 11, 14; рис. 3, 1-3, 6; 20. Рис. 3, 5, 7, 13, 18; рис. 4, 9, 15; 23. Рис. 1, 5-8, 10, 12: рис. 2, 1, 4, 7; 24. Рис. 2] или округлые [16. Рис. 2, 2, 3, 6, 9, 10; 19. Рис. 1, 6, 9, 10, 12-15, 17; рис. 3, 4, 5; 20. Рис. 3, 1, 8,17, 25; рис. 4, 8, 14, 18; 23. Рис. 1, 2, 3, 9], встречаются как срезанные внутрь сосуда [9, рис. 4, 17; 16. Рис. 2 - 1, 2, 5, 9; 19. Рис. 1, 7, 16; рис. 3, 1; 24. Рис. 2], так и наружу [19. Рис. 1, 5]. Иногда мы можем наблюдать утолщения с внутренней стороны венчика [19. Рис. 1, 3, 6, 17; рис. 3, 2, 4, 6; 20. Рис. 3, 17; рис. 4, 8, 9,15,17; 23. Рис. 1, 7,10]. Карнизиков не встречено. Жемчужины на внутренней поверхности, образовавшиеся при нанесении ямок, сглажены либо полностью [16. Рис. 2, 2-4, 6, 9; 19. Рис. 1, 1, 10, 11, 13; 20. Рис. 3, 1, 7, 18; рис. 4, 8, 9; 23. Рис. 1, 4, 7; 24. Рис. 2], либо частично [16. Рис. 2, 5; 19. Рис. 1, 2, 6-8, 15, 16; рис. 3, 3, 6; 20. Рис. 3, 8, 21, 25; 23. Рис. 1, 3, 9; 24. Рис. 2]. Сосуды, у которых жемчужины не сглаживались, отсутствуют. Все орнаментальные элементы наносились только в статичной манере. Из орнаментальных элементов наиболее часто встречаются ямки с плоским дном, наносимые орнаментиром с плоским рабочим краем. Кольчатые ямки встречены только на одном сосуде [24. Рис. 2]. Отпечатков треугольного штампа не встречено вообще. Вторым по распространенности элементом является гребенчатый штамп, с незначительной вариабельностью. В основном это обычный гребенчатый штамп, при нанесении которого отпечатываются только зубцы. Встречены такие его разновидности, как крупнозубый гребенчатый штамп [16. Рис. 2, 6; 19. Рис. 1, 1, 5, 17; 23. Рис. 1, 3; 24. Рис. 2], частый мелкозубый штамп с тонкими зубцами, расположенными параллельно длинной оси орнаментира [19. Рис. 1, 7; 20. Рис. 3, 1] и частый мелкозубый штамп с зубцами, расположенными перпендикулярно длинной оси орнаментира [20. Рис. 3, 7]. Гусеничка, как правило, прямоугольной формы со слегка скругленными углами [19. Рис. 1, 7, 8, 16; рис. 3, 6; 23. Рис. 1, 4, 6, 7, 10; 24. Рис. 2] или сильно вытянутоовальной формы [19. Рис. 1, 15]. Встречена и дугообразная гребенчатая гусеничка [19. Рис. 1, 3, 6,14; рис. 3, 2, 3]. Достаточно распространенной формой гребенчатого штампа-гусенички является гребенчатая уточка. Причем классические формы кулайской уточки с почти параллельными верхним и нижним краями (головой и туловищем) и хорошо выраженным четким одинаковым углом в изломах отсутствуют, их заменяет эсовидный гребенчатый штамп-гусеничка [16. Рис. 2, 2; 19. Рис. 1, 9-11,13; рис. 3, 1, 5; 20. Рис. 3, 13,17; рис. 4, 15, 17; 23. Рис. 1, 8; 24. Рис. 2], являющийся разновидностью уточки. Достаточно распространенным является и гладкий эсовидный штамп [16. Рис. 2, 5, 6; 19. Рис. 1, 2, 4; рис. 3, 4; 20. Рис. 3, 24, 25; рис. 4, 8, 9, 11, 12,14,18; 23. Рис. 1, 2, 9;]. Еще одной разновидностью гладкого штампа является полулунный [19. Рис. 1, 12; рис. 3, 6]. Из других элементов орнамента на описываемом керамическом комплексе встречены аморфные штампы непонятной формы, вероятнее всего, имитирующие уточку, так называемые змейки [22. Рис. 1, 9; рис. 2, 13; 23. Рис. 1, 5], и в одном случае - двучленная имитация уточки [16. Рис. 2, 1] и гладкий штамп [25. Рис. 2, 4]. Наиболее распространенными являются такие мотивы, как горизонтальный, который присутствует практически на всех сосудах, наклонный [16. Рис. 2, 4, 6; 19. Рис. 1, 5, 7, 8, 15, 16, 17; рис. 3, 6; 23. Рис. 1, 6, 10; 24. Рис. 2] и ленточный [16. Рис. 2, 6; 19. Рис. 1, 13]. Наряду с простыми мотивами встречаются и сложные, такие как зигзагообразный [19. Рис. 1, 1; 23. Рис. 1, 7; 24. Рис. 2] и елочка [16. Рис. 2, 4; 19. Рис. 1, 7, 16; 20. Рис. 3, 1, 7; 23. Рис. 1, 4; 24. Рис. 2]. Вертикальный и паркетный мотивы отсутствуют полностью. Украшалась только верхняя часть, орнаментальные элементы не опускались ниже трети высоты сосуда. Изредка орнаментировался срез венчика Казаков А.А. К вопросу о культурно-хронологической однородности комплекса Ближние Елбаны VII 181 [16. С. 107; 19. Рис. 1, 8, 17; рис. 3, 6; 20. Рис. 4, 8; 23. Рис. 1, 3, 4, 6, 7]. Орнаментальные композиции состоят, как правило, не более чем из двух элементов орнамента. Одним из обязательных элементов таких двусоставных орнаментальных композиций являются ямки. Они выступают как разделители орнамента. Разделительная функция ямок не всегда явная. Очень часто ямки наносились поверх других элементов орнамента, что иногда ставит их функцию как разделителей под сомнение. Орнаментальные элементы четкие, но пропечатаны не очень аккуратно и тщательно, имеют разные углы наклона и не всегда составляют четкую горизонтальную линию, немного отклоняясь от горизонтали в разные стороны. Интервалы между элементами также не всегда одинаковые. Только в одном случае встречена орнаментальная композиция, совмещающая, вместе с ямками, три орнаментальных элемента [19. Рис. 3, 6]. Орнаментальных строк на одном сосуде встречено от 1 до 7. Орнаментальные элементы размещены достаточно свободно. Плотное заполнение орнаментального поля очень четкими отпечатками штампа не встречено. Уточка, как гладкая, так и гребенчатая, выступает как самостоятельный элемент орнамента [16. Рис. 2,2, 5, 7; рис. 3, 2-4, 7, 12; 19. Рис. 1, 2, 4, 9, 10, 11, 13; рис. 3, 1, 4, 5; 20. Рис. 3, 13, 17, 24, 25; рис. 4, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18; 23. Рис. 1, 2, 8, 9;], не сочетаясь ни с какими другими орнаментальными элементами, кроме ямок, которые выполняют, скорее, не декоративную, а разделительную функцию, являясь чуть ли не обязательным элементом любой орнаментальной композиции. Особо отметим, что керамический комплекс поселения Троицк-1 [22] абсолютно ничем не отличается от описанной выше поселенческой керамики фоминского этапа кулайской культуры. Проведенный анализ позволяет нам выделить основные признаки керамического комплекса фоминского этапа кулайской культуры, который является достаточно стандартным во всем регионе распространения памятников этой культурно-хронологической группы: 1. Сосуды изготовлены из хорошо отмученного глиняного теста с мелкими примесями отощителя, тонкостенные. 2. Все сосуды круглодонные. По форме преобладают банки. Достаточно часто встречаются слабопрофилированные, с намечающейся шейкой, переходные к горшковидным формы. 3. Стабильные пропорции. Высота сосуда приблизительно равна его диаметру. 4. Полное отсутствие карнизиков на венчиках. Встречаются утолщения верхней части венчика изнутри. 5. Все жемчужины с внутренней стороны сосуда, образовавшиеся при нанесении ямок, заглажены либо полностью, либо частично. 6. Полное отсутствие орнаментальных элементов, нанесенных в динамичной манере. 7. Отсутствие различных разновидностей «фигурных» ямок (в форме кольца или с перегородкой посередине). 8. Ограниченное количество орнаментальных элементов, используемых в орнаментальной композиции. Это только ямки, различные разновидности гребенчатого штампа, эсовидный штамп (гладкий или гребенча
Грязнов М.П. История древних племен Верхней Оби по раскопкам близ с. Большая Речка. М.-Л., 1956. 256 с. (МИА; № 48).
Грязнов М.П. Работы Алтайской экспедиции // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института истории материальной культуры. М.-Л. : АН СССР, 1947. Вып. 21. С. 77-78.
Грязнов М.П. Раскопки Алтайской экспедиции на Ближних Елбанах // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института истории материальной культуры. М.-Л. : АН СССР, 1949. Вып. 26. С. 110-119.
Грязнов М.П. Из далекого прошлого Алтайского края. Барнаул, 1950. 19 с.
Грязнов М.П. Археологическое исследование территории одного древнего поселка // Краткие сообщения института исследования матери альной культуры. М. : АН СССР, 1951. Вып. 40. С. 105-113.
Грязнов М.П. Некоторые итоги трехлетних археологических работ на Верхней Оби // Краткие сообщения о докладах и полевых исследова ниях института истории материальной культуры. М.-Л. : АН СССР. 1952. Вып. 48. С. 93-102.
Чернецов В.Н., Мошинская В.И. Городище Большой Лог // Краткие сообщения о докладах и полевых исследованиях института истории материальной культуры. М.-Л. : АН СССР, 1951. Вып. 37. С. 78-87.
Чернецов В.Н. Усть-Полуйское время в Приобье // Чернецов В.Н., Мошинская В.И., Талицкая И.А. Древняя история Нижнего Приобья. М. : АН СССР, 1953. С. 221-241. (МИА; № 35).
Троицкая Т.Н. Кулайская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск : Наука, 1979. 126 с.
Чиндина Л.А. Древняя история Среднего Приобья в эпоху железа. Томск : Изд-во Том. ун-та. 1984. 256 с.
Ширин Ю.В. Верхнее Приобье и предгорья Кузнецкого Алатау в начале 1 тыс. н.э. (погребальные памятники фоминской культуры). Новокузнецк : Кузнецкая крепость, 2003. 288 с.
Казаков А.А. Одинцовская культура Барнаульско-Бийского Приобья. Барнаул : Барнаул. юрид. ин-т МВД России, 2014. 152 с.
Григоров Е.В., Казаков А.А. Барнаульско-Бийское Приобье в 1-12 вв. (по данным погребального обряда). Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2018. 230 с.
Тишкин А.А., Горбунов В.В. Погребения кулайской культуры на памятнике Кармацкий в Барнаульском Приобье // Игорь Геннадьевич Глушков : сб. науч. ст. Ханты-Мансийск : Печатный мир г. Ханты-Мансийск, 2012. Ч. 3. С. 102-109.
Глушков И.Г. Вещи глазами М.П. Грязнова // Игорь Геннадьевич Глушков : сб. избр. ст. Сургут : РИО СурГПУ, 2011. Ч. 2. С. 82-93.
Абдулганеев М.Т. Фоминский комплекс поселения Малый Иткуль-1 // Проблемы изучения древней и средневековой истории. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2001. С. 103-110.
Шамшин А.Б., Казаков А.А. Аварийные археологические раскопки в Тальменском районе // Проблемы сохранения, использования и изучения памятников археологии. Горно-Алтайск, 1992. С. 61-62.
Ширин Ю.В. О ранних кулайских памятниках Верхнего Приобья // Российская археология. 2004. № 2. С. 51-61.
Казаков А.А. К археологической карте Бийского района и верховьев р. Оби // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2016. Вып. 22. С. 109-116.
Казаков А.А., Кунгуров А.Л. Комплекс городищ около Бийска // Культура народов евразийских степей в древности. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1993. С. 219-231.
Казаков А.А., Абдулганеев М.Т. Лесостепной Алтай // Этнокультурная история Западной Сибири. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1994. Т. 1: Поселения и жилища. С. 331-333.
Бородаев В.Б., Горбунов В.В. Троицк-1 - новое поселение кулайской культуры на левобережье Барнаульского Приобья // Охрана и изучение культурного наследия Алтая. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1993. Ч. 2. С. 183-189.
Казаков А.А. Материалы 1 тысячелетия со сборов у с. Фоминского // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2016. Вып. 22. С. 116-121.
Сайберт В.О. Результаты археологической разведки в Тальменском районе Алтайского края в 2016 г. // Сохранение и изучение культурного наследия Алтайского края : сб. науч. ст. / отв. ред. А.А. Тишкин, В.П. Семибратов. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2017. Вып. XXIII. С. 44-48.
Абдулганеев М.Т., Казаков А.А. Поселение Чудацкая Гора // Палеодемография и миграционные процессы в Западной Сибири в древности и средневековье. Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 1994. С. 111-115.
Арсеньева Т.М. Погребальный обряд // Античные государства Северного Причерноморья. М. : Наука, 1984. С. 222-224. (Археология СССР).
Алексеева Е.М. Бусы и подвески // Античные государства Северного Причерноморья. М. : Наука, 1984. С. 237-239. (Археология СССР).
Вадецкая Э.Б. Таштыкская эпоха в древней истории Сибири. СПб. : Петербургское Востоковедение, 1999. 440 с.
Генинг В.Ф. Этническая история Западного Приуралья на рубеже нашей эры (пьяноборская эпоха 3 в. до н.э. 2 в. н.э.) М. : Наука, 1988. 240 с.
Голубева Л.А. Зооморфные украшения финно-угров. М. : Наука, 1979. 112 с.
Чиндина Л.А. История Среднего Приобья в эпоху раннего Средневековья (рёлкинская культура). Томск : Изд-во Том. ун-та, 1991. 184 с.
Бородовский А.П. Погребальное пространство в контексте политкультурности (по материалам Быстровского некрополя эпохи раннего железа на Верхней Оби) // Древние некрополи - погребально-поминальная обрядность, погребальная архитектура и планировка некрополей. СПб. : ИИМК РАН, Гос. Эрмитаж, 2018. С. 123-134. (Труды ИИМК РАН; Т. 47).
Мошинская В.Н. Материальная культура и хозяйство Усть-Полуя // Древняя история Нижнего Приобья М. : АН СССР, 1953. С. 72-106. (МИА; № 35).
Федорова Н.В. Антропоморфные изображения Усть-Полуя // Труды Камской археолого-этнографической экспедиции. 2009. Вып. 6. С. 171-176.
Гусев Ан.В. Из глубины веков: святилище Усть-Полуй и жители субарктики // Холодок. 2016. № 1 (14). С. 59-65.
Троицкая Т.Н., Новиков А.В. Верхнеобская культура в Новосибирском Приобье. Новосибирск : Изд-во Ин-та археологии и этнографии СО РАН, 1998. 152 с.
Могильников В.А. Культуры лесного Зауралья 7 13 вв. Потчевашская культура // Финно-угры и балты в эпоху средневековья. М. : Наука, 1987. С. 183-193. (Археология СССР).
Боталов С.Г., Гуцалов С.Ю. Гунно-сарматы Урало-Казахстанских степей. Челябинск : Рифей, 2000. 267 с.
Матвеева Н.П. Западная Сибирь в эпоху Великого переселения народов : (проблемы культурогенеза по данным погребальных памятников). Тюмень : Изд-во Тюмен. гос. ун-та, 2016. 264 с.
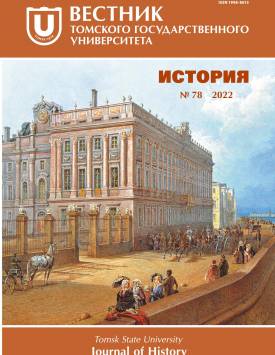

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью