Рассматривается археологическое наследие как часть многолинейного культурного процесса. Многогранность общественных смыслов, которыми наделяются памятники археологии, обозначается как «публичный дискурс» и рассматривается на примере известных общественно-культурных ситуаций (кейсов). Проводится обзор концепций общего понятия «наследие», выработанных в области Heritage Studies, анализируются универсальные и специфические черты археологических памятников, влияющие на их социальную значимость, и указываются основные формы их общественной интерпретации. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Public discourse of archaelogical heritage and its interpretations.pdf Введение Археология как наука о прошлом всегда имеет неоднозначную связь с настоящим. Неудивительно, что прошлое, выраженное материальными археологическими памятниками, часто имеет свою актуальность в настоящем и используется разными сообществами в зависимости от запросов современности. Чаще всего это происходит в рамках политически ангажированных и псевдонаучных интерпретаций прошлого. Из-за этого ученые вынуждены постоянно говорить о социальной роли археологической науки и проблемах ее объективности в отношениях с властью и обществом. Археологическое наследие часто фигурирует в блоке таких понятий, как нация, народ, государство, история, территория, национальная идея или идентичность. Из-за этого феномен археологического наследия и способы его интерпретации традиционно принято рассматривать в ключе национально-политического дискурса. В условиях, где наследие прошлого становится действующей системой настоящих культурных ценностей, оно является одним из каналов взаимодействия власти и общественных групп. В такой трактовке политические интерпретации прошлого подаются «сверху вниз»: от авторитетных политиков и экспертов в исторической оценке (ученых, музейных хранителей, культурных элит) к основной группе потребителей, идентифицирующих себя по определенному признаку (национально-гражданскому, этническому, территориальному и т.д.). Однако, несмотря на очевидный политический потенциал археологических памятников, образующиеся вокруг них паттерны смыслов и интерпретаций не всегда обусловлены политическими мотивами. К примеру, известный томичам бренд кулайской археологической культуры мы можем оценить лишь как лейбл местных предпринимателей и культурных элит, не относящийся к политической повестке. Также известный памятник Аркаим, несмотря на попытки различных националистов включить его в свои «истории», трудно назвать определенно «чьим-то» национально-политическим проектом, так как вокруг этого памятника мирно сосуществует множество группировок с различными идеями и ценностями: потомки «славяно-ариев», шаманисты, эзотерики и т.д. Эти и подобные примеры говорят о том, что создание археологического наследия определяется более широким набором факторов и разнообразными группами участников, принадлежность которых не ограничена рамками «нации», «этноса» или «территории». Данный тезис предполагает, что археологическое наследие представляет собой не собираемую версию прошлого, ориентированную на современные ценности, а непрекращающуюся общественную деятельность, в которую включено множество рядовых участников. В соответствии с этим убеждением предпочтительно рассматривать интерпретацию археологического прошлого в публичном (общественном) дискурсе, т.е. с позиции взаимодействия рядовых участников социума, каналов их коммуникации, языка и способов обсуждений, индивидуальных и групповых ценностей, а также социальных факторов, порождающих те или иные археологические образы. Общественный дискурс в теории допускает, что в сообществах, где человеческие и общегражданские ценности превалируют над национально-политическими или же вовсе исключают их, формируемое материальное наследие может принимать специфические образы, отличные от «официально формируемых». Это исходит из убеждения, что социальные образы прошлого образуются прежде всего социальной агент-ностью людей, а не административно-политическим фактором. Данная статья является попыткой представить наблюдаемые нами образы археологического прошлого как следствие социальной активности, неким контекстом интерактивных социальных связей, в котором отражаются индивидуальные и групповые ценности. Любая агентность по отношению к наследию может проявляться в действии, создании, бездействии, восприятии и т.д., но при этом она всегда оставляет последствия. Эти последствия, равно как и механизмы создания определенных археологических образов, необходимо изучать на примере конкретных ситуаций (кейсов). С другой стороны, следует выработать подход к определению общего понятия «наследие» и выявить, какую специфику в него вносят материальные свойства археологического памятника. Наследие: чем является на самом деле? Любые археологические образы - памятники, монументы, реликвии, древнюю символику - как объекты социального восприятия мы должны изучать в тесной связке с понятием «наследие». Что вообще подразумевается под наследием? Появление исследовательского интереса к наследию принято связывать с именем Д. Лоуэнталя, признанного основателя Heritage Studies и автора известной работы «Прошлое - чужая страна». В этой книге автор обозначает наследие как то, что «упрощает и проясняет прошлое, привнося в него современные цели и намерения» [1. C. 7]. Данная книга задала тон дальнейшим работам 1980-1990-х гг., которые рассматривали наследие как важный общественнополитический инструментарий. К примеру, у М. Чейза и К. Шоу наследие отождествляется с модой на национальное прошлое [2. Р. 17]. Р. Хьюисон считал наследие правопопулистским проектом и убеждал научное сообщество в существовании государственной индустрии наследия [3. Р 18]. Сам же Лоуэнталь расценивал наследие как избирательный политический продукт, который общество должно воспринимать именно в этом ключе [1. C. 336-338]. Эти работы сложили исследовательскую традицию, в которой наследие Проблемы археологии / Problems of archaeology 190 расценивалось как результат политической эксплуатации прошлого в виде маркера востребованной национально-гражданской идентичности. Менее категорично политически ориентированную функцию наследия описывал Р. Сэмюэль, полагая, что интерес к наследию связан с демократизацией осмысления прошлого и что оно создается людьми, а не правящими элитами [4. Р. 15-24]. Другой теоретик наследия, П. Райт, занимал промежуточную позицию: он опирался на концепцию «повседневного исторического сознания» и считал, что подъем интереса к наследию - это не столько продукт правящей идеологии, сколько естественная реакция общества на трансформацию современности [5. Р. 6-8]. Однако в 19801990-х гг. наследие в целом расценивалось именно как политический ресурс и получало из-за этого критическую оценку, тогда как в последующие десятилетия происходило переосмысление и преодоление «западного канона наследия». В 2000-х гг. в Heritage Studies происходит зарождение новых теорий, которые превратили наследие из материального, общепризнанного и единого в нематериальное, релятивное и индивидуальное. Л. Смит наиболее детально показала новую позицию наследия, в которой оно представляло собой уже не определенные вещи или конкретные места, а ценности и смыслы, конструируемые вокруг них [6]. Такой подход не делил общество на производителей и потребителей образов прошлого, а, наоборот, присваивал различным сообществам валидность в порождении собственных образов прошлого. С такой точки зрения наследие является частным случаем коммуникации и не имеет ничего общего с так называемым авторизованным дискурсом наследия (из терминологии Л. Смит), который создается уполномоченными экспертами и претендует на обсуждение в рамках официальной политической повестки. По своей социальной форме наследие является множеством вариантов «прочтений» прошлого различными группами, но никак не единым культурным наследием [6. Р. 80-82]. Как следствие, наследие представляет собой многолинейный и непрекращающийся культурный процесс образования, обработки и интерпретации культурных смыслов, не являющихся задуманным политическим творением. В современных работах наследие больше и больше охватывает сферу обыденности и повседневной жизни, некоторые исследователи привлекают внимание к неформальным практикам и объектам наследия, значимым для разных социальных групп. Большее значение приобретает роль индивидуальных практик, личных переживаний при взаимодействии с наследием. Кроме того, расширено понятие временных границ наследия: исследователи работают с объектами, относящимися не только к далекому, но и к недавнему прошлому. Наконец, наследие стало пониматься как «социальное действие», что, по сути, отменило монополию права экспертов (археологов, архитекторов, чиновников) в определении и признании объектов наследия и дало это право различным социальным группам [7. Р. 22-25]. Такой подход сделал проблемы, связанные с интерпретацией прошлого, антропологическими, и сейчас он указывает на некоторые преимущества герменевтического подхода в их изучении. Не говоря уже о широко применяемой этнографии в этом направлении (использовании интервью и включенного наблюдения), мы можем также осветить спектр новейших методических внедрений. Это дискурс- и контент-анализ, семиотический анализ музейных экспозиций, исследование эмоций и аффектов в обращении с прошлым, мультиакторное исследование ролевых отношений в исторической интерпретации [8. Р. 5-7]. Несмотря на вариативность вышеописанных концепций, все они едины в устойчивом мнении: наследие - это не столько артефакт прошлого, сколько свидетельство о настоящем, в котором для человека одинаково важны как прошлое, так и ощущение его преемственности. Археологическое наследие: универсальные и особые черты Данный раздел является смысловым продолжением предыдущего, где делается попытка отыскать необходимую концепцию уже археологического наследия. Определив, что наследие можно рассматривать как часть политической (национальной) идеи, а также в роли индивидуальных культурных смыслов, мы сейчас должны очертить те его границы, которые накладывают на него физические свойства археологического памятника. Здесь более уместен вопрос о соотношении частных и универсальных черт, которые определяют культурную привлекательность археологических памятников. Культурная привлекательность археологического памятника неоспорима. В любой древней вещи, которая наследуется и сохраняется, научно подтвержденная архаичность сама по себе является показателем этой привлекательности. Любой читатель этих строк, сверившись со своим жизненным опытом, согласится с тем, что древняя вещь всегда вызывает чувство восхищения, удивления, ажиотажа или же сомнения в доподлинной «древности» наблюдаемого объекта. Привлекательность древней вещи можно оценить и с другой стороны. Древняя вещь осязаема и визуально воспринимаема, она является прямым реликтом прошедших времен, из-за чего способна порождать особый чувственно-образный опыт. По утверждению Н.А. Муштея, контакт с древней вещью вызывает пространственновременную вненаходимость, которая «переносит» человека в прошлое, как в архаичное, так и в относительно недавнее, пережитое лично им [9. C. 23]. Подобный эффект Ж. Деррида называл «отсроченным присутствием» и определял его как характерное свойство вещи в подобных практиках [10. C. 178]. Также стоит учитывать эстетическую привлекательность памятника прошлого, которая строится на многообразии вещных форм, дошедших до современности из прошлого, и на уникальности отдельных объектов, созданных руками человека. Здесь речь идет не только об оригинальной творческой ценности, но и о внешних параметрах памятника. Множество памятников археологии привлекают нас выразительностью, помпезностью, масштабностью (если речь идет о древ- Чернышов А.В. Публичный дискурс археологического наследия и формы его интерпретаций 191 них городах, храмах, монументах), технологической сложностью их изготовления. По замечанию В.М. Андреева, на этом фоне мы можем уже отметить специфику некоторых археологических памятников, которая заключается в сочетании художественного и материально-бытового производства [11. C. 495]. Большинство артефактов прошлого создавалось для хозяйственного предназначения и лишь в рамках закрепленных традиций производства, тем не менее у обывателя могут вызывать восхищение искусно выполненные, хоть и стереотипные вещи (отшлифованные каменные орудия, нарезные рукояти, керамические изделия). По этому параметру археологический памятник наглядно выделяется среди остальных видов наследия. Далее стоит указать на свойства археологического памятника, которые стимулируют особые формы его социальной интерпретации. Среди таковых кроме наглядности и очевидной древности можно обозначить фрагментарность и полисемантичность археологического материала, условность выделяемых археологических единиц, переплетение различных культурных признаков в рамках одной археологической культуры, множество культурных напластований в рамках одного памятника. Если ученому-археологу эти свойства создают высокие барьеры для идентификации его находок, то не-эксперт может увидеть благодаря им самые причудливые мозаики прошлого в зависимости от своих духовных поисков. Эти свойства археологического материала определяют множественность вариантов его профанных прочтений. Многозначность археологических источников вкупе с их презентабельностью упрощает их использование в качестве национальных символов, объектов поклонения или социально наследуемых атрибутов. А.Д. Михайлов также обращает внимание на точную пространственную локализацию археологического памятника, которая упрощает его ру-тинизацию в качестве места социальной памяти, делая его объектом территориальной гордости [12. C. 123]. В специфику археологического источника С.С. Соко-виков включает не только его физические свойства, но и сам процесс его получения. По его замечанию, реар-хеологизацию памятников можно рассматривать как что ни на есть культурный смысл, социально значимое обстоятельство «возвращения» людям их прошлого, спрятанного под землей [13. C. 40]. Как мы видим, уникальная особенность археологического наследия, не имеющего за собой конкретного и точно установленного создателя, заключается в широкой контексту-альности его прочтений и множестве «наследников». Это и определяет различные формы индивидуального и коллективного обращения с археологическим прошлым. Далее будут рассмотрены основные формы его использования на примере известных общественнокультурных кейсов. Формы и образы археологического наследия Памятник археологии визуально воспринимаем и осязаем, он является непосредственным денотатом архаичного прошлого, и, соответственно, его статус как исторического источника более авторитетный в сравнении с остальными. Указанные свойства подогревают его значимость и делают его объектом самых разных общественных манипуляций. Археологические памятники имеют мобилизующий потенциал для националистов, прославляющих собственное прошлое, религиозных почитателей, чиновников, озабоченных туристическим имиджем своего края. В годы социальных потрясений и национальных поисков археологические памятники закономерно трансформируются в места исторической памяти, служат инструментом общественного сплочения. Автор не оспаривает актуальности и проблем, к которым обычно приводят эти тенденции (культивация национализма, намеренная фальсификация исторического прошлого). Однако стоит также отметить, что под масштабностью сплачивающих смыслов, построенных вокруг археологических памятников, скрываются и частные смыслы, апеллирующие к разнообразным культурным ценностям. Эти смыслы закрепляются во множестве индивидуальных практик запоминания, воспоминания, забвения, отрицания, обсуждения, а также практик эмоционального восприятия прошлого, в которых воспроизводится та или иная ценность. Одной из первых это подчеркивает Л. Смит в книге «Способы использование наследия», применяя в отношении памятников наследия понятие «дискурс» и конституируя свойство наследия меняться не только под институциональным давлением, но и ввиду частных культурных практик. По ее основному определению, наследие - это не стабильные объекты с имманентно присущей им ценностью, а, напротив, культурный процесс, включающий в себя целый ряд практик (социальных, экономических, туристических и т.д.) создания смысла и идентичности и регулируемый различными дискурсами, которые «одновременно отражают эти практики и конструируют их». [6. Р. 13]. Из этого следует, что помимо авторизованного дискурса наследия существует множество других практик обсуждения и интерпретации археологических образов. Некоторые научные работы позволяют взглянуть на альтернативные образы прошлого через призму исследования социальных и политических процессов. В качестве вводного тезиса мы должны подчеркнуть важность общественно-политического контекста, в котором наиболее заметен «взрыв» прошлого. Во многом именно официальный политический дискурс порождает альтернативные образы прошлого, претендующие также на официальное обсуждение и признание. История и современность изобилуют множеством примеров дискурсивной борьбы между различными группами и их интерпретациями прошлого. Прошумевший на весь мир инцидент с «укокской принцессой» является одним из показательных случаев такой борьбы. Выкопанная новосибирскими археологами мумия не просто стала топосом культурной памяти алтайцев, но и породила разнообразную палитру этнически-ассоциативных и культурных брендов, распространенных среди алтайцев и русского населения Республики Алтай. В настоящее время в архитектурном облике Горно-Алтайска продвигается «пазырыкский стиль» [14], укокский мотив активно используется в творчестве местных писателей и художников, а фольклорная биография Проблемы археологии / Problems of archaeology 192 «укокской принцессы» продолжает пополняться новыми фактами и мифологическими интерпретациями [15]. С учетом меняющихся политических условий меняется и характер дискурсивной борьбы. Здесь важным предстает факт репатриации мумии из Новосибирска в Г орно-Алтайск, который можно расценивать как знак уважения учеными прав коренных алтайцев на собственное этническое прошлое. Авторы коллективной статьи «Международное значение репатриации “укокской принцессы”» обращают внимание на важную роль номинации археологического прошлого, производимой официальными структурами (в том числе институтами науки). Именно официальное согласие министерства культуры РФ и Академии наук на возвращение укокской мумии на ее историческую родину смягчило конфликтность алтайской культурной памяти, хотя этот факт до сих не удовлетворяет традиционные эт-нородовые сообщества Алтая, требующие захоронения мумии [16. С. 37-38]. Одна из традиционных форм изучения публичного дискурса наследия была в свое время заложена социологической школой и часто заимствовалась археологами для изучения отношения общества к их работе и, собственно, к археологическому прошлому [17, 18]. В качестве примера можно привести социологическое исследование Е.В. Водясова, направленное на изучение отношения жителей Томска к мировому и местному наследию археологии [19]. Результаты социологического опроса показали, что респонденты подчеркивают значимость археологической науки, однако подавляющее большинство не могло назвать ни одной археологической достопримечательности мира и Томской области. Подобные результаты, по замечанию автора, прослеживаются и в более ранних социологических исследованиях по другим регионам и государствам [Там же. C. 69-71]. Повторяемость и распространенность подобного отношения к археологии можно объяснить отсутствием качественных каналов коммуникации археологов с широкой общественностью. Тем не менее на этот вывод стоит смотреть не как на проблему, а как на состоявшийся социальный факт: действительно, люди, которые ничего не знают об археологических памятниках, но говорят о значимости наследия, во многом повторяют то, что им говорили родители, учителя, политики с телевизионных каналов. Но это не значит, что большинство граждан не интересуются прошлым самостоятельно. Возможно, для некоторых людей прошлое выражено не археологическими памятниками, а другими формами наследия. Возможно, памятники местной археологии не так помпезны и наглядны, как пирамиды Хеопса или Колизей, чтобы их «знать» или «интересоваться ими». А возможно, люди даже не представляют, что на их малой родине что-то ищут и выкапывают? Стоит отметить, что Томске все же существует запрос на определенные исторические символы: например, с 1990-х гг. среди томичей относительно известны темы «Томского Лукоморья» и «славяно-арийской цивилизации» в Сибири [20. С. 486-489]. Во многом подобные образы сопровождаются яркими мифологемами, которые делают их более образными и привлекательными. Привязывая эти факты к вышеописанным доводам, стоит отметить, что социологический вектор исследований должен подкрепляться более широким спектром методов (биографическими интервью, включенным наблюдением). Это необходимо прежде всего с целью выявления индивидуальных дефиниций «наследия» и связанных с ними ценностей. При подобных доводах стоит также осознавать широту и вариативность масштабов воздействия материального прошлого на общество. Об этом говорит, в частности, С.С. Соковиков, указывая на многоаспектность интерпретации археологического прошлого [13]. Упомянутый пример Аркаима свидетельствует, что археологический памятник может обладать множеством означаемых и способен превращаться в наследие на разных уровнях восприятия и идентичности (индивидуальный, групповой, общественный), и сам контекст общественнополитических нужд играет в социальной интерпретации порой несущественную роль. Ситуация Аркаима в этом плане очень показательна. В наше время Аркаим не только фигурирует в различных псевдонаучных историографиях, но и является специфической Меккой для апологетов эзотерики, астрологии, магии, уфологии и неоязычества различных направлений. Многоконтекстуаль-ность археологического памятника, на взгляд С.С. Со-ковикова, не просто порождает множество альтернатив памяти, но и служит особым культурным регулятором «коммеморативного произвола» [Там же. C. 39]. Многогранность наследия и многоуровневость его воздействия определяют также его образную пластичность и подвижность. Интересный момент заключается в том, что данные свойства наследия, привязанного к одному памятнику прошлого, лучше всего проявляются в увеличении или уменьшении фокуса социального восприятия. Так, например, знаменитые прусские форты, построенные в Кенигсберге в XIX в., сейчас являются одним из центров локального примирения различных образов прошлого на ретроспективно оспариваемой территории - Восточной Пруссии в виде современной Калининградской области. Несмотря на то, что эти форты имеют важную символическую роль в национальной тематике «защиты» и «победы» (для русских) или же «поражения» (для немцев), на практике их использование показывает разные социальные функции, исключающие порой национальную окраску. В один форт вмещен Музей Великой Отечественной войны, во второй - Музей янтаря, а третий обустроен под площадку для пейнтбола [21. C. 36-37]. Данный кейс говорит о том, что необходимо учитывать модус и масштабы интерпретации памятника, ведь если в рамках государственной или национальной идеологии памятник имеет однозначную интерпретацию, то на уровне локальных практик частные образы прошлого могут быть бесконфликтными и конфигурировать на одних памятных местах. Важный вопрос касается также соотношения официальных и неформальных образов наследия. Говоря об общественном образе наследия, мы уже делали вывод, что его закрепление в социальном опыте лучше всего проходит через официальные номинации (законы, политические акты и указания, заключения институтов науки и управления наследием). Однако, по настоянию Чернышов А.В. Публичный дискурс археологического наследия и формы его интерпретаций 193 К. Баррера, нельзя определять наследие, уникальность и ценность которого заверена документально, как официальное и политически мотивированное. Во многом сформированный образ наследия определяется не только официозными институтами, но и неформальными практиками [22. C. 8]. Часто материальное наследие выступает как источник вдохновения для неформального творчества. Неформальное наследие не требует официального признания, оно более органично встроено в социокультурную жизнь группы или общества, поскольку определяется также законами спроса и предложения. Наследие есть то, что что лучше всего отвечает потребностям общества, как коллективным, так и индивидуальным. Данный феномен хорошо проявляется в образах наследия, получивших товарно-рыночную оценку и функционирующих как потребительский бренд. Здесь в качестве примера можно упомянуть характерный для Томска кейс - кулайскую археологическую культуру, образы которой активно транслируются в ювелирном производстве и творческих проектах [23]. Заключение Описанные подходы к пониманию публичного дискурса наследия (в частности, археологического) показывают, что в социальном пространстве наследие не ограничено рамками официальных научных и политических утверждений. Наследие не замкнуто само в себе как готовый социальный продукт, оно является динамичным непрекращающимся процессом. Из-за этого памятники наследия показывают разнообразие культурных смыслов, которые котируются обществом. С другой стороны, наследие прошлого не воспроизводит само себя, а образуется как результат социальной агентности людей и определенных социальных практик. Любые формы агентности людей (создание, восприятие и даже бездействие) оказывают влияние на формирование общественных образов наследия. Археологические образы, как и другие формы наследия, необходимо изучать с учетом всего спектра методов, практикуемых в области Heritage studies, таких как интервью, включенное наблюдение, дискурсанализ. При всем этом необходимо учитывать материальную специфику археологического памятника, его полисемантичность и тривиальную наглядность, поскольку именно они придают археологическому материалу особую стимулируемость при построении объ-ект-ориентированных связей между «наследием» и его «наследниками».
Лоуэнталь Д. Прошлое - чужая страна. СПб. : Владимир Даль, Русский остров, 2004. 622 с.
Chase M., Shaw C. The Imagined Past: History and Nostalgia. Manchester : Manchester University Press, 1989. 174 p.
Hewison R. The heritage industry: Britain in a climate of decline. London : Methuen, 1987. 160 p.
Samuel R. Theatres of Memory: Past and Present in Contemporary Culture. London : Verso, 1994. 449 p.
Wright P. On Living in an Old Country. London : Verso, 1985. 194 p.
Smith L. Uses of Heritage. Abingdon : Routledge, Taylor & Francis Group, 2006. 386 p.
Lumley R. The Debate on Heritage Reviewed // Heritage, Museums and Galleries: an Introductory Reader / ed. G. Corsane. Aldershot : Ashgate, 2008. P. 15-26.
Carman J., Stig S0rensen M.L.Introduction: making the means transparent: reasons and reflections // Heritage studies. Methods and approaches /j. Carman, M.L. Stig S0rensen (eds.). London : Routledge, 2009. P. 3-10.
Муштей Н.А. Старинная вещь: анализ постижения сущности в непосредственном восприятии // Известия Саратовского университета. Сер. Философия. Психология. Педагогика. 2012. Т. 12, вып. 1. С. 22-24.
Деррида Ж. Голос и феномен / перевод с фр.: С.Г. Кашина, Н.В. Суслов. СПб. : Алетейя, 1999. 208 c.
Андреев В.М. Археологический памятник как эстетический объект // Мир науки, культуры, образ. 2013. № 6 (43). С. 495-496
Михайлов Д.А. Археологические места социальной памяти // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 394. С. 121-126.
Соковиков С.С. Проблемы исторической памяти и актуальные социокультурные контексты археологического памятника (окончание) // Вестник Челябинской государственной академии культуры и искусств. 2014. № 2 (38). С. 39-44.
Тадина Н.А., Ябыштаев Т.С. Пазырыкский стиль символьной атрибутики Республики Алтай в контексте картины мира алтайцев // Вестник Томского государственного университета. История. 2013. № 3 (23). С. 165-168.
Доронин Д.Ю. Что опять не так с «алтайской принцессой»? Новые факты из ньюслорной биографии Ак Кадын // Сибирские исторические исследования. 2016. № 1. С. 74-104.
Плетц Г., Соенов В.И., Константинов Н.А., Робинсон Э. Международное значение репатриации «Укокской принцессы» (готова ли российская археология к диалогу с коренными народами) // Древности Сибири и Центральной Азии / отв. ред. В.И. Соенов. Горно-Алтайск : ГАГУ, 2014. № 7. С. 17-45.
Pokotylo D. Public Opinion and Canadian Archaeological Heritage: a National Perspective // Canadian J. of Archaeology. 2002. Vol. 26. P. 88-129.
Holtorf С. Monumental Past: the Life-histories of Megalithic Monuments in Mecklenburg Vorpommern (Germany) // Papers from the Institute of Archaeology. Vol. 13. DOI: 10.5334/pia.171. URL: http://hdl.handle.net/1807/245 (accessed: 02.05.2022).
Водясов Е.В. Археологическое наследие в современном общественном сознании жителей Томска // Сибирские исторические исследования. 2015. № 2. С. 66-73.
Шнирельман В.А. Арийский миф в современном мире. М. : Новое литературное обозрение, 2015. Т. 1. 536 с.
Фелькер А.В. Исследования наследия и политики памяти - в поисках общих подходов // Политическая наука. 2018. № 3. С. 28-42.
Barrere Ch. Cultural heritages: From official to informal // City, Culture and Society. 2015. Vol. 7. P. 7-10.
Зайцева О.В. Как звучит кулайский джаз? (реинтерпретация археологического наследия политическими и творческими элитами Томской области) // Миссия антропологии и этнологии: научные традиции и современные вызовы : XII Конгресс антропологов и этнологов России, Ижевск, 3-6 июля 2017. М. ; Ижевск, 2017. С. 449-450.
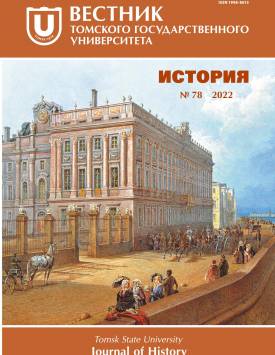

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью