Роль кочевников в становлении боевого искусства у северокавказских народов
На основе малоизвестных и впервые вводимых в научный оборот архивных и документальных материалов рассматривается специфика становления боевого искусства у этносов Северного Кавказа. Особое внимание уделяется этногенезу горских народов, анализу внешних и внутренних факторов развития у них военного ремесла. Отмечается, что истоки боевой доблести надо искать в изначальном военизированном воспитании скифов, сарматов, алан, запечатленном в их обычаях и традициях. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
The role of nomads in the formation of martial arts in the North Caucasian peoples.pdf Радикальные перемены в жизни нашего общества влекут за собой большие изменения в мировоззрении людей, их культуре. Происходит ломка представлений в различных областях общественной жизни, в ценностных установках людей. Но специфика сегодняшнего дня заключается в том, что процесс усвоения новых установок отстает от процесса разрушения старых. Все это приводит к утрате многих духовных ценностей, которые занимали прочное место в сознании людей в недавнем прошлом и сопровождали развитие и становление северокавказского менталитета. Вот почему знание прошлого становится необходимым условием формирования демократического сознания современных людей, возрождения прогрессивных традиций и обычаев народов России и Кавказа. В связи с этим нужно знать и изучать историческое наследие прошлого, которое во многом поможет нам искоренить существующие недостатки нашей общественной системы. Известно, что судьбы народов находятся в непосредственной взаимосвязи со средой их обитания, которая не является стабильной. Особенно она подвергалась изменениям в исторические эпохи непрерывного передела территорий, за которые велась ожесточенная борьба. В эти неспокойные времена этносы вынуждены были адаптироваться и подчиняться тем правилам, в которых они оказались под воздействием внешних условий. В данном ракурсе все насельники Северного Кавказа подвергались тяжелым военным испытаниям не одно столетие, так как в первую очередь становились объектом нападений многих завоевателей (Батый, Тимур и др.). Постоянная необходимость в защите своей земли побуждала горцев подчинить свой жизненный уклад целиком и полностью военному ремеслу, что не могло не сказаться на менталитете народов, их материальной и духовной культуре. Горец не мыслился без войны и военных набегов. На этот факт обращали внимание все без исключения бытописатели древнего Северного Кавказа: Геродот, Аристотель, Марцелин, Прокопий, Рубрук, Иордан, Баг-ратиони и др. Удивлялись воинственности, мужественности, смелости и стойкости горцев российские исследователи XVII-XIX вв. А. Берже, С. Гмелин, В. Миллер, Л. Модзалевский, П. Паллас, П. Услар и др. Говорили о их рыцарских добродетелях и российские военные, волею случая оказавшиеся на Кавказе: П. Бутков, В. Тизенгаузен, Л. Лавров, В. Бартольд, А. Гольдштейн, Л. Штедер и др. Даже «враги» горцев Н. Дубровин, П. Надеждин, Ф. Леонтович, описывая их погрязшими «в насилиях, войнах», в то же время отдавали должное их мужеству и воинственной храбрости, которые, по их мнению, «коренятся в феномене рыцарского духа кавказских народов». Различные стороны военного бытования северокавказских горцев затрагивались в работах Б.Х. Бгажнокова, З.С. Бузоевой, А.М. Гутова, З.С. Джелиевой, А.Х. Магометова, С.Х. Мафедзева, А.И. Мусукаева, А.Ю. Слановой, Е.Е. Хатаева и др. Но несмотря на перечисленные научные изыскания, проблема, затронутая в данной статье, до сих пор не подвергнута анализу в научных кругах, что и подвигло автора к ее осмыслению. Между тем актуальность обозначенной темы видится нам еще и в следующем: - Объективное освещение исторических процессов и духовного наследия народов Северного Кавказа в условиях реконструкции российского общества превращается в важнейшую задачу исследователей культуры, источник наших исторических знаний. Современные оценки исторического наследия прошлых эпох помогут преодолеть прежде сложившиеся стереотипы в отношении духовных ценностей исторического прошлого горцев, ведь только с позиций нашего времени возможно выявить проблемы, волнующие северокавказские этносы в наши дни. Такой подход достаточен для определения основных направлений в развитии исторической мысли нетитульных народов России, но горцы имеют свои национально-территориальные образования. - В условиях, когда на Северном Кавказе (как и в феодальную эпоху, рассматриваемую в данной работе) все еще имеет место межнациональное недопонимание, проблема, поднятая нами, значительно актуализируется, так как обращение к историческому прошлому северокавказских народов, к их лучшим народным традициям, может предоставить современным политикам интересный и богатый материал, побуждающий к продуманному и взвешенному рассмотрению злободневных вопросов. Чтобы лучше понять сущность средневекового кавказского боевого искусства, наблюдаемого на протяжении весьма длительного времени в бытовых и культурных отношениях северокавказских народов, следует заглянуть вглубь этногенеза этих народов, разобраться в том, как оно формировалось, что послужило его основой и питательной средой в средневековую эпоху. В основе становления средневекового боевого искусства горского общества лежали не только внутренние факторы общеисторического процесса, но и внешние условия, в том числе геополитические. Северный Кавказ был и остается воротами непрерывной миграции с севера на юг и с юга на север. Специфичность рельефа и местоположение края оказали заметное воздействие на становление этнического состава: с одной стороны, замкнутый склад горных долин наложил отпечаток изоляционности на аборигенное население и обособление его в самостоятельные, территориально мало сплоченные между собой общины и родовые коллективы, а с другой стороны, Кавказ принимал всех кочевников, изгнанников, мигрантов, что способствовало его этническому разнообращию. Роль Кавказского хребта как рубежа между Европой и Азией, на наш взгляд, хорошо выразил русский исследователь академик П.К. Услар: «Всех без разбору Кавказ принимал к себе, но, раз приняв, не упускал более никого: Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 28 не заботясь о прошлом пришельца, будущее его однажды и навсегда выковывал в неизменную форму... Бесстрастным, безмолвным, бездейственным порубежным стражем стоял Кавказ между двумя морями-океанами.» [1. C. 23]. Вот почему Северный Кавказ был и остается живой лабораторией для изучения культуры человечества, одной из сторон которой было боевое мастерство. История северокавказского военного искусства началась с пришествием в край кочевых скифских племен (VI в. до н.э.), выходцев из Средней Азии. Здесь они основали свое скифское царство (государство). Скифы прекрасно владели двумя основными искусствами: обработкой металлов и наездничеством. Об этом свидетельствуют огромные курганы скифских вождей. Скифский быт и общественный строй были пропитаны привычкой к войне и военным делом, что было обусловлено уровнем их социального развития. Скифы находились на такой ступени военной демократии, когда война была основным средством производства. По своей организационной структуре скифское войско более всего напоминало ополчение. У них не было специально обученной армии. Вооруженные силы по мере надобности собирались царем, который кроме солдат своего племени руководил общим воинством подчиненных племен. Боевой порядок скифов был следующим: в самой середине войскового объединения во главе конницы стоял сам главный военачальник - царь, по левому и правому флангам располагались остальные отряды. При таком расположении войск донесения военачальнику и его приказы подчиненным доходили быстрее. Истории известен случай, когда благодаря своей тактике и военному искусству скифская дружина во главе с царем Иданфирсом (конец VI в. до н.э.) разбила персидское шестисоттысячное войско царя Дария, который хотел завоевать весь мир. Не зря Геродот в V в. до н.э. отмечал: «Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но зато важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том, что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; никто не может их настичь, если только они сами не допустят этого» [2. C. 98]. Истоки такой боевой доблести необходимо искать в изначальном военизированном воспитании скифов, запечатленном в их обычаях и традициях. Некоторые благодаря древним историкам (Геродот, Аристотель, Филарх) и путешественникам (Флавий, Анобий и др.), дошли до наших дней. Все они восхищались воинской мощью скифской армии. Так, по сообщению Плиния, «конница у скифов была самая лучшая и имела в бою первостепенное значение». «Лошади у скифов были хотя и невелики, - рассказывал Страбон, - но очень горячи и неукротимы». «В составе скифского войска центральное место отводилось конным лучникам, а лишь потом - пешим копейщикам», - отмечал Геродот» [3. C. 13]. В самом скифском царстве бытовала пословица: «Наш светлый день идет из колчана». Древнегреческий историк Филарх (III в. до н.э.), поясняет ее сущность так: «Все скифы перед отходом ко сну берут колчан и, если провели данный день успешно, - берут белый камень, если нет - черный. По кончине каждого лица выносили колчаны на могилу воина, и если белых камней оказывалось больше, то покойника прославляли как доблестного воина своего народа». Эти обычаи воспитывали доблесть воина, наполняли его содержанием выполненного воинского долга. Такой же пример приводит Аристотель в своей «Политике»: «.у скифов во время одного из праздников не позволялось пить круговую чашу тому, кто еще не убил ни одного воина». По свидетельству Анобия, «царю приносились скальпы всех врагов, погибших в бою, так как только под таким требованием доставления скальпа недруга на всеобщее обозрение скифу отводилась часть захваченной добычи. В противном случае скифы ничего не получали» [4. C. 181]. Благодаря такой непомерной воинственности Скифия в IV в. до н.э. вышла на гребень своего единства и могущества: этот период связан с многолетней деятельностью скифского царя Атея, боровшегося с Филиппом Македонским, отцом Александра Македонского. Однако уже в III в. до н.э. скифская мощь начинает ослабевать, и этим воспользовались родственные ираноязычные племена - сарматы, родиной которых были степные районы Прикаспия и Приуралья. Они органично влились в скифское общество, преобразовав его, и вскоре Скифия получила название Сарматии. Сарматы продолжили боевое дело скифов, значительно усовершенствовав военное мастерство. Вскоре сарматы стали объединять родственные по происхождению группы, среди которых основное ядро составляли аланы, что дает основание отнести их к особой социокультурной общности. Данный исторический факт подтверждает анализ греческих и латинских источников, которые, говоря о сарматах, особо выделяли алан, отмечая их воинственность, жестокость, чрезвычайную действенность их тяжелой кавалерии. В частности, конные войска, «катафракты», называемые также «контариями», в эпоху поздней Античности и раннего Средневековья играли огромную роль в военной истории Византии, Рима и Азии. Аланы (осетины) стали преемниками скифов в языке, культуре, военном искусстве. Они вступили на историческую арену в I в. н.э. как суверенная сила, влиявшая на протяжении нескольких столетий на военную ситуацию не только в крае, но и на соседних с ним территориях от Западной Европы и Африки на западе до Китая на востоке. Аланские племена обосновались почти на всей Предкавказской равнине, оттеснив аборигенных кав-казоязычных насельников края в гористую местность. По наблюдениям путешественника П. Кесарийского, «.все земли, которые простираются от Кавказа до Каспия, занимали аланы» [5. C. 181]. В действительности же аланские земли простирались намного дальше: Аланское государство было расположено не только в горах и предгорьях Центрального Кавказа, но также и в степных районах - на востоке оно граничило с Хазарским каганатом, а на севере - с Половецкой степью. Описывая аланские объединения как воинственный и кочевой народ, историк А. Марцеллин повествует Блейх Н.О. Роль кочевников в становлении боевого искусства у северокавказских народов 29 следующее: «...у них нет никаких шалашей, нет заботы о хлебопашестве, питаются они мясом и в изобилии молоком, живут в кибитках с изогнутыми покрышками из древесной коры и перевозят их по беспредельным степям. Наибольшую заботу прилагают к уходу за лошадьми. Все, что по возрасту и полу непригодно для войны, держится около кибиток и занимается мирными делами, а молодежь, с раннего детства сроднившись с верховой ездой, считает позорным ходить пешком; все они вследствие разнообразных упражнений являются дельными воинами. Им доставляют удовольствия опасности и войны. У них считается счастливым тот, кто испускает дух в сражении, а стариков или умерших от случайных болезней они преследуют жестокими насмешками как выродков и трусов; они ничем не хвастают так, как убиением какого-нибудь человека, и в виде славных трофеев навешивают вместо украшения на своих боевых коней кожи, содранные с отрезанных голов убитых. У них не видно ни храмов, ни святилищ; они по варварскому обычаю втыкают в землю обнаженный меч и с благоговением поклоняются ему как Марсу - покровителю стран, по которым они кочуют. Они не имеют никакого понятия о рабстве, будучи все одинаково благородного происхождения. В судьи и старейшины выбирают лиц, долгое время отличавшихся военными подвигами» [6]. В 35-36 гг. аланы принимают активное участие в иберо-парфянской войне как союзники иберов, что производит неизгладимый эффект на современников событий. Но самым опустошительным было повторное вторжение алан в Закавказье в 72 г. Сильнейшему разорению подверглись Армения и северная Мидия. Властителем Армении в это время являлся Тиридат I. Собрав огромное войско, он сразился с аланами, но потерпел поражение от них и едва не попал в плен, а «... аланы, еще более разгоряченные вследствие битвы, разорили страну и воротились домой с огромным количеством пленных и иной добычи от обоих царств» [7. C. 11-12]. Этот факт явился одним из наиболее крупных событий на заре становления военной истории алан. В римских источниках указывается, что в восточноримской и западноримской армиях аланские военачальники занимали достаточно высокие посты, играя большую роль и в политической жизни Рима и Византии. Как считает профессор В. Кузнецов, «.военные знания алан были весьма значительны и становились предметом заимствования римской армией» [8. C. 23]. Действительно, служба алан в Римской и Византийской армиях положительно влияла на развитие кавалерии. Самые лучшие кавалерийские качества римской конницы были привнесены аланами и другими кочевниками и вскоре стали предметом гордости. Высшим мерилом наезднических способностей римского императора стало сравнение его с аланами и гуннами. После гуннского вторжения (V-VII вв.) у алан наиболее интенсивно происходит формирование своей народности. Однако по сравнению с античным временем племена находятся уже в несколько другом историко-географическом и культурно-хозяйственном положении. Если в воспоминаниях путешественников до V в. аланские союзы предстают кочевыми, то в озна ченное время они уже становятся оседлыми, что связано с ассимиляцией их кавказским этнокультурным сообществом. Этот процесс привел в итоге к появлению новой нации - осетин. В VI в. северокавказские аланы были втянуты в длительные ирано-византийские войны, в которых они принимали участие то на стороне Ирана, то на стороне Византии. Ирано-византийские войны не прошли бесследно для военного дела алан. Накопление знаний в военном ремесле в дальнейшем сыграло значительную роль в борьбе с арабской экспансией. Одновременно с участием алан в ирано-византийских войнах им приходилось отражать нападения тюркских племен на собственной территории. В IX в. у алан-осетин появляется свое государство, просуществовавшее до монгольского вторжения. Расцвет Алании приходится на Х-XII вв. Столицей становится город Магас. Арабский географ Х в. Ал Масуди отмечал: «Аланское царство являет собой нескончаемый ряд поселений, столь близких, что если кричат петухи, то им откликаются другие во всем царстве, благодаря смежности и, так сказать, переплетению хуторов» [9. C. 55]. Неизвестный автор XI в. дает такую характеристику Алании: «.страна, полная всяческих благ, есть в ней много золота и великолепных одежд, благородных коней и стального оружия, закаленного кровью пресмыкающихся, кольчуг и благородных камней» [10. C. 76]. Данные сообщения явно характеризуют культуру феодально-аристократической верхушки и военно-дружинной прослойки. Относительно богатые погребения, принадлежащие конным воинам-дружинникам, открыты в районе станиц Фельдмаршальской и Мартанчу (Чечено-Ингушетия), в селениях Чми, Балта, Кобан (Северная Осетия), Песчанка (Кабардино-Балкария), Мокрая балка и Эшкакон у г. Кисловодска. Большинство воинов захоронены с однолезвийными палашами или саблями, поясными наборами, стрелами. Судя по предметам вооружения и конского снаряжения, аланская конница была хорошо экипирована и отвечала последним требованиям своего времени. Общение и сотрудничество с хазарами, напряженная борьба с арабами способствовали подъему военного дела и быстрому распространению у алан новейших образцов вооружения, таких как изогнутая стальная сабля, седло жесткой конструкции с луком, стремена [11]. Экономическое процветание Алании усилило внимание к ней со стороны сопредельных стран, в первую очередь Византии. Под ее влиянием в конце IX - первой половине X в. происходит ряд войн между Аланией и Хазарией. Влияние Византии усиливается в X в., после принятия в Алании христианства. Из Алании набираются отряды в состав византийской армии, где аланы проявляют себя отличными воинами (битвы при Манцикерте, Никодимии, Филипполе и др.). Алания становится союзником и Грузии (в походе на Гандзу). Военная сила Алании X-XII столетий многократно отмечалась свидетелями событий (Ал-Масуди, К. Цхов-реба и др.). Античные авторы описывают воинскую доблесть осетин, характеризуют их как суровых, диких, пылких, храбрых и вечно воинственных, при этом Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 30 подчеркивают их боевую силу, которая в отличие от других народностей не связывается напрямую с воинственностью, а скорее, с высоким военным профессионализмом, который учитывали знаменитые полководцы древности. К XIII в. Великая Алания начала дробиться на мелкие княжества. По выражению монаха Юлиана, в стране «происходила постоянная война князя с князем, местечка с местечком. Во время пахоты все люди одного местечка отправляются вооруженными на поле, вместе косят на смежных участках и вообще, выходя за пределы своего местечка для рубки дров или какой-либо другой работы, всегда идут вместе и вооруженными...» [12. C. 38]. Этой феодальной раздробленностью, подорвавшей военную структуру Алании, воспользовались дальние соседи алан-осетин. На Курултае 1235 г. чингисиды постановили начать завоевательный поход на далекий Запад, дабы «обрушить триумфальный меч на головы предводителей русских и ясских за то, что они посмели состязаться в боевом искусстве и оказали им сопротивление» (свидетельство персидского историка Вас-сафа (Шихаб ад-Дин Абдаллах ибн Фазлаллах Шира-зи) [13. Д. 257. Л. 2-3]. Перейдя Ширванское ущелье, татаро-монголы вступили на территорию Северного Кавказа. Они перебили и ограбили много лезгин и прибыли к аланам, многочисленному народу. Вот так описывает военные действия алан арабский историк Ибн-ал-Асир: «Они (аланы) употребили все свое старание, собрали у себя кипчаков и сразились с ними (татарами). Ни одна из... сторон не одержала верха над другою. Тогда татары послали к кипчакам сказать: “Мы и вы одного рода, а эти аланы не из ваших, так что вам нечего помогать им; вера ваша не похожа на их веру; и мы обещаем вам, что не нападем на вас, а принесем вам денег и одежд, сколько хотите; оставьте нас с ними”. Уладилось дело между ними на деньгах. и кипчаки оставили их (алан). Тогда татары напали на алан, произвели между ними избиение, бесчинствовали, грабили.» [14. C. 25]. Но справедливости ради надо заметить, что монголы всегда уважали мужество своих соперников. Высшее командование по заслугам отметило боевую доблесть алан-осетин и стратегическую мудрость их военачальников. Они с большой выгодой для себя заключили с некоторыми аланскими вождями военный союз, в результате которого аланская кавалерия стала принимать участие в военных операциях монгольских ханов. Однако основная часть аланских воинов все же продолжила сопротивление. Гильом Рубрук, предпринявший путешествие в Карокорум (столицу монголов) в 12531255 гг. и неоднократно там встречавшийся с ясами (аланами), рассказал, что они «все еще борются против татар». Поэтому монголы вынуждены были содержать на их земле свои гарнизоны. «Аланы на этих горах все еще не покорены, - писал Рубрук. - Так что из каждого десятка людей Сартаха (сын и преемник хана Бату) двоим надлежало караулить ущелье, чтобы аланы не выходили из гор для похищения их стад на равнине.» [15. C. 169]. Преемник Берке хан Менгу-Тимур (1266- 1280) решил покончить с сопротивлением алан, которые все еще сохраняли свою независимость. Он собрал войска и направил их в Аланию. «Славный ясский город Дедяков был взят штурмом 8 февраля 1278 г. О вторжении Тимура в Дигорию была создана и одна из проникновеннейших песен-плачей - “Задалесская нана” (“Задалесская мать”), поведавшая о героизме и почти полной гибели жителей Дигории. В ней поется: .Над дигорской степью льет кровавый дождь, Дождь кровавый льет над Дигорией. Почернела зелень дигорских полей От Тимура-Аксака железномордых волков. Дигорскую плоскость окружили они Крепче, тверже, плотней, чем железным плетнем.» [16. C. 74]. Однако в дигорских преданиях выражена уверенность, что страна возродится, соберется с силами, «у Ди-гории ее счастье еще не пропало, и она одолеет войско Ахсак-Тимура». Монгольское иго серьезно подорвало экономическое и военное могущество Алании. Значительно уменьшились этническая территория и население, были уничтожены или разрушены многие культурные памятники. Несмотря на ожесточенное сопротивление, аланы (осетины) были вытеснены с плодородной равнины в горы. Государство Алания фактически перестало существовать, однако оставшиеся в живых его жители долгое время продолжали противоборство и часто предпринимали дерзкие набеги на посты неприятеля. На Северном склоне возникло четыре осетинских объединения: Алагирское, Дигорское, Куртатинское, Тагаурское. Лишь после включения Осетии в Российскую империю (1774) народ смог вернуться на прежнее место обитания - равнину Предкавказья. Грузинский историк Вахушти Багратиони (16951758) так охарактеризовал сложившуюся политическую и этническую ситуацию в центральной области Северокавказского края: «Во время же походов Чингизовых хаканов, особенно же Батыя и Орхана, разорялись и опустошались города и строения их (речь идет об аланах, по-грузински - овсов), и царство овсов превратилось в мтаврство - княжество, и овсы стали убегать внутрь Кавказа, а большая часть страны их превратилась в пустыню... и с тех пор Овсетия стала называться Черкесией или Кабардой» [17. C. 153]. В 1395 г. край снова подвергся опустошительному погрому со стороны войска азиатского эмира Тимура (Тамерлана; 1336-1405). Одним из важнейших последствий данного разорения стали дальнейшее ослабление Золотой Орды, незадолго до этого уже потерпевшей серьезный разгром от русичей на Куликовом поле, и выделение из нее нескольких племенных объединений. Во вновь образованную Ногайскую орду совместно с монгольскими племенами вошла часть половецких (кипчакских) союзов, кочевавших до этого на обширной территории, простирающейся от Иртыша до владений Северного Кавказа. Превосходство в составе ногайцев тюркского компонента обусловило культурно-языковую ассимиляцию монголов, которые со временем совершенно растворились в тюркском обществе. Об этом факте неизвестный автор писал так: Блейх Н.О. Роль кочевников в становлении боевого искусства у северокавказских народов 31 «...они (монголы) смешались и породнились с ними (кипчаками), и земля одержала верх над природными и расовыми качествами их, и все они стали, точно кипчаки, как будто они одного (с ними) рода, оттого что монголы поселились в земле кипчаков, вступили в брак с ними и остались жить в земле их» [18. C. 181]. XVT-XVTII столетия принесли новые испытания горцам Северного Кавказа. В это время край становится конструктом непрекращающейся экспансии султанской Турции и Крымского ханства. От вторжений последнего чаще всего страдали черкесские и кабардинские общества, занимавшие равнинные земли и вынужденные покупать свободу и суверенность тяжелой данью, откупаясь нередко «живым товаром» - своими дочерьми, сестрами, женами. Естественно, что турецко-иранская агрессия приводила к крайне напряженному положению в крае. В поисках поддержки в борьбе с крымцами адыгские владетели в середине XVI в. обратили свои взоры на Московское государство, границы которого к той поре придвинулись к Северному Предкавказью. В продолжение 1554-1557 гг. российское подданство приняли большинство адыгов, балкарцев, карачаевцев, абазин. Одновременно с северокавказскими аборигенами в состав Российской империи в 1574 г. вошли и ногайские племена. Ко второй половине XVIII в. пределы Русского государства еще более расширились и приблизились вплотную к границам Северного Кавказа. Встал вопрос: под чью юрисдикцию пойдет край, чьи знамена изберут горцы. Кавказская проблема становится одной из ключевых в международной политике, так как помимо России, Турции и Персии на северокавказский регион стали претендовать Англия и Франция. Горцы поднялись на борьбу с иноземными захватчиками, надеясь на помощь России. Война становилась неизбежной. В сентябре 1768 г. под нажимом Франции Блистательная Порта объявила войну России. Боевые действия начались в 1769 г. одновременно на Балканах, в Подо-лии, в Приазовье и на Кавказе. Параллельно с этим османы, прикрываясь религиозными лозунгами войны с неверными, пытались привлечь на свою сторону кавказские племена и подготовить из них силу против русских, для чего султан апеллировал ко всем мусульманам края с призывом быть послушными, покорными и всячески оказывать помощь войскам Крыма и Турции. По его указу на Северный Кавказ были отправлены агитаторы и эмиссары. «От турков, - сообщает современник, - разосланы еще недавно чиновные люди к Куба-хану, который Дербентом владеет и лезгинцев (горцев Дагестана) уговорит, чтоб и они вооружались против России в пользу Порты» [19. Д. 34. Л. 4]. Однако, несмотря на ведущуюся пропаганду, османам не удалось посеять среди большинства горцев антирусские настроения. Основной причиной краха султанской политики стало нежелание насельников края поддержать ее. В одном из документов того времени говорилось: «Черный люд о подданстве Крыму и слышать не желал» [20. Д. 58. Л. 3-8]. Напротив, горские народы изъявили желание встать под российский флаг, чему есть множественные подтверждения. Так, в ар хивных документах зафиксировано: «.все старшины и народ чеченский, надеясь на высочайшую Е.И.В. милость, решили состоять в прежней своей верности и данную присягу навсегда сохранять будут без нарушения. ежели настоящий владелец Росланбек Айдеми-ров на какие-либо продерзости поступит, то и его за владельца не считать и с ним сообщаться не будут» [21. Д. 48. Л. 1]. Кабардинские князья в большинстве своем сохраняли верность Империи. Только некоторые из них -Мирхо Бамат, Гайто Кайтуко, Джамбулат Бейтуганов и др. - были настроены протурецки. «Зато простые люди, - доносил толмач-переводчик, - ясно говорят, что ежели Кабарда покорится крымскому хану, они все против этого передадутся под протекторат России» [22. Д. 12. Л. 6]. На протяжении всей русско-турецкой войны (1768-1774) объединения с империей добивались и осетины. Многочисленные народности Северного Кавказа не только словами, но и делами всячески старались доказать свою преданность Российской империи. Они оказывали посильную помощь русским войскам. О военных подвигах горцев ходили легенды. Например, при содействии ногайцев русские войска овладели крепостью Копыл; совместно с Кубанским казачьим корпусом проявляли чудеса храбрости на поле брани чеченские отряды; ингушское ополчение в составе грузинской армии активно участвовало в боевых действиях в Закавказье; осетины, вставши под российские знамена, заслужили хвалебные референции о ратных подвигах. Известный генерал И. Тутолмин так характеризовал последних: «.благодарю Господа за то, что тому полезно было сблизить меня с осетинами и под османскими пулями представить случай уважать их благородные и храбрые сердца» [23. Д. 117. Л. 13]. Русский военачальник был не одинок в своих суждениях. О воинской доблести осетин и других горцев говорили генералы М. Скобелев, П. Паренсов, полковник А. Берс и др. Художник М.С. Туганов отмечал, что горцы показывали чудеса храбрости не только в русско-турецкой войне 1877-1878 гг., но и в японской и Первой мировой войнах. «Секрет храбрости горцев на войне состоит в том, что к этому их с детства готовила история их жизни», - делает вывод автор [24. C. 38]. Будучи разгромленной в 1774 г., Порта вынуждена была ратифицировать мирный договор, по которому Крым признавался «вольным и суверенным от любой власти». К Российской державе отходили земли Азова, крепостей Керчь и Ени-Кале, а также зона между Бугом и Днепром. Таким образом, народы Северного Кавказа получили возможность для самоопределения. И буквально в течение нескольких десятилетий все горцы выразили желание присоединиться к России. Вскоре Северный Кавказ официально был включен в состав Российского государства, что сыграло весьма положительную роль в духовном и материальном развитии его народов. Добровольное вхождение Северного Кавказа в Россию принесло народам освобождение. Оно навсегда оградило их от грабительских нападений извне и положило конец посягательствам Турции и Ирана, что Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 32 позволило горцам перейти к мирной трудовой жизни. На этот факт указывал профессор С.А. Белокуров, когда писал, что «...на пути к нынешней цивилизации горцы Северного Кавказа испытали немало драматизма. Эти времена были героическими» [25. C. 223]. При этом мы не согласны с мнением публициста И.Д. Канукова (1852-1899), который, с одной стороны, приветствовал наступление цивилизаторской эры на Кавказе, а с другой, в связи с этим событием, - констатировал утрату горцами многих положительных качеств, в том числе их боевого мастерства: «.с умиротворением Кавказа характер горца резко переменяется. Храбрые джигиты уже сходят со сцены, уступая место своим сыновьям и внукам. Мир праху вашему, храбрые джигиты! Будьте вы в дзанаге (раю)! Вы как достойные сыны своего Отечества отстаивали свободу и неприкосновенность обычаев, завещанных вам отцами и дедами вашими, вы проливали свою кровь на каждом клочке земли, которую приходилось уступать врагам. Но - увы! Кровь ваша пролита напрасно: свобода и родина не спасены от могущественного напора цивилизации, которая принесла на Кавказ другую жизнь. Они уже не идут по вашим стопам. Из них не воспитываются храбрые до самоотверженности удальцы, из них выйдут честные, мирные граждане. Прежние учреждения теперь надобно предать забвению.» [26. C. 309-310]. Конечно, многое переменилось с той поры. Горцам уже не надо было бесконечно браться за оружие и совершать бранные подвиги, они перешли к мирной жизни. Но военное искусство с присущими ему чертами, складывающееся и оттачивающееся веками, не ушло в забвение, оно лишь видоизменилось. Примером может служить то, что все северокавказские этносы, связав судьбу свою с русским народом, принимали впоследствии самое активное участие в войнах России, защищая тем самым интересы общей Родины. Обладая чувством долга, врожденной любовью к боевому делу, отважные, бесстрашные горцы совершали беспримерные подвиги на полях сражений. Даже сейчас отмечается и ставится в пример другим народам горский менталитет, состоящий из выдержки, сдержанности, неукротимости духа кавказцев и желания незамедлительно прийти на помощь соседям. Как видим, вся история бытования народов Северного Кавказа тесно переплелась с военным делом. В неспокойные времена непрерывного передела территорий горские этносы вынуждены были адаптироваться и подчиняться тем правилам, в которых они оказались под воздействием внешних факторов. В данном ракурсе все насельники Северного Кавказа подвергались тяжелым военным испытаниям многие столетия, так как в первую очередь становились объектом нападений многих завоевателей (Батый, Тимур и др.). Постоянная необходимость в защите своей земли побуждала горцев подчинить свой жизненный уклад целиком и полностью военному ремеслу, что не могло не сказаться на менталитете народов, их культуре. Горец не мыслился без войны и военных набегов. Именно при таких обстоятельствах возникла острая необходимость в совершенствовании боевого искусства, и потому вся духовная и материальная культура старожилов края вплоть до XIX в. сохраняла военизированную основу и была проникнута боевым духом.
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 33
Ключевые слова
Российская империя, Северный Кавказ, боевое искусство, военное ремеслоАвторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Блейх Надежда Оскаровна | Северо-Осетинский государственный университет им. Коста Левановича Хетагурова | доктор исторических наук, профессор кафедры психологии психолого-педагогического факультета | nadezhda-blejjkh@mail.ru |
Ссылки
Услар П.К. Этнография Кавказа : в 6 т. Тифлис : Упр. Кавк. учеб. округа, 1887. Т. 1. 118 с.
Геродот. История : в 9 т. Л. : Наука, Ленингр. отд-ние, 1972. 321 с.
Дзугаева М., Блейх Н. Военно-рыцарское воспитание северокавказских народов. Владикавказ : Сев.-Осетин. гос. ун-т им. К. Л. Хетагурова., 2007. 213 с.
Блейх Н.О. Причины возникновения и трансформации военной демократии у народов Северного Кавказа // Genesis: исторические исследо вания. 2016. № 5. С. 181-189. doi: 10.7256/2409-868X.2016.5.19705
Прокопий Кесарийский. Война с готами. М. : Изд-во Акад. наук СССР, 1950. 231 с.
Марцеллин А. История // Вестник древней истории. 1949. № 3. С. 305-312.
Древний Кавказ. Воспоминания путешествующих. М., 1834. 642 с.
Кузнецов В.А. Алания в X-XIII вв. Орджоникидзе : Ир, 1971. 342 с.
Караулов Н.А. Сведения арабских географов IX-X вв. о Кавказе, Армении и Азербайджане // СМОМК. 1908. Вып. 38. 341 с.
История анонимного повествователя : Псевдо-Шапух Багратуни / пер. с. древнеарм., предисл. и коммент. М.О. Дарбинян-Меликян; отв. ред. К.А. Мелик-Оганджанян. Ереван : Изд-во АН АрмССР, 1971. 265 с.
Блейх Н.О. Основы материальной культуры горцев военного времени (оружие и оборонительные сооружения) // Исторический журнал: научные исследования. 2016. № 4. С. 455-460.
Известия венгерских миссионеров XIII-XIV вв. о татарах и Восточной Европе // Исторический архив. М.-Л., 1940. Т. 3. С. 38-43.
Архив внешней политики Российской империи (АВПРИ). Ф. 161/4. Д. 257.
Акты, собранные Кавказской Археографической комиссией : в 12 т. Тифлис : тип. Гл. упр. Наместника Кавк., 1867. Т. XI. 1116 с.
Рубрук В. Путешествие в Восточные страны. М. : Географгиз, 1957. 236 с.
Каганкатваци М. История Алан. СПб. : тип. Акад. наук, 1861. 213 с.
Багратиони В. География Грузия // Записки Кавказского отдела императорского Русского географического общества. Тифлис, 1904. Кн. XXIV. Вып. 5. 456 с.
Тизенгаузен В. Сборник материалов, относящихся к истории Золотой Орды. СПб. : изд. гр. С.Г. Строганова, 1884. Т. 1. 213 с.
Рукописный фонд Института истории, археологии и этнографии Дагестанского научного центра РАН (РФ ИИАЭ ДНЦ РАН). Ф. 1. Д. 34.
Российский государственный архив древних актов (РГАДА). Ф. 1406. Д. 58.
Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 846. Д. 48.
Центральный государственный архив Кабардино-Балкарской Республики (ЦГА КБР). Ф. 6. Д. 12.
Центральный государственный архив республики Северная Осетия - Алания (ЦГА РСО-А). Ф. 56. Д. 117.
Туганов М. Сборник научных статей. Цхинвали : Ирыстон, 1986. 423 с.
Белокуров С.А. Сношения России с Кавказом. М. : Унив. тип., 1889. Кн. 3. 234 с.
Кануков И.Д. Рассказы, очерки и публицистика. Орджоникидзе : Ир, 1985. 423 с.
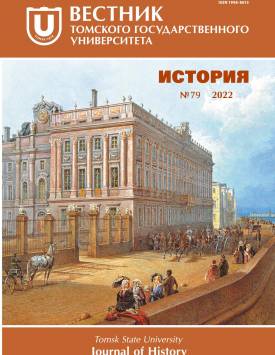
Роль кочевников в становлении боевого искусства у северокавказских народов | Вестн. Том. гос. ун-та. История. 2022. № 79. DOI: 10.17223/19988613/79/3
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 625

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью