Студент учительствующий: студенты Императорского Московского университета в поисках средств к существованию
Статья посвящена исследованию повседневной жизни студентов Императорского Московского университета. Выявлены некоторые стратегии обеспечения собственных материальных потребностей, которые не описывают всей полноты студенческого опыта, но могут служить одной из рамок, при помощи которых историк способен реконструировать повседневную жизнь московского студенчества, складывавшуюся по-разному в силу разного социального и географического происхождения студентов, а также зависевшую от их успеваемости, лояльности к власти и простой удачливости. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Students giving classes: students of Imperial Moscow University in search for means of existence.pdf Студенчество не обделено вниманием исследователей, однако большинство из них анализирует студентов как потенциальных участников революции. При таком подходе значительный интерес представляет лишь «передовая» часть студенчества. «Академистам» же, «равнодушной толпе» и «противникам студенческих движений», в терминологии В. Ленина [1. С. 2-3], уделяется куда меньше внимания. Если бытие и не напрямую определяет сознание, то его изучение может показать условия формирования студенческого мировоззрения, а также позволит «очеловечить» объект рассмотрения. Изучение одной из сторон бытия студентов Московского университета - студенческих стратегий по добыванию средств к существованию - позволяет выявить доступные для студентов способы заработка, проанализировать их эффективность, показав, таким образом, на основе анализа опубликованных и неопубликованных архивных источников одну из сторон повседневной жизни студентов Императорского Московского университета. Г.Б. Слиозберг писал о наличии в студенческой массе «разнородных, чуждых по воспитанию и привычкам элементов» [2. С. 94]. По мысли А.М. Анненкова, «как отличительную черту в студенческой среде первой трети XIX в. можно выделить свободу мнения и слова» [3. С. 112]. Описывая восприятие студентов обществом, С. Сватиков отмечал, что «синий околыш студента был патентом на доверие» [4. С. 15]. «Характерные для студенчества той поры (конец XIX - начало ХХ в.) ожидания благотворных перемен в российском обществе» отмечает А.Е. Иванов [5. С. 288], также обращаясь к образу студентов в общественном сознании. «Рост студенческого движения породил в среде учащейся молодежи вузов мощный импульс к самопознанию» [6. С. 658], - считал Ю.Д. Марголис. В.Р. Лейкина-Свирская пришла к выводу о «демократическом характере» студенческого движения [7. С. 27], а В.Э. Багдасарян то же стремление студентов к участию в революционной борьбе видел «проявлением кризиса юношеской социализации» [8. С. 83]. Зарубежный исследователь С.Д. Кэссоу указывал на «ясное чувство корпоративной идентичности» [9. P. 54] студентов. «Профессора так же, как и значительная часть так называемого образованного общества (фактически интеллигенции. - М.Ф.), воспитывают в молодом поколении, говоря кратко, революционный дух» [10. С. 55], - писал в 1911 г. университетский профессор Н.П. Боголепов. Если определение студенчества по-прежнему вызывает дисскуссии, то его характеристика часто оказывалась заранее определена политическими убеждениями исследователей. Так, в студенчестве традиционно ищут черты будущих революционеров, соответственно, также изначально рассматривая политику власти по отношению к студентам как практики надзора, контроля и подчинения (см., напр.: [11-16]). Работы, ставшие редким исключением из общего правила, оценивали отношения между студентами и властью по-иному, но придерживались столь же безапелляционной риторики (см., напр.: [17]). История повседневности, в рамках которой исследователи последнего времени реконструируют студенческую жизнь, дала возможность увидеть студентов не в роли будущих революционеров или, напротив, союзников режима, но в их обычной жизни, в устройстве быта и поиске самих себя [18-21]. Подобная оптика позволила увидеть за студенчеством не идеологический конструкт, но самих студентов в их многообразии, непохожести и невозможности вписаться в ту или иную заданную «свыше» рамку. Вчерашний гимназист, начинавший свою жизнь в качестве студента Императорского Московского университета, сразу по приезду (а многие студенты были иногородними) должен был озаботиться решением ряда насущных вопросов - в первую очередь обеспечить себя крышей над головой и пропитанием. В распоряжении студентов было несколько стратегий: надежда на родительскую поддержку, помощь благотворителей (от государства или частных филантропов) или самообеспечение. Редкое семейство могло обеспечивать сына-студента на протяжении всей учебы, стипендии от благотворителей также могли заканчиваться, потому важной статьей дохода студента становились подработки. Имели ли право студенты таким образом способствовать приращению своего дохода? Существовали ли какие-либо ограничения на подобную деятельность, и были ли студенты активны в попытках получения прибыли посредством собственного труда? К каким стратегиям студенты прибегали для поиска источников дохода? Университетские уставы 1863 и 1884 гг. хранят молчание относительно вопроса студенческого заработка, указывая только на стипендии и пособия в качестве экономической помощи для учащихся. Правила, опубликованные 2 августа 1879 г., содержат следующие указания для потенциальных преподавателей: «Студентам предоставляется право заниматься преподаванием в частных домах не иначе, как по особому разрешительному свидетельству за подписью инспектора (проректора). Такое свидетельство выдается только студентам, признаваемым начальством Университета вполне благонадежными в нравственном отношении, при отсутствии со стороны полиции отзывов о неблагонадежности» [22. Л. 1]. Подобные требования не были явлением исключительным. Такими же были ожидания власти от претендовавших на государственные стипендии, а также от студентов, решивших вступить в брак. Впрочем, правила, как водится, не вводили новую норму студенческой жизни, но регламентировали уже существующую традицию заработка. Так, уже в 1866 г. московскому обер-полицмейстеру пришлось бороться даже не с самими подработками студентов, но с их рекламой. В 1866 г. предприимчивые репетиторы пытались найти потенциальных клиентов на страницах периодических изданий. На подобную деятельность обратил внимание начальник Главного управления по делам печати, в связи с чем написал московскому обер-полицмейстеру следующее: «В газетах и повременных изданиях постоянно помещаются объявления студентов университета и других высших учебных заведений, предлагающих свои услуги по обучению детей и приготовлению их в разные учебные заведе- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 86 ния. Имея в виду, что студентам еще не разрешено законом право заниматься преподаванием и что посему помещение студентами подобных объявлений в газетах и повременных изданиях составляет прямое нарушение закона, управляющий Министерством народного просвещения просит, чтобы таковые объявления впредь не были дозволяемы к напечатанию» [23. Л. 1]. Хотя «Правила, по коим воспитанникам казенных высших и средних учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения предоставляется право заниматься преподаванием в частных домах» появились только в 1872 г., а статистика выдачи вожделенных свидетельств присутствует только с 1891 г., уже в 1870 г. к московскому обер-полицмейстеру обратились сразу 93 студента с различных курсов и факультетов с одинаковой просьбой: «...желая заниматься уроками в частных домах, покорнейше прошу Ваше Превосходительство выдать мне удовлетворение о благонамеренности моего поведения» [24. Л. 1]. В большинстве случаев студент в скором времени действительно получал свидетельство о политической и нравственной благонамеренности. Однако иногда московского обер-полицмейстера начинали обуревать сомнения. Тогда, к примеру, приставу Мясницкой части предписывалось «узнать и немедленно донести мне, какого вероисповедания означенный в прилагаемом при сем свидетельстве конторы квартала вверенной Вам части студент Каменский» [Там же. Л. 152]. Неясно, получили ли те 93 студента возможность преподавать на законных основаниях, но, так или иначе, уже с 1872 г. студенты имели на это полное право. Главным основанием для дозволения преподавать было признание соискателей «начальством университета или высшего учебного заведения вполне благонадежными в нравственном отношении» [16. Л. 2]. Убедиться или разувериться в этом вопросе высокое начальство могло на основании аттестата о поведении студента от прежнего учебного заведения, непосредственной деятельности его в стенах университета и отсутствия отзывов о неблагонадежности студента со стороны местной полиции. Определены и наиболее существенные последствия несоблюдения этих правил: «Студенту, оказавшемуся виновным в обучении в частных домах без установленного разрешительного свидетельства, воспрещается таковое занятие на все время нахождения в университете или другом высшем учебном заведении, а если и после такового запрещения он будет продолжать заниматься преподаванием в частных домах, то подвергается удалению из учебного заведения» [Там же. Л. 2]. «Правила, по коим воспитанникам казенных высших и средних учебных заведений ведомства Министерства народного просвещения предоставляется право заниматься преподаванием в частных домах» перепечатывались на обороте каждого выдаваемого разрешения, что давало возможность контроля за студентами также и родителям учеников (в случае жалоб свидетельство могли отобрать, лишив возможности легального заработка). К каким стратегиям поиска занятий прибегали студенты, решившие сами обеспечить свое существование? Во-первых, они могли обратиться к благотворителям: утвержденное в 1872 г. «Общество для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета» помогало студентам в том числе в поиске подработок. Во-вторых, студенты могли найти занятия, воспользовавшись разветвленной системой связей, а также попробовать подыскать уроки или другие занятия через газетные объявления. «Общество для пособия нуждающимся студентам Императорского Московского университета» за годы работы испробовало несколько стратегий благотворительности: начав с различной адресной помощи (внесение платы за студентов, выплата нуждающимся студентам единовременных пособий, открытие столовых с даровыми и дешевыми обедами и пр.), через некоторое время (с 1899 г.) благотворители решили также помогать студентам не напрямую, но посредством нахождения для них того или иного занятия. За 6 лет Общество нашло занятия для 2 010 студентов. Несмотря на то, что очень многие студенты были заняты в переписи населения (31%), безусловное лидерство осталось за самым студенческим видом заработка - уроками в Москве (42%), а если посчитать вместе с ними еще и репетиторов, уехавших с учениками, и гувернеров, то получится как раз половина всех получивших возможность подработать (50,3%). Как видно из табл. 1, Общество стремилось увеличивать темпы помощи студентам по мере роста их численности, однако, очевидным образом, не могло помочь всем студентам. Тем не менее, как было показано выше, к примеру, в 1903 г. помощь Общества коснулась 28,5% студентов. Т аблица 1 Занятия, найденные Обществом для студентов (1899-1904 гг.) Виды занятий Число занятий Уроки в Москве 847 Уроки в отъезд 155 Гувернерство 10 Переводы 18 Переписки 21 Медицинские занятия 83 Юридические занятия 5 Чтение вслух 4 Контроль на железных дорогах 120 Секретарские работы 14 Занятия по переписи населения (счетчики) 628 Иные 105 Фадеева М.В. Студент учительствующий 87 Найти уроки или другие занятия по знакомству было мечтой студента. Сдававшие комнаты хозяева, имевшие сыновей-гимназистов, часто соглашались поселить у себя студента, приняв уроки в качестве платы за проживание. О таком счастливом совпадении вспоминает студент А. Тройнин: «С завтрашнего дня я репетитор Миши, бойкого мальчугана, ученика второго класса гимназии. Условия: “на всём готовом”». «На всем готовом» - это установившаяся терминология, очень хорошо знакомая сословию студентов-репетиторов того времени: такой репетитор платы не получал, ни одного рубля. Но ему был обеспечен «стол и дом» [25. С. 56]. Менее удачливые студенты были вынуждены прилагать дополнительные усилия для поиска занятий, рекламируя свои услуги. Для целей данного исследования были изучены объявления в газете «Московский листок» с 1881 (год начала издания) по 1904 г. Среди многообразия печатавшихся в этой газете объявлений можно найти и студенческие. Выбор для анализа «Московского листка» обусловлен тем, что эта газета была относительно недорогой (стоимость подписки на месяц в течение всех рассмотренных лет составляло только 1 р.), и, соответственно, контингент читателей должен был быть относительно демократическим (в сравнении, к примеру, с «Московскими ведомостями»). Студенты могли, к примеру, по объявлениям, публиковавшимся на ее страницах, подыскивать себе относительно недорогое жилье, а также давать объявления в надежде обрести возможность заработка. В редких случаях это были объявления о поиске студентами квартиры, большинство предлагали свои услуги в качестве преподавателей, причем часто один и тот же студент не ограничивался одним объявлением, а давал несколько объявлений за год. Казалось бы, такая гарантия легитимности студенческих подработок, как свидетельство от ректора, должна был часто фигурировать среди перечисляемых потенциальным репетитором достоинств, однако реальность, которую отражает табл. 2, позволяет убедиться в обратном: студенты ссылались на разрешение ректора только в 1890-е гг., да и тогда не очень активно. Подобные указания присутствовали в объявлениях с 1882 по 1889 г. С 1889 по 1904 г. ни один из студентов не поместил в список своих несомненных достоинств университетское свидетельство. В целом за 23 года (1882-1904) из 802 студентов, дававших объявления, только 26 человек (чуть больше 3%) посчитали, что эта информация привлечет потенциальных работодателей. Хотя студентов, доверявших газете в поиске подработок, было не так много (в одном только 1884 г. на первый курс поступили 823 человека), в условиях жесткой экономии, в которую был поставлен каждый, решивший дать объявление (с 1884 г. объявление объемом в строку петита на последней странице оценивали в 15 коп.), очевидно, что автор объявления указывал именно то, что считал самым важным и за что ему было не жалко заплатить. Если право на преподавание, подписанное самим ректором, было у студентов, подающих объявления в газеты, не в чести, то что же было, по их убеждению, средством более верным? Из 19 наиболее распространенных характеристик реже всего студент требовал «приличного вознаграждения», гарантировал успех, обращался к нетипичной аудитории (обещая подготовить на вольноопределяющегося или домашнего учителя), ограничивал работодателя определенным временем или пытался увлечь указанием на дополнительные выгоды, связанные с выбором именно в его пользу. Наиболее часто студенты соглашались на лето преподавать «в отъезд» (7%), работать «за стол и квартиру» (6,5%), на возможность «иных занятий» (8%). Самыми верными средствами получить урок, по мнению студентов, являлись наличие гимназической медали (5,2%), специализация (8,4%), владение языками (9%) и, вне всяких сомнений, опыт работы (16%) (табл. 3). Интересно, что среди студентов, указывавших свою факультетскую принадлежность, больше всего оказалось не юристов и медиков, как можно было бы предположить из-за их многочисленности, но математиков (60% от всех указавших). Сколько же всего было стремившихся к репетиторству? В табл. 4 приведена статистика студенческих объявлений. Т аблица 2 Указания на наличие разрешения на право преподавания в студенческих объявлениях Год Количество указаний Всего объявлений 1882 1 12 1883 5 26 1884 1 34 1885 6 26 1886 10 49 1887 2 88 1888 0 82 1889 1 64 Т аблица 3 Отличительные черты студента-репетитора Предметы преподавания (специализация) 67 Предметы преподавания (языки) 31 Гимназическая медаль 60 Знание языков (теоретическое и практическое) 105 Потенциальная аудитория (не учащиеся) 11 88 На основе поданных объявлений вряд ли можно судить о том, сколько именно студентов получили работу и каков был их заработок. Можно лишь констатировать большой интерес студентов к поиску средств к существованию путем преподавания. Как же студенты оценивали стоимость своих услуг по урокам и репетиторству? 87 из 807 (10,85%) были согласны давать уроки за «обед и комнату». В объявлениях студенты редко указывают плату, на которую рассчитывают. Впрочем, встречаются и исключения. В 1888 г. один студент был согласен взять урок на лето «не дешевле 40 р. в месяц» [26. С. 3], другой просил «рубль за урок» [15. С. 3]. В 1894 г. студент искал урок «за самую умеренную плату (10 р. в мес.)» [27. С. 3]. В 1896 г. студент был согласен давать уроки «за плату от 5 руб. в месяц» [28. С. 4]. В 1897 г. студент предлагал урок «по математике, за урок 3 р.» [29. С. 3]. В 1899 г. была заявлена самая высокая цена: «Студент дает уроки здесь и на дачах, за хорошее вознаграждение (в отъезд - 100 р. в месяц)» [30. С. 4]. Поскольку данные отличаются и описывают разные формы оплаты (указана цена за урок или за месяц), по ним невозможно установить, какой была плата в действительности. Неизвестно, сколько часов в неделю студенты могли преподавать у одного заказчика, по скольким предметам студент мог давать уроки, а также получали ли студенты в полной мере ту плату, на которую рассчитывали, подавая объявления. Встречные предложения на страницах газеты также печатались и представлялись более репрезентативными, хотя их и крайне мало. В 1893 г. приглашали студента для гимназиста 2-го класса, «плата за мес. 14 р.» [28. С. 4]. Ученика 5-го класса гимназии в 1896 г. предлагали репетировать студенту-филологу за «гонорар 15 руб. в месяц». [24. Л. 207]. Дополнительные данные о размере заработка студентов можно почерпнуть из поли- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia Окончание табл. 3 Указание на национальность студента 19 Указание на факультет 200 Разрешение ректора 26 Наличие рекомендаций 58 «Расстоянием не стесняется» (и широкая география) 55 «Временем не стесняется» 14 «Согласен за стол и квартиру» 75 «Умеренное вознаграждение» 44 «Приличное вознаграждение» 8 Гарантия успеха 4 Опыт работы 182 «Согласен в отъезд», «на лето» 84 «Или иных занятий» 92 Дополнительные навыки (игра на музыкальных инструментах, красивый почерк, массаж, сопровождение больного и пр.) 13 Т аблица 4 Студенты и студенческие объявления о поисках работы Год Количество студентов, давших объявления Количество студенческих объявлений* 1882 8 23 1883 24 67 1884 30 63 1885 22 49 1886 44 92 1887 90 198 1888 101 222 1889 61 185 1890 58 128 1891 27 56 1892 12 21 1893 38 63 1894 70 106 1895 30 75 1896 52 148 1897 59 139 1898 Нет данных 1899 27 55 1900 13 24 1901 16 41 1902 8 24 1903 2 2 1904 10 13 Итого 802 1 794 * Один студент мог давать несколько объявлений в одной и той же газете. Фадеева М.В. Студент учительствующий 89 цейских сводок. Так, в 1870 г. Александр Паперн «обучал сына Лемберха с получением 20 р. в месяц жалованья» [24. Л. 207]. Впрочем, тот факт, что студенты довольно редко упоминали наличие у них разрешения от ректора заниматься преподаванием, вовсе не означает, что они напрочь игнорировали эту формальность. Архивные материалы позволяют показать не только общее число получавших свидетельства, но и их распределение по курсам и факультетам (табл. 5). Т аблица 5 Выдача студентам свидетельств на право преподавания (по годам и факультетам) 1891-1904 гг. Историки и филологи Естественники и математики Юристы Медики Итого Втого по факультетам 80 240 282 213 815
Ключевые слова
история повседневности,
российская история,
история студенчества,
история XIX в.,
история XX в.Авторы
| Фадеева Марина Владиславовна | | Независимый исследователь | marina.fadeeva.o@gmail.com |
Всего: 1
Ссылки
Ленин В.И. Задачи революционной молодежи. Письмо первое // Ленин В.И. Полное собрание сочинений. 5-е изд. М. : Политиздат, 1967. Т. 7. С. 341- 356.
Слиозберг Г.Б. Дореволюционное русское студенчество // Памяти русского студенчества. Париж : Свеча, 1934. С. 82-95.
Анненков А.М. Российское студенчество первой трети XIX века в воспоминаниях современников // Культура исторической памяти. Петрозаводск : Петрозавод. гос. ун-т, 2002. С. 106-113.
Сватиков С. Студенчество прежде и теперь // Путь студенчества : сб. ст. М. : тип. Г.В. Васильева, 1916. С. 1-19.
Иванов А.Е. Студенческая корпорация России конца XIX - начала XX века: опыт культурной и политической самоорганизации. М. : Новый хронограф, 2004. 407 с
Марголис Ю.Д. Студенческие переписи в России 1872-1912 гг. // Средневековая и новая Россия : сб. науч. ст. СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун та, 1996. С. 656-670.
Лейкина-Свирская В.Р. Интеллигенция в России во второй половине XIX века. М. : Мысль, 1971. 283 с.
Багдасарян В.Э. Мотивы девиантного поведения студенчества в конце XIX - начале ХХ вв. // Российское студенчество: условия жизни и быта (XVIII-XXI века) : сб. науч. ст. М. : Изд-во Моск. гос. обл. ун-та (МГОУ), 2004. С. 82-95.
Kassow S.D. Students, Professors and State in the Tsarist Russia. Berkley et al. : University of California Press, 1989. 434 p.
Боголепов Н.П. Страница из жизни Московского университета : из записок профессора Боголепова. М. : Т-во «Печатня С.П. Яковлева», 1911. 70 с.
Вахтерова О.А. Студенты и власть в России во второй половине XIX - начале XX века // Власть и общество : межвуз. сб. науч. тр. СПб., 2000. С. 59-62.
Веселая Г.А. Студенческие волнения в Московском университете осенью 1901 года // Материалы по истории освободительного движения в России в период капитализма. М. : Сов. Россия, 1974. С. 133-147.
Выдрин Р. Основные моменты студенческого движения в России. М. : Студенческий голос, 1908. 89 с.
Мельгунов С. Студенческие организации 80-90 гг. в Московском университете (по архивным данным). М. : Свободная Россия, 1908. 95 с.
Московский листок. 1888. № 257.
Центральный государственный архив г. Москвы (ЦГАМ). Ф. 418. Оп. 286. Д. 20
Корсаковский А.А. По поводу беспорядков в наших высших учебных заведениях : речь, сказанная свящ. А.А. Корсаковским в торжественном собрании членов Общества распространения религиозно-нравственного просвещения в духе православной церкви 30 января 1897 г. Киев : Кушнерев, 1897. 45 с.
Гришунин П.В. Студенчество столичных университетов: структуры повседневной жизни. 1820-е - 1880-е гг. : автореф. дис.. канд. ист. наук. СПб., 2005. 19 с.
Зимин И.В. Студенческая форма и нагрудные знаки в России XIX - начала ХХ века // Факты и версии : ист.-культ. альманах. СПб. : ИМИСП, 2005. С. 107-121.
Иванов А.Е. «Половой вопрос», брак, семья в бытовом сознании и поступках российских студентов (1880-е гг. - начало ХХ в.) // Российская история. 2010. № 6. С. 84-96.
Цыганков Д. Московский университет в городском пространстве начала ХХ века. // Университет и город в России (начало ХХ века) / под ред. Т. Мауэр, А. Дмитриева. М. : НЛО, 2009. С. 371-460.
ЦГАМ. Ф. 459. Оп. 2. Т. 2. Д. 3875.
ЦГАМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 665.
ЦГАМ. Ф. 46. Оп. 1. Д. 932.
Трайнин А.Н. Воспоминания о Московском университете // Вестник Московского университета. 1991. Сер. 11. Право. № 2-5. С. 56-64.
Московский листок. 1888. № 140.
Московский листок. 1893. № 206.
Московский листок. 1894. № 267.
Московский листок. 1896. № 234.
Московский листок. 1897. № 276.
Московский листок. 1899. № 123.
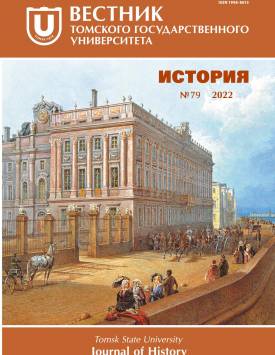

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью