Христианство и либерализм: синтез ценностей в мировоззрении и политических практиках либералов Сибири в начале XX в.
На основе анализа интеллектуального наследия профессоров Томского университета Д.Н. Беликова, И.В. Михайловского и П.А. Прокошева представлены различные версии согласования православных традиций с либеральными идеями индивидуальной свободы как основы общественного порядка. Синтез либеральных и религиозных ценностей на уровне политических практик продемонстрирован на примере деятельности депутата Ш Государственной думы от Енисейской губернии В.А. Караулова. Сформулировано предположение о возможности использовать либерально-христианский синтез в качестве одного из оснований для формирования общенационального консенсуса. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Christianity and Liberalism: the synthesis of values in philosophy and political practices of the Siberian liberals at t.pdf Проблема соотношения либеральных идей с культурными кодами российской цивилизации на протяжении многих лет является предметом научных и общественно-политических дискуссий. В конце 1990-х гг. по итогам обсуждения этой проблемы подавляющее большинство ведущих специалистов сошлись во мнении, что русский либерализм в ходе своей эволюции проявил способность интегрировать критически переработанные западные идеи, с одной стороны, и традиционные национальные идеи - с другой [1. С. 6]. Тем не менее и в настоящее время в отечественной и зарубежной литературе продолжает бытовать утверждение о том, что русский либерализм был своего рода «трансплантантом», искусственно привнесенным в Россию и в силу этого не имевшим шансов укорениться на специфической российской почве. В таком контексте либерализм предстает как антитеза культурной традиции России. Между тем обращение к интеллектуальному наследию отечественных либералов XIX - начала XX в. дает убедительные свидетельства синтеза мировоззренческих и инструментальных ценностей западного либерализма с национальными культурно-духовными традициями. Одно из магистральных направлений в изучении проблемы корреляции заимствованных идей с идеями традиционализма представлено исследованиями, посвященными христианскому либерализму в России. В их числе особо следует отметить целый ряд научных работ А.А. Кара-Мурзы и О.А. Жуковой, в которых предпринят интереснейший опыт реконструкции христианско-либеральной традиции в интеллектуальном и политическом опыте таких выдающихся общественных деятелей России XIX-XX вв., как И.С. Аксаков, М.А. Стахович, П.Б. Струве, Г.П. Федотов [2-5]. Однако круг мыслителей, чьи способности конструировать мировоззренческую систему координат посредством согласования и взаимодополнения православных и либеральных идеалов стали предметом научного анализа, следует признать довольно ограниченным. В результате появляются основания считать либерально-христианский синтез исключением, обусловленным особенностями индивидуального стиля мышления отдельных персон, а не сколько-нибудь значимой и перспективной тенденцией в развитии общественной мысли и политических практиках отечественных либералов. Опасность такого рода аберрации видится в создании предпосылок для утверждения о принципиальной несовместимости религиозного и либерального начал в политической культуре, о глубинном конфликте ценностей христианства и правового государства. Такой точки зрения придерживается, в частности, доктор философских наук, историк религии и религиовед А.Н. Швечиков, категорично утверждающий: «Более изощренного и коварного противника, чем либерализм, у религии не было за всю ее историю» [6. С. 24]. Не приводя в подтверждение своей позиции конкретных аргументов (в виде, например, возможных ссылок на труды идеологов либерализма), А.Н. Швечиков констатирует: «Основная цель либеральной идеологии в противостоянии религии вообще и христианству в частности во всем, что касается ос новных ценностей человеческой жизни; в доказательстве того, что либеральное толкование и пути реализации этих ценностей единственно истинны, жизненны и противостоят не истинным и не жизненным христианским ценностям. Для либерала христианское понимание свободы не более чем благое пожелание, зато ее либеральное понимание для него есть реальность, закрепленная и материализованная в правовом акте государства - законе» [Там же. С. 22]. Естественным логическим следствием этой позиции становится призыв автора «очистить национальное самосознание от либерального дурмана», поскольку либерализм «по сути враждебен ее (России. - О.Х.) православному духу, смысловым основам ее бытия» [Там же. C. 25, 26]. В условиях постоянного присутствия в публичном дискурсе религиозной тематики и интереса большого числа граждан нашей страны к вопросам веры утверждение о либерализме как принципиально антирелигиозной идеологии способно породить дополнительные препятствия на и без того непростом пути к общественному консенсусу в понимании национальной идеи России и ее ключевых смыслов. Это обстоятельство послужило импульсом к написанию статьи, замысел которой состоит в выявлении сопряженности христианских и либеральных ценностей как на мировоззренческом, так и на поведенческом уровне политической культуры сибирских либералов в начале XX в. Представляется, что подобная реконструкция может стать дополнительным аргументом в пользу тезиса о глубоком осмыслении и творческой переработке политических идеалов западноевропейского либерализма с учетом специфики историко-культурных традиций Отечества, продемонстрировав включенность в этот процесс не только интеллектуальной элиты центра страны и расширив тем самым территориальные границы «умственного и общественного движения русского мира в сторону христианского либерализма с его идеей синтеза европейской правовой культуры и духовных ценностей христианства - консервативного либерализма... синтезирующего универсальное и национально-специфическое в традициях Запада и Востока» [7. C. 113]. Интересный опыт богословской рефлексии, демонстрирующей созвучие мотивов православия и либерализма на аксиологическом уровне, представлен в интеллектуальном наследии профессора Томского университета протоиерея Дмитрия Никаноровича Беликова. Приверженность выпускника Казанской духовной академии, доктора церковной истории, заведующего кафедрой богословия идеалам православия естественна и очевидна. Вполне типичным для православной богословской риторики выглядит, например, толкование Д.Н. Беликовым необходимости признания высшего бытия: «Мир не может найти в себе самом достаточного основания, и то, что в противовес сему положению лепечет атеизм, - есть только именно лепет, скудные и жалкие речи. Бытие мира с его величием, красотою, порядком, жизнию и разумностью в жизни предполагает другое высшее бытие, где непременно должна быть положена его первопричина. Фактом своего чудного появления и устройства мир устанавливает необходимость признания Бога» [8. С.14]. Вместе с тем Харусь О.А. Христианство и либерализм: синтез ценностей в мировоззрении и политических практиках 99 постулаты православного вероучения являлись для профессора богословия основанием для признания ценности человеческой личности. Из представления о человеке как «высшем на земле создании Божием... наделенном достоинством Богоподобия, возлюбленном Господом до самоотверженной смерти на Голгофе», логически выводилось положение: «...каждый из людей есть величайшая ценность в очах Создателя, призванная к вечному с Собою общению в блаженстве вечного царства» [9. С. 6]. Нельзя не отметить, что трактовка понятия «ценность личности» как «ценности в очах Создателя», определявшаяся признанием Бога первоисточником всего сущего, придавала суждениям Д.Н. Беликова несомненный оттенок консерватизма. Тем не менее сама по себе постановка вопроса о статусе личности (именно Личности, а не просто Человека) и признание ее первостепенного значения в земной жизни может служить индикатором либерального мировоззрения. «Нет ничего ценнее достоинства человеческой личности, в каком бы положении она здесь ни находилась, какое бы из земных состояний ни переживала», -утверждал профессор богословия [Там же]. В таком контексте созвучным либерализму представляется и провозглашение Д.Н. Беликовым в соответствии с заповедями Божиими одним из основополагающих принципов человеческого общежития уважения и любви к ближнему, заботы о его благе [Там же. С. 3, 5]. Поиск синтетического консенсуса между тремя смыслообразующими концептами - личность, общество, государство, как известно, является центральной проблемой общественно-политической жизни в либеральной системе координат [10. С. 7-8]. Специфика богословского подхода к решению этой проблемы проявилась в смещении акцента на этическую составляющую как в гармонизации личностного и общественного начала, так и при признании законности в качестве значимого принципа во взаимоотношениях личности и государства. Вопросы, связанные с либеральной концепцией правового государства, не являлись предметом теоретического осмысления и рефлексии для доктора церковной истории. Однако уважение к закону, стремление следовать правовым нормам было для него безусловным нравственным императивом. В обращении к верующим, распространенном в Томской епархии в марте 1927 г., преосвященный Димитрий призывал: «...не за страх, а за совесть будем зорко наблюдать за собою, чтобы никогда, нигде не выходить из пределов установленной законности, чем поднимем себя в глазах гражданской власти» [11]. Нельзя не отметить, что проповеди и публичные лекции, с которыми Д.Н. Беликов часто выступал перед населением, неизменно пользовались успехом. Людей привлекало как его красноречие, так и глубокий духовный смысл, которым были проникнуты речи Беликова. Идеалы гуманизма, просвещения, высокой нравственности, религиозного и общественного долга, с которыми он обращался к своей аудитории, находили отклик в умах и сердцах его слушателей. Характерное для мировоззрения Д.Н. Беликова сочетание богословской традиции и либеральных ценностей во многом объясняет его членство в либерально -консервативной октябристской партии. И хотя особой политической активности профессор не проявлял, его очевидные для многих томичей ценностные ориентации, по-видимому, стали основанием для избрания его на учредительном собрании местного отдела «Союза 17 октября» в бюро отдела. Отличный от линии богословской рефлексии в осмыслении основополагающих либеральных ценностей, но в целом не противоречащий ей опыт теоретического обоснования либерально-христианского синтеза представлен в интеллектуальном наследии профессора Томского университета Иосифа Викентьевича Михайловского. Исходя из признания индивидуальной свободы личности отправным пунктом построения социально-политической теории и общественного порядка, И.В. Михайловский сосредоточился на изучении и разработке философских основ либерального мировоззрения. «Путеводною звездою высшей духовной жизни, расцветающей под эгидой государства, является философия», - писал профессор. Будучи уверенным, что без помощи философии нельзя построить более или менее удовлетворительного мировоззрения, И.В. Михайловский в качестве основы метафизики рассматривал религию [12. С. 2]. Приветствуя усиление идеалистических течений, возрождение метафизики идеализма как «самое крупное и важное явление современной культуры, богатое плодотворными последствиями», залогом достижения таковых специалист в области теории и философии права считал тесную связь с пробудившимися религиозными стремлениями. Единение идеалистической философии и религиозных духовных ценностей призвано было, по его мнению, стать «важнейшим фактором грядущей культуры» [13. С. 25]. Истинную религиозность Михайловский считал непременной духовной предпосылкой осуществления человеком своего предназначения, поскольку только человек, глубоко чувствующий существование Бога как абсолютной разумной основы всего бытия, способен дать «возможный максимум ценности в стремлении как прогрессировать самому в смысле развития всей глубины содержания нашего духа, так и содействовать достижению заветного идеала всеобщего братства». Главную этическую обязанность человека профессор видел в том, чтобы «активно и свободно участвовать в процессе реализации добра, в очеловечении человечества, в одухотворении окружающего нас мира, в содействии наступлению царства Божия». Источником, освящающим исполнение этой многотрудной миссии, должны были стать заповеди «Будьте совершенны, как Отец ваш небесный» и «Возлюби ближнего, как самого себя». Признавая недостижимость этих двух абсолютных идеалов, И.В. Михайловский тем не менее не ставил под сомнение их содержание и разумность, вытекающие из самой природы человека [12. С. 3]. Религия признавалась И.В. Михайловским основой истинно-человеческой жизни, истинного прогресса, освобождения человека от демонов злобы, зависти, жадности, эгоизма, гордыни и др. Близость народа к осуществлению идеала всеобщего братства он ста- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 100 вил в прямую зависимость от развитости религиозного чувства в противовес низменным инстинктам, свойствам дикости, зверства и злобы. Бедствия же России в начале XX в., крушение социального и государственного уклада жизни рассматривались как следствие поразительного падения религиозности, а в качестве перспективы в условиях прогрессирующего антирелигиозного отщепенства рисовалась окончательная гибель народа. Перспективы создания прочного фундамента для будущего государственного здания И.В. Михайловский связывал с использованием элементов теократии. Соответствующий социальный идеал призван был придать будущему государству огромную ценность в деле осуществления идеи братства. И.В. Михайловский предрекал этой составляющей освободительного лозунга французской революции все возрастающее влияние по мере уяснения ее сущности. Поэтому и возможности церкви в прогрессивном движении культуры он оценивал весьма высоко. Речь при этом шла не о той церкви, что зажигала костры инквизиции, благословляла насилие, принимала деятельное участие в партийной политической борьбе, а о церкви в идеальном значении - как организации, вызванной глубочайшей потребностью человеческого духа - религией, которая всегда была и будет абсолютной ценностью [13. С. 24]. Религию философ воспринимал как некий светлый идеал, составлявший основу многовековой культуры, объединявший людей вне зависимости от их происхождения, учивший состраданию и взаимопомощи. Представление о церкви как носителе идеи братства наводит на мысль о стремлении И.В. Михайловского обеспечить преемственность этой социальной идеи с русскими православными традициями соборности, заключавшимися в гармонизации церковного и индивидуального начал, обеспечении церковного единства и внутреннего единства людей не принуждением, а на основе свободы и любви. Вместе с тем обращение к теократическому идеалу в поисках оптимальной модели будущего государственного устройства в данном случае не должно восприниматься как проявление присущих славянофилам симпатий к христианскому государству, жизнедеятельность которого проникнута религиозными вечными истинами и полностью подчинена им. Рассуждения И.В. Михайловского о пользе элементов теократии в конструировании идеального государства, скорее, сродни логике мышления М.М. Сперанского, в последнем произведении которого «Руководство к познанию законов» (1838) были объединены два момента: идеальная цель православного государства -направлять к нравственно доброму; основной принцип либерализма - поставить государство на защиту личной свободы и частной собственности [14. С. 91-92]. Убежденность в возможности согласования теократического и либерального идеалов, более того, - в том, что развитие доброго в христианском смысле возможно в обществе только тогда и настолько, когда и насколько в государственной жизни соблюдаются принципы либерального правового порядка, стала объединяющим звеном между воззрениями российских либералов двух эпох. Признание отечественными интеллектуалами приоритета религии, духовности в противовес рационализму Запада, по-видимому, можно расценивать как проявление специфики российского менталитета -доминирования веры над разумом. Опору для развития религиозного сознания либералы видели в традиционных религиозных воззрениях соотечественников, специфичными компонентами которых по сравнению с католичеством и протестантизмом являлись приоритет духовных, нравственных потребностей над материальными, гармонизация церковного и индивидуального начал на основе свободы и любви, апелляция к внутреннему чувству, к душе в поисках критериев истинности веры. Косвенным подтверждением такого рода суждений могут служить размышления профессора Томского университета по кафедре церковного права П.А. Прокошева о сущности религиозного кризиса в Западной Европе, связанного с возникновением модернистского течения. Симпатии профессора богословия к последнему очевидны, хотя и не выражались непосредственно. Основные мотивы модернизма, которому предрекалось будущее, выглядели в интерпретации П.А. Прокошева вполне созвучными православию и в то же время неприемлемыми для католицизма и протестантизма. В противовес католицизму, предусматривающему безусловный авторитет папы в вопросах веры, нетерпимое отношение к самостоятельному человеческому мышлению, позитивизм грубочувственных представлений о Боге, о душе, о загробной жизни и т.д., модернисты выдвигали на первый план начала индивидуальной совести, исторический критицизм и широкую свободу критического исследования священного текста. Вместе с тем они не могли согласиться и с предполагавшейся протестантизмом заменой авторитета церкви авторитетом разума, господством философского рационализма. За разумом в модернизме признавалась лишь способность содействовать уяснению внутренних религиозных переживаний. Источником же религии объявлялись не научное убеждение, не опыт разума, а внутреннее чувство, внутренний опыт человеческой души, ищущей Бога [15. С. 12-17]. Проповедь Бога, которого живущий по-божьи человек находит в глубине своей души, вместо Бога как отдаленного, умозрительно постигаемого монарха сближала модернизм с православием. Поэтому позитивное отношение П.А. Прокошева к модернизму в известной степени можно рассматривать как проекцию его православных предпочтений на оценку религиозной ситуации в Западной Европе. Взгляды Прокошева заслуживают внимания в контексте анализа взаимосвязи религиозных и либеральных ценностей ввиду особенностей его биографии. Павел Александрович родился в семье сельского дьяка, окончил семинарию, а затем Казанскую духовную академию, имел степень магистра богословия и с 1900 г. являлся профессором Томского университета по кафедре церковного права. В 1906 г. он вступил в «Союз 17 октября» и вошел в состав редакции издававшейся в Томске октябристской газеты «Время». Таким образом, как его религиозные убеждения, так и либераль- Харусь О.А. Христианство и либерализм: синтез ценностей в мировоззрении и политических практиках 101 ные настроения, по-видимому, не могут вызывать сомнений. Можно предположить, что эти ценностные установки профессора так или иначе проявлялись в его лекциях и выступлениях перед студенческой аудиторией. В Томском университете П.А. Прокошев читал курсы «Церковное право», «Римское право» и «Гражданское право», на Высших историко-философских курсах - курс истории отношений церкви и государства. Судя по всему, профессор умел выстроить заинтересованный диалог со своими слушателями. Хотя практические занятия по церковному праву, которые проводил Прокошев, не были обязательными, проходили они, как правило, в переполненной аудитории и отличались живым участием студентов в обсуждении вопросов курса [16. C. 200-201]. В целом интеллектуалы из числа либерально настроенной профессуры Томского университета, в равной степени демонстрировавшие приверженность как либеральным, так и религиозным ценностям, не могли не оказывать влияния на умонастроения определенной части населения города. Вместе с тем специфика их профессиональной позиции не предполагала активных практических действий на поприще реальной политики по отстаиванию соответствующих общественных идеалов. К примеру, И.В. Михайловский, сознательно и подчеркнуто дистанцировавшийся от какого бы то ни было участия в политике [17], считал безусловно недопустимым повиновение законам, стесняющим религиозные убеждения или свободу родного языка, со стороны тех, кто сознает их противоречие естественному праву. Но предлагавшиеся им формы противодействия подобным законам носили исключительно пассивный характер: он рекомендовал судье выйти в отставку, чтобы не быть вынужденным применять такие законы, а за населением признавал «обязанность неподчинения таким актам» [18. С. 219, 220, 378]. На уровне политических практик синтез либеральных и религиозных ценностей наиболее наглядно проявился в деятельности депутата III Государственной думы от Енисейской губернии, члена партии народной свободы Василия Андреевича Караулова. За ним прочно закрепилась репутация активного борца за свободу совести и в первую очередь за свободу вероисповедания. Законопроекты, в составлении которых он принимал самое непосредственное участие, а также выступления с трибуны Думы, зафиксированные в стенограммах заседаний, позволяют не только реконструировать взгляды и убеждения Василия Андреевича, но и оценить последовательность его действий в отстаивании этих убеждений и претворении их в жизнь. Различные аспекты политического опыта В.А. Караулова, в котором ярко воплотился синтез либеральной и национальнокультурной традиции, получили освещение в целом ряде научных работ [7, 19, 20]. Это обстоятельство позволяет ограничиться сюжетами, не затронутыми исследователями, с акцентированием внимания на центральной проблеме данной статьи - выявлении сопряженности христианских и либеральных ценностей в политической культуре сибирских либералов в начале XX в. В.А. Караулов известен как активный участник либерального движения в Сибири, стоявший у его истоков. Он являлся одним из основателей красноярского «Союза освобождения», входил в состав учредителей местного отдела конституционно-демократической партии и был избран членом губернского комитета партии. Ему принадлежала инициатива создания широкой сети кадетских организаций в городах Енисейской губернии. В красноярском отделе партии В.А. Караулов уже в 1906 г. снискал репутацию лидера правого крыла. Оппоненты с левого фланга организации склонны были считать, что «политическое кредо Караулова имеет мало общего с программой партии народной свободы» [21. 1906. 22 марта]. В адрес Василия Андреевича звучали обвинения в ренегатстве и реакционности, поводом для которых служили заявления, с которыми кандидат в депутаты I Государственной думы выступал в ходе предвыборной кампании. В частности, Караулов объявил себя «монархистом и притом без республиканского камешка за пазухой» и провозгласил своим девизом формулу «Бог, царь, свобода и порядок» [22. Л. 3]. Очевидно, что по своим политическим убеждениям В.А. Караулов принадлежал к либерально-консервативному течению в общественном движении. Общий либерально-консервативный настрой ярко проявился в деятельности В.А. Караулова в качестве депутата III Государственной думы. Считая недопустимым превращение думской трибуны в место для провозглашения «чистых принципов», представитель Енисейской губернии решительно заявил о своем намерении принять активное участие в «органической работе» [23. Л. 63]. Будучи членом фракции партии народной свободы (ПНС), Караулов вошел в состав целого ряда думских комиссий: церковной, вероисповедной (товарищ председателя), старообрядческой (председатель), переселенческой (товарищ председателя), по рыболовству, по местному самоуправлению. Основным предметом его депутатской деятельности стали именно проблемы вероисповедания. Рефреном в выступлениях по этим проблемам звучали либеральные мотивы и прежде всего требование предоставления гражданам свободы совести, духовного и национального самоопределения. Целый ряд речей В.А. Караулова с думской трибуны был посвящен обличению церковной бюрократии, защите интересов белого духовенства, развитию идеи независимой организации православной церкви на началах свободы совести [24-28]. На отстаивание свободы религиозной совести сумел В.А. Караулов направить и работу возглавляемой им комиссии по старообрядческим делам [29]. Его выступление с докладом комиссии обеспечило проведение через Думу существенных изменений в действовавший закон о старообрядческих общинах (право проповедования, т.е. свобода религиозной пропаганды, замена разрешительного порядка при образовании общин явочным, утверждение избранных общиной духовных и должностных лиц их регистрацией). Этот успех комиссии фракция партии народной свободы расценила как важный с точки зрения создания прецедента в таких существенных вопросах законодательства, как избирательное право, образование обществ и союзов и т.п. В вероисповедной комиссии В.А. Караулов пытался отстоять легализацию вневероисповедного (атеисти- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 102 ческого) состояния граждан, но эти попытки не увенчались успехом. Тем не менее не без его активного участия все же удалось добиться некоторых выдержанных в духе либеральных ценностей поправок при рассмотрении правительственного законопроекта о переходе из одного исповедания в другое, а именно «расширить рамки свободы» посредством легитимации свободного перехода не только из одного христианского вероисповедания в другое, но и в нехристианское [30. С. 49]. Основой успеха фракции ПНС в области вероисповедных вопросов В.А. Караулов считал следование той самой тактике органической работы на принципах компромисса, которой он призывал придерживаться однопартийцев. Доказывая перспективность этой тактической линии, он приводил такой пример: при обсуждении правительственного законопроекта о правах старообрядцев фракция не ограничилась декларацией о безусловной свободе всякого вероисповедания, а взяла за основу законопроект, выработанный самими старообрядцами, и отстаивала их требования. И хотя этот законопроект был заблокирован Государственным Советом, подобный тактический маневр, по мнению В.А. Караулова, полностью оправдал себя, поскольку позволил удержать 15 млн старообрядцев от намечавшегося вступления в «Союз русского народа» и привлечь их симпатии на сторону кадетов [23. Л. 63]. Под знаменем свободы религиозной совести выступал В.А. Караулов и против антисемитизма думского большинства. Для обоснования своей позиции в этом вопросе он не считал достаточными ссылки на заповеди христианского вероучения и вынужден был усиливать аргументацию дополнительными доводами. Выступая против обсуждавшегося в Думе запрета евреям быть мировыми судьями, Караулов заявил протест против дискриминации еврейского народа «как христианин, ибо это противно духу учения Христа; как русский, ибо унизительно для национального самосознания ограждать права великого народа путем угнетения; как культурный человек, для которого возмутительно преследование целого народа; и наконец, как конституционалист, для которого самое важное - равенство всех перед законом, так как там, где есть народы-парии, там нет конституционного строя» [31. С. 72]. Приведенная цитата, пожалуй, как никакая другая де монстрирует не только политическое, но и жизненное кредо Василия Андреевича, основанное на органичном сочетании христианской религиозности, национальных культурных традиций и либеральных ценностей. Столь же органично эти идеалы сочетались в мировосприятии Д.Н. Беликова, И.В. Михайловского, П.А. Прокошева и других известных представителей русского христианского либерализма. Формирование уважительного отношения к прошлому, к историческим традициям рассматривалось либералами как важный компонент национального правового воспитания. Стремление приобщить россиян к цивилизованному гражданскому обществу путем распространения образования, социального воспитания, формирования правосознания при опоре на традиционные религиозные и нравственные ценности с учетом национальной самобытности может служить убедительным свидетельством зрелости либеральной культуры заимствования. Западническая ориентация либералов в самом общем виде не вызывает сомнений. Выход России из «заколдованного круга отсталости» они однозначно связывали с движением «со всеми цивилизованными народами по одному пути культурного прогресса... к одному общему идеалу - дать всем людям... возможность пользоваться благами света культуры на основах гражданской свободы и равенства» [21. 1905. 7 дек.]. Тем не менее нет ни малейших оснований для обвинения либеральных интеллектуалов в «слепом» копировании европейского опыта в России, поскольку они предусматривали адаптацию его элементов к почвенным условиям. И.В. Михайловский подчеркивал: «Вообще надобно с большим уважением и вниманием относиться к урокам истории, к вековым традициям и учреждениям: в них всегда мы откроем элементы истины, несмотря на все уклонения, наслоения, которыми нередко закрыты эти элементы» [13. С. 6]. Обращение либералов к религиозной традиции, безусловно, было одним из ярких проявлений уважительного отношения к историческому наследию Отечества в целом. В порядке гипотезы можно предположить, что либерально-христианский синтез содержит в себе потенциал для формирования общенационального консенсуса на основе согласования базовых национальных ценностей, пренебрегать которым, вероятно, было бы неправильно.
Ключевые слова
либерализм,
религия,
традиции,
идеология,
политикаАвторы
| Харусь Ольга Анатольевна | Томский государственный университет | доктор исторических наук, профессор кафедры истории и документоведения | kharus-olga@sibmail.com |
Всего: 1
Ссылки
Российский либерализм: исторические судьбы и перспективы : материалы Междунар. науч. конф. М. : РОССПЭН, 1999. 568 с.
Кара-Мурза А.А., Жукова О.А. Свобода и вера. Христианский либерализм в российской политической культуре. М. : ИФ РАН, 2011. 184 с.
Жукова О.А. Национальная культура и христианский либерализм. Об актуальности наследия И.С. Аксакова // Вопросы культурологии. 2011. № 7. С. 82-89.
Кара-Мурза А.А. На пути к христианскому либерализму эволюция концепции «свободы» в трудах Г.П. Федотова // Политическая концепто логия. 2015. № 1. С. 187-208.
Кара-Мурза А.А. О национальных вариантах либерализма и русской модели в частности // Политико-правовые практики российского либе рализма в начале ХХ в. : материалы Междунар. науч. конф. XI Муромцевские чтения. Орёл: ОРЛИК, 2019. Ч. III. С. 20-30.
Швечиков А.Н. Либерализм как идеология секуляризации // Известия Российского государственного педагогического университета им. А.Н. Гер цена. Общественные и гуманитарные науки. 2009. № 12 (89). С. 19-26.
Жукова О.А. К философии политической истории России: либерально-христианский синтез В.А. Караулова // Вопросы философии. 2011. № 6. С. 112-122.
Беликов Д.Н. Чудо как принадлежность откровения : публичная лекция. Томск, 1895. 31 с.
Беликов Д.Н. Речь, произнесенная в храме Императорского Томского университета 22 октября 1889 г. Томск, 1889. 6 с.
Шелохаев В.В. Дискуссионные проблемы истории русского либерализма в новейшей отечественной литературе // Российский либерализм в региональном измерении: идеи, структуры, тактики, лидеры. М. Рос. гуманитарный науч. фонд, 2008. С. 6-16.
Митрополит Томский и Сибирский григорианской ориентации Димитрий (Беликов) // Православное краеведение. Образование и православие. URL: http://www.orthedu.ru/kraeved/1868-10.html (дата обращения: 03.03.2022).
Михайловский И.В. Религия и народное образование. Новониколаевск : Русская польза, 1918. 8 с.
Михайловский И.В. Культурная миссия юристов. Правовые прелюдии к грядущей культуре. Томск, 1910. 27 с.
Леонтович В.В. История либерализма в России. 1762-1914. М. : Русский путь, 1995. 549 с.
Прокошев П.А. Религиозный кризис на Западе Европы. (Модернизм). Томск, 1911. 26 с.
Прокошев Павел Александрович // Профессора Томского университета: биографический словарь / отв. ред. С.Ф. Фоминых. Томск : Изд-во Том. ун-та, 1996. Вып. 1: 1887-1917. С. 199-201.
Харусь О.А. Революция в России: оценки и прогнозы либерала «вне политики» // Либералы и революция : Девятые Муромцевские чтения : сб. материалов Всерос. науч. конф., Орёл, 13-14 октября 2017 г. Орёл, 2017. С. 186-195.
Михайловский И.В. Очерки философии права. Томск, 1914. Т. 1. 625 с.
Кара-Мурза А.А. Василий Андреевич Караулов: «То, что я был каторжным, составляет мою гордость на всю мою жизнь..» // Российский либерализм: идеи и люди. М. : Новое изд-во, 2018. Т. II: XVII-XIX века. С. 77-96.
Селезнёв Ф.А. Судьба законопроекта о старообрядческих общинах (1905-1914) // Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. 2008. № 1. С. 130-140.
Голос Сибири. Красноярск.
Григорьев В.Ю. К истории свободной народной партии // Центр хранения и использования документации новейшей истории Красноярского края. Ф. 64. Оп. 10. Д. 22. Л. 1-9.
Протоколы конференции партии народной свободы 14-15 ноября 1909 г. // ГАРФ. Ф. 523. Оп. 1. Д. 9.
Караулов В.А. Церковные нужды и церковная бюрократия // Третья Государственная дума. Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 г. - 5 июня 1910 г. СПб. : Т-во «Екатерингофское печатное дело», 1910. Ч. II: Речи членов фракции. С. 51-57.
Караулов В.А. Земское представительство и положение духовенства // Третья Государственная дума. Фракция народной свободы в период октября 1909 г. - 5 июня 1910 г. СПб. : Т-во «Екатерингофское печатное дело», 1910. Ч. II: Речи членов фракции. С. 153-155.
Караулов В.А. Православная церковь и политика высшей иерархии // Третья Государственная дума. Сессия вторая. Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 г. - 2 июня 1909 г. СПб. : Т-во «Екатерингофское печатное дело», 1909. Ч. II: Речи членов фракции. С.178-182.
Караулов В.А. Христианство и свобода совести // Третья Государственная дума. Сессия вторая. Фракция народной свободы в период октября 1908 г. - 2 июня 1909 г. СПб. : Т-во «Екатерингофское печатное дело», 1909. Ч. II: Речи членов фракции. С. 201-205.
Караулов В.А. Церковно-приходские школы и сельское духовенство // Третья Государственная дума. Сессия четвертая. Фракция народной свободы в период 15 октября 1910 г. - 13 мая 1911 г. СПб. : Т-во «Екатерингофское печатное дело», 1911. Ч. II: Речи членов фракции. С. 64-68.
Караулов В.А. Православная церковь и старообрядчество // Третья Государственная дума. Сессия вторая. Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 г. - 2 июня 1909 г. СПб. : Т-во «Екатерингофское печатное дело», 1909. Ч. II: Речи членов фракции. С.178-182.
Третья Государственная дума. Сессия вторая. Фракция народной свободы в период 15 октября 1908 г. - 2 июня 1909 г. СПб. : Т-во «Екатерингофское печатное дело»", 1909. Ч. I: Отчет фракции. 59 с.
Третья Государственная дума. Фракция народной свободы в период 10 октября 1909 г. - 5 июня 1910 г. СПб. : Т-во «Екатерингофское печатное дело», 1910. Ч. I: Отчет фракции. 90 с.
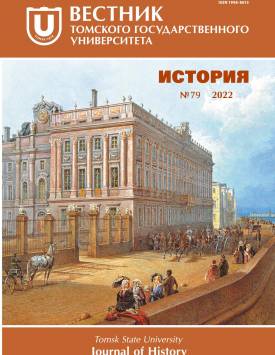

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью