Статья посвящена деятельности Всероссийского национального союза в годы Гражданской войны. Опираясь на материалы архивов (в первую очередь Государственного архива Российской Федерации) и газет, автор реконструирует последние годы существования партии русских националистов и делает вывод, что ВНС, оставшись без «прогрессивного» крыла, представлял из себя карликовую политическую группу, постепенно попавшую в зависимость от крайне правых. Лишь крушение белых армий предотвратило окончательное растворение ВНС в черносотенном движении. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
“Denikin views us certainly negatively having us done as a too much right-wing.”: All-russian national union in 1917-192.pdf Газета «Киевская мысль», подводя политические итоги революционного 1917 года, отмечала, что «партийные группировки, которые существовали в Государственной думе, совершенно стерлись. Националисты и октябристы совершенно исчезли. Часть октябристов образовала новые партии, совершенно неприметные, другая же часть их и националисты предпочли загримироваться под беспартийных» [1. С. 2]. Действительно, в 1917 г. произошло крушение всех правых и центристских организаций России. Этой судьбы не избежала и ведущая партия русских националистов - Всероссийский национальный союз (ВНС). Конечно, не лишено оснований и утверждение, что ВНС организационно фактически перестал существовать уже в 1915-1917 гг. [2. С. 73], но при этом говорить о полном и окончательном его распаде применительно к этому периоду все же нельзя. В действительности осколок ВНС продолжал существовать вплоть до 1920 г., возглавляемый тем же человеком, что и до революции - Петром Николаевичем Балашевым. Хотя, конечно, в годы Гражданской войны партия, имевшая с конца 1913 г. до лета 1915 г. крупнейшую думскую фракцию, влачила жалкое существование. К сожалению, этот последний период истории ВНС практически не исследован. Одним из немногих, кто упоминал о деятельности партии националистов в годы Гражданской войны, был А.И. Деникин. В своих «Очерках русской смуты» экс-главком Вооруженных сил Юга России, характеризуя ВНС как умеренно правую организацию, отмечал, что его работа шла тихо и что он конкурировал с Южнорусским национальным центром В.В. Шульгина [3. С. 159]. Советский историк Г.З. Иоффе, утверждая, что ВНС занимал «близкую позицию к группе Шульгина», относил его к организациям «черносотенного и получерносотенного типа» [4. С. 240, 244]. Из современной научной литературы можно отметить статью Я.А. Бутакова, посвященную деятельности русских националистов на Юге России в 1919 г. Впрочем, ВНС упоминается в ней мимоходом [5. С. 14, 23], а сама статья преимущественно основана на изучении материалов лишь одного архивного дела из собрания ГАРФ, содержащего сводки Информационной части Отдела пропаганды Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР о политических партиях и общественных организациях Юга России. Хотя эти сводки являются чуть ли не единственным источником по истории ВНС в 1919 г., полностью доверять им нельзя, что мы и покажем в дальнейшем. К тому же сводка № 1 от 25 мая 1919 г., часть которой посвящена непосредственно ВНС, по воле судьбы оказалась в другом деле того же фонда, которое Бутаковым привлечено не было. Один из ведущих специалистов по истории ВНС С.М. Санькова утверждает, что «с падением монархии ВНС прекратил существование» [6. С. 95], правда, оговаривается, что П.Н. Балашев в июле 1919 г. безуспешно пытался воссоздать ВНС на Юге России [7. С. 42]. Кроме того, можно упомянуть две статьи А.А. Иванова: в первой описано отношение русских националистов к Февральской революции, но при этом основное внимание уделяется прогрессивным националистам, фактически к тому времени отмежевавшимся от ВНС; во второй рассмотрены судьбы некоторых лидеров ВНС после 1917 г., но в ней упор делается именно на биографии отдельных людей, а не на историю партии как таковой [8, 9]. К началу Февральской революции прошло уже полтора года с момента раскола думских русских националистов на «правых» и «левых» - собственно Русскую национальную фракцию во главе с П.Н. Балашевым (50 депутатов по состоянию на 24 января 1917 г.) и группу националистов-прогрессистов во главе с В.А. Бобринским, В.В. Шульгиным и А.И. Савенко (35 депутатов) [10. Л. 10]. К этому времени низовые структуры ВНС и родственных ему организаций, таких как Всероссийский национальный клуб (ВНК), практически не функционировали. Во время событий конца февраля - начала марта 1917 г. лидеры ВНС бездействовали. Националист М.Е. Акацатов вспоминал, что «увидел полную растерянность среди большинства своих единомышленников». По его словам, он решил действовать и напечатал в Национальном клубе на ротаторе воззвание к офицерам с предложением собраться и образовать офицерский союз. Не успел он расклеить по городу свои воззвания, как к нему на квартиру пришли лидер ВНС П.Н. Балашев и еще один депутат-националист П.А. Сафонов. В присутствии свидетелей Балашев сказал Акацатову: «Что вы делаете? Нас всех перережут» [11. С. 2]. В начале марта 1917 г. была закрыта близкая к ВНС газета «Голос Руси» [12. С. 6], но на первое время этим все и ограничилось. Никаких официальных документов, свидетельствующих о запрете самого ВНС, нам обнаружить пока что не удалось. Скорее всего, их и не было. Члены ВНС могли продолжать заниматься политической деятельностью в частном порядке (так, например, Балашев выступал на частных совещаниях членов Государственной думы [13. С. 221-223] и принял участие в работе московского Государственного совещания 12-15 августа 1917 г. [14. С. 79]), но открытое выступление под старыми знаменами в 1917 г. было невозможно. Несмотря на все предосторожности, лидер ВНС не смог уберечься от внимания со стороны новых революционных властей. В конце августа 1917 г. в связи с корниловским выступлением и по распоряжению министра-председателя Временного правительства А.Ф. Керенского Балашев был арестован контрразведывательным отделением и содержался в Первом комендантском управлении [15. Л. 2]. Через какое-то время после освобождения он, по всей видимости, перебрался на Украину. По некоторым данным (впрочем, не вызывающим однозначного доверия), Балашев участ- Чемакин А.А. «Деникин относится к нам определенно отрицательно, считая нас слишком правыми...» 107 вовал в киевском съезде «хлеборобов» 29 апреля 1918 г., избравшем гетмана Украинской державы. Согласно словам графа Д.Ф. Гейдена, дошедшим до нас в пересказе украинского деятеля Н.Э. Короля, лидер ВНС присутствовал за кулисами цирка и вместе с другими консерваторами настаивал на том, что в соответствии с украинской традицией гетманом должен быть человек военный, тем самым фактически поддерживая кандидатуру П.П. Скоропадского [16. С. 14]. К этому времени Украина была чуть ли не единственным регионом, где русские националисты могли действовать более или менее открыто. Еще в 1917 г. в уездном городе Радомысле на базе осколков ВНС и черносотенных организаций возникла «Славянская громада», во главе которой встал правый националист К.П. Григорович-Барский, депутат IV Думы от Киевской губернии. В годы Перовой мировой войны он совместно с депутатами от Подольской губернии П.Н. Балашевым и Н.Н. Можайским участвовал в работе Юго-Западного областного земского комитета помощи больным и раненым на войне, созданного в противовес Всероссийскому земскому союзу и обладавшего значительными финансовыми и транспортными ресурсами. Несмотря на то, что после революции Гри-горович-Барский был изгнан из городской управы, он, благодаря ресурсам комитета и голосам мещан, смог стать гласным Радомысльской думы и уездного земства. Местные украинские деятели жаловались на то, что Григорович-Барский выступает в Городской думе в поддержку Л.Г. Корнилова, а его организация «жива и проводит работу» несмотря на то, что другой ее лидер, П.Н. Балашев, арестован «как контрреволюционер» (имеется в виду описанный выше кратковременный арест Балашева в дни корниловского выступления) [17. С. 1-2; 18. С. 2; 19. С. 2]. В дальнейшем «Славянская громада» вошла в состав Внепартийного блока русских избирателей (ВБРИ), организованного прогрессивными националистами В.В. Шульгиным и А.И. Савенко, и во время выборов в Учредительное собрание показала один из лучших результатов «русского списка» в губернии: в Радомысле ВБРИ занял второе место, обойдя украинский список и уступив лишь еврейскому [20. С. 175], а на одном из участков даже смог занять первое место [21. Л. 3-3 об.], что за пределами Киева - «столицы» русского национализма, было явлением исключительным. Но этот единственный электоральный успех правых националистов был в первую очередь следствием трудов Григоровича-Барского и союза с прогрессивными националистами, и его вряд ли можно записать в актив ВНС. При власти гетмана Скоропадского русские националисты действовали вполне легально, а некоторые из лидеров ВНС даже получили назначения на государственные должности новосозданной Украинской державы. Так, например, товарищ председателя ВНС А.А. Потоцкий стал поветовым старостой Летичевско-го повета Подольской губернии. Забегая вперед, можно отметить, что в конце 1918 г. он оказался одним из немногих гетманских администраторов, попытавшихся оказать сопротивление повстанцам, возглавил конный отряд Державной варты и после кровопролитных боев отступил на территорию Румынии [22. С. 150; 23. С. 404]. Активное участие члены ВНС приняли в организации монархического движения на Украине. 18-20 июля 1918 г. в Киеве состоялся монархический съезд, замаскированный под съезд украинских консервативных деятелей. Согласно материалам прессы, большинство участников съезда составляли монархисты-абсолютисты, но на нем с правом совещательного голоса присутствовали и националисты, защищавшие идею конституционной монархии [24. С. 4]. Хотя в составленном в начале августа 1918 г. списке организаций, вошедших в Монархический блок, ВНС не упомянут, среди лидеров блока оказались видные его члены Ф.Н. Безак (экс-председатель киевского отдела ВНС) и К.П. Григорович-Барский [25. Л. 1]. Впрочем, похоже, что ВНС вступил в Монархический блок месяц спустя. По сведениям сотрудников тайной организации «Азбука», передаваемым в Екатеринодар, в сентябре 1918 г. в Киеве «состоялось большое монархическое совещание, на котором заключено соглашение между крайними правыми и националистами групп Балашева и Владимира Бобринского» [26. Л. 128 об.]. При этом В.А. Бобринский, в прошлом глава фракции прогрессивных националистов и оппонент Балашева, был одним из руководителей монархического Союза «Наша Родина», в состав которого, наряду с другими организациями, также входили представители Всероссийского национального клуба и Всероссийского национального союза [27. Л. 3] (правда, стоит отметить, что А.И. Деникин называл ВНС, ВНК и другие партии и движения, вошедшие в состав «Нашей Родины», «полумифическими» [28. С. 119]). Кроме того, осенью 1918 г. в Киеве находились члены ВНС и экс-депутаты Государственной думы Г.М. Дерюгин, Н.Н. Лавриновский, А.П. Горсткин и В.Г. Ветчинин, называвшие себя «Советом обороны Северо-западной области» и занятые формированием «Северной армии» в Пскове [29. С. 51]. Интересно, что при описании участников совещаний, проводимых представителем главнокомандующего Добровольческой армии в Киеве, Ф.Н. Безак отнесен к делегатам от «монархических организаций», в то время как «националисты» выделены в отдельную группу, и их представителями названы именно В.Г. Ветчинин и А.П. Горсткин [26. Л. 294 об.]. Таким образом, летом-осенью 1918 г. низовые структуры партии националистов никак себя не проявляли, но некоторые ее видные деятели участвовали в работе киевских монархических организаций, формально выступая от имени ВНС. При этом сам лидер ВНС П.Н. Балашев не принимал активного участия в политической жизни Киева и находился на вторых ролях, а в конце октября 1918 г. и вовсе перебрался в Екате-ринодар. Именно на территории Добровольческой армии с весны 1919 г. он начал предпринимать шаги по активизации деятельности партии. 25 мая 1919 г. начальник Информационной части Отдела пропаганды Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР полковник В.М. Бек сообщал генералу А.М. Драгомирову и профессору К.Н. Соколову, что ВНС - «организация, примыкающая по своей Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 108 программе к правому крылу, но гораздо более умеренная» - как нечто цельное на Юго-Востоке России не выявлен. Но при этом Беку удалось с помощью агентурной работы получить некоторые сведения о ВНС (который он именует «почти умершим») как непосредственно от его председателя П.Н. Балашева, так и от других видных членов [30. Л. 1 об., 2 об.]. Так, Балашев сообщил, что «членов Центрального комитета Союза в Екатеринодаре всего несколько человек, зато нужно сказать, что эти немногие, собравшиеся здесь, являются наиболее крупными членами Союза», и назвал имена В.В. Шульгина, князя К.М. Шаховского, В.Г. Ветчини-на и Н.В. Савича [Там же. Л. 14]. Особенно интересны в данном контексте первая и последняя фамилии. Очевидно, Балашев продолжал считать Шульгина членом ВНС, несмотря на раскол фракции еще в 1915 г. Действительно, у нас нет никакой информации о том, что Шульгин вышел из партии, но также нет и информации, подтверждающей его работу в структурах ВНС после раскола. По крайней мере очевидно, что раскол фракции никак не отразился на личных отношениях Шульгина и Балашева. Когда осенью 1918 г. Балашев с сыном, заболевшие по дороге «испанкой», приехали в Екатеринодар, за ними ухаживала секретарь (и по совместительству любовница) Шульгина Л.А. Попова, заразившаяся, по всей видимости, именно от них и вскоре умершая [31. С. 213]. И впоследствии Шульгин называл Балашева своим другом, а Петр Николаевич уже в годы эмиграции приглашал Василия Витальевича в Марокко, где проживал сам, и предлагал помощь в приискании работы [Там же. С. 292, 402]. Также у нас нет сведений из других источников и о членстве в ВНС Н.В. Савича, ранее состоявшего во фракции земцев-октябристов; Балашев единственный, кто об этом упоминает. Нельзя исключать, что Петр Николаевич сознательно блефовал, стараясь поднять значимость своей партии. Балашев сообщал, что «как определенная политическая партия мы сейчас выступлений не делаем, а тем более не вступаем в какую-либо борьбу и соглашения с другими политическими организациями и партиями», но это происходит «не потому, что мы чувствуем себя слабыми», а по той простой причине, что неуместно и неэтично «заниматься какими-либо политическими дрязгами и интригами или вести политическую борьбу, когда необходимо мобилизовать все силы на помощь фронту для создания Единой России». В связи с этим он критиковал кадетов, которые «сейчас зашевелились и опять создают различные политические группировки, как Национальный центр и прочее». При этом и члены ВНС делают некоторые политические шаги, «если это необходимо в интересах нашей партии». Балашев даже хвастался, что «до сих пор не было случая, чтобы мы потерпели неудачу», а в качестве примера успеха приводил проведение Н.В. Савича в члены Особого совещания. «Но мы находим нежелательным действовать в данное время особенно активно еще потому, что события работают сами за нас, укрепляя общество и народ в правоте наших взглядов, - продолжал лидер ВНС. - Мы монархисты, мы считаем монархию необходимым условием создания Единой Великой России, без нее русский народ никогда не увидит могучей России». Балашев сообщал, что ВНС признает и считает необходимым существование при монархе палат, как верхней, так и нижней, но созданных не при помощи всеобщего избирательного права. Программу свою ВНС не изменял и не планировал изменять в будущем [30. Л. 14]. ВНС поддерживал Добровольческую армию, несмотря на крайне недоброжелательное отношение к нему со стороны высшего командного состава. По словам Балашева, генералы А.С. Лукомский и А.М. Драгоми-ров для лидеров ВНС были непонятны, и поэтому «ни в какие официальные сношения от имени партии мы с ними не вступали». Деникин же относился к ВНС «определенно отрицательно, считая нас слишком правыми». Из-за этого прямых сношений с ним партия иметь не могла, и в случае необходимости ей приходилось действовать через более левые организации [Там же]. По словам Балашева, члены ВНС считали Деникина «большим поборником взглядов партии к. -д. (кадетов. - А.Ч.), хотя нужно сказать, что, когда ему говорят, что он близок к к.-д., он сердится. Отношение наших к адмиралу Колчаку неопределенное - он для нас сфинкс. С одной стороны, мы считаем, что Колчак как человек большого честолюбия, воли и сильного характера не может быть истинным поборником народоправства, но, с другой стороны, многие факты показывают совершенно обратное. Что из себя он представляет на самом деле, покажет близкое будущее» [Там же. Л. 14-14 об.]. В 20-х числах июня 1919 г. в очередной сводке начальник Информационной части сообщал, что руководящая роль среди русских национальных партий в самом непродолжительном будущем перейдет к ВНС и его руководителям П.Н. Балашеву и В.В. Шульгину: «Во всяком случае попытки к этому со стороны Всероссийского национального союза уже сделаны, и есть полное основание предполагать, что они увенчаются успехом. Всероссийский национальный союз за это время вернулся к активной деятельности, которой не занимался со времени эвакуации Одессы, где помещался Центральный комитет Союза, разбредшийся в разные стороны. Активную работу начал вести организационный отдел Союза, который надеется вскоре получить большие денежные средства, столь необходимые в этой работе. Если Союзу удастся стать во главе организуемого Национального блока и использовать должным образом все входящие в него партии и общества, то успех ему обеспечен. Необходимым условием руководства и работы в блоке Союз ставит полное отсутствие в нем крайних монархических партий и течений, особенно германской ориентации» [32. Л. 47-47 об.]. По всей видимости, автор донесения смешивает группы П.Н. Балашева и В.В. Шульгина, так как в Одессе находился руководящий орган шульгинского Южнорусского национального центра (ЮРНЦ), а не ВНС. Можно предположить, что и эта информация была получена от Балашева, который приписывал своей партии заслуги шульгинской организации на том основании, что де-юре Шульгин оставался членом ВНС. Чемакин А.А. «Деникин относится к нам определенно отрицательно, считая нас слишком правыми...» 109 Впрочем, уже в следующих донесениях все встает на свои места. В конце июня прошли переговоры о создании блока, в которых участвовали Союз русских национальных общин (СРНО), партия «Единая Русь», ВНС и ЮРНЦ, причем шульгинский ЮРНЦ «принимает сейчас все меры, чтобы совершенно отмежеваться от Всероссийского национального союза, существующего во главе с П.Н. Балашевым», так как имелись данные, что последним руководит Г.Г. Замысловский (в прошлом депутат Государственной думы и один из лидеров Союза русского народа). Специально оговаривалось, что В.В. Шульгин ушел из ВНС «теперь совершенно, а фактически еще в 1915 г.» [Там же. Л. 62 об.-63]. С 14 по 20 июля 1919 г. в Ессентуках прошел съезд Союза русских национальных общин, в котором приняли участие и члены ВНС. В донесении командованию ВСЮР говорилось, что «из партий, принимавших участие в съезде, необходимо остановиться на Всероссийском национальном союзе и Южнорусском национальном центре, так как эти организации, перейдя к активной работе, вследствие большого сходства программ и одинаковой тактики, которую они думают принять в своей работе, по крайней мере на ближайшее время, силою вещей или должны слиться в одну партию, или же вступить в борьбу» с целью получить руководящее значение [Там же. Л. 76 об.-77]. ЮРНЦ представлял член шульгинской «Азбуки» штабс-капитан П.М. Виридарский, ВНС - бывший депутат Государственной думы от Псковской губернии князь К.М. Шаховской, а П.Н. Балашев, по всей видимости, присутствовал на съезде в качестве гостя (совместно с экс-председателем Думы М.В. Родзянко) [33. С. 3]. В ходе заседаний ясно проявлялось стремление Вири-дарского и Шаховского «получить доминирующее значение и взять в свои руки руководство съездом. Это последнее удалось достигнуть Виридарскому, который вел съезд в желательном для себя духе, благодаря чему он сумел подготовить почву таким образом, что если В.В. Шульгин захотел бы стать (возможность чего не исключена) во главе Русского национального блока, то это совершилось бы без труда» [32. Л. 77]. Правда, в другом донесении, заслуживающем, на наш взгляд, большего доверия, говорится, что и Виридарский, и Шаховской, «принимавшие весьма деятельное участие в работах съезда» в качестве представителей «родственных национальных организаций», в большинстве случаев выступали в роли оппозиции [Там же. Л. 85]. В ходе работы съезда Шаховской вошел в комиссию по выработке политической программы СРНО [Там же. Л. 80 об.], но при этом предложил пока что ограничиться лишь краткой политической декларацией [34. С. 2]. При обсуждении устава СРНО он предлагал добавить фразу о том, что «государственные правовые нормы не должны стеснять религиозных, национальных и культурных особенностей народностей, вошедших в государство Российское своими историческими территориями»; поправка эта была принята [32. Л. 81]. В это же время работа ВНС была направлена «к возможно большему привлечению членов и изысканию денежных средств. Последнее, по словам председателя Союза Балашева, ему вполне удалось. Средства Бала-шеву, по его словам, нужны, кроме исполнения задач, которые стоят перед союзом на Юге России, для развития деятельности в Сибири, а в частности для поездки туда членов Союза для выяснения, что представляет из себя Всероссийский национальный союз, образовавшийся в Сибири, кажется, как блок всех государственно-мыслящих партий, ставящих задачей восстановление России» [Там же. Л. 77]. Дело в том, что в январе 1919 г. в Сибири образовалась организация, также именовавшая себя Всероссийским национальным союзом (про данный Национальный союз подробнее см.: [35. С. 149-150]), и Балашева интересовало, не имеет ли она отношения к его ВНС? В действительности же из ее декларации можно было сделать вывод о том, что это организация кадетского толка, по взглядам намного более близкая к Всероссийскому национальному центру, а не к балашевскому ВНС [32. Л. 77, 87-88 об.]. В сводках за начало августа сообщалось, что ВНС «активности не проявляет, возможно, за отсутствием средств и связи с простым народом, так как во главе Союза стоят пока только крупные земельные собственники: Балашев, кн[язь] Шаховской и пр., за которыми простой народ, конечно, не пойдет» [Там же. Л. 91 об.-92]. Во второй половине августа появилась информация о якобы имевшем место слиянии Совета государственного объединения России (СГОР) с партией «Единая Русь» и ВНС, что должно было вылиться, согласно плану экс-министра А.В. Кривошеина, в создание единой «Русской национальной партии»; «пока же деятельность всех перечисленных партий выражается в словоговорении, что едва ли даст им возможность приобрести какое-либо значение на политической арене» [Там же. Л. 113 об.]. Согласно сообщению от 21 августа, Центральный комитет ВНС располагался в Кисловодске, впрочем, никакой деятельности он не проводил. Кисловодск же сделался монархическим центром «по причине элемента, который сосредоточен туда со всех концов России. Этот элемент состоит из бывшей чиновной и родовой аристократии и всякого рода бывших сановников» [Там же. Л. 119]. 6 сентября из Терской области сообщалось, что число членов ВНС, группирующихся вокруг Балашева, «невелико, и активности он не проявляет, да едва ли и будет в состоянии проявить таковую в будущем» [Там же. Л. 137 об.]. Согласно сводке от начала октября 1919 г., ВНС деятельности почти не ведет, заседаний не проводит, а число членов, «и вообще небольшое, заметно редеет ввиду отъезда многих из них в местности, освобожденные от большевиков и... окончания летнего сезона» [Там же. Л. 207]. В конце октября якобы активизировались переговоры о создании единого русского блока, в который должны были войти партия СГОР, Внепартийный русский блок, «какая-то новая партия, создаваемая Бала-шевым и Шульгиным», Всероссийский союз русских национальных общин и Временный Всероссийский союз земельных собственников. Блок этот предполагалось противопоставить кадетскому Всероссийскому национальному центру в момент формирования Юж- Проблемы отечественной истории /Problems of history of Russia 110 норусского правительства. Пока же проект находился «в стадии предварительных переговоров, в которых наиболее активную роль играют Балашев и Шульгин» [32. Л. 254]. Выглядит данная информация не вполне правдоподобно, так как Шульгин и Балашев находились в разных городах (первый - в окруженном с трех сторон Киеве, второй - в Кисловодске), а с транспортом и связью в те дни были серьезные проблемы. Возможно, сведения были опять же получены от самого Балашева, который хотел повысить значимость своей персоны. В том же донесении сообщалось, что Балашев, который получил в руки источники своего дохода, «носится с идеей создания какой-то новой партии, которая должна объединить на широкой платформе все существующие на Юге России монархические партии без различия ориентации и программы» [Там же. Л. 259]. Такая информация могла исходить, скорее всего, от самого Балашева, что повышает вероятность того, что и в предыдущем случае инсайдером был именно он. Впрочем, новость о получении Балашевым денег выглядит вполне достоверной - следствием этого стала активизация ВНС в начале следующего месяца. 11 ноября 1919 г. в ростовском «Вечернем времени», редактируемом Б.А. Сувориным, появилось воззвание «К русским людям» от имени члена Временного высшего церковного управления Юго-Востока России архиепископа Таврического Димитрия (Абашидзе) и по уполномочию группы лиц: П.Н. Балашева, Н.Н. Можайского, князя К.М. Шаховского, Н.Н. Карташова, Г.А. Кочубея, А.И. Иваницкого, А.А. Салова. В начале воззвания описывались обрушившиеся на Россию бедствия, а затем отмечалось, что хотя «вдали видны уже златоверхие купола Москвы, но не испита еще чаша страдания нашего», и поэтому надо укреплять тыл и стеной встать «вслед за своими героями, когда они борются на фронте». Необходимо иметь мужество сознаться, как на исповеди, что слабость русского народа была в недостаточности национального чувства. Лишь осознав это, можно понять, «кто виновник неслыханного позора и разорения трудящегося русского народа». Если же русские люди не окажут дружной поддержки фронту, не дадут отпора врагам, копошащимся в тылу и ведущим «разрушительную самостийную и большевицкую работу», то подвиги добровольцев и казаков будут напрасны. «Веря, что доблестью и кровью лучших сынов воскреснет наша Великая Мать [Россия], зовем всех русских людей объединиться в дружную братскую семью для защиты державных прав русского народа и самобытных прав казачества в его историческом укладе - во имя восстановления Церкви Христовой в нетленной чистоте Ее и государства нашего в прежнем его могуществе и единстве. Так мыслим, так веруем, так исповедуем мы, русские националисты». Всех разделяющих эту мысль просили образовывать повсюду местные национальные группы, а также записываться и сообщать свои адреса в бюро инициативной группы, расположившееся в конторе «Вечернего времени» (ул. Большая Садовая, д. 100). В начале декабря предполагалось провести съезд в Ростове-на-Дону [36. С. 2]. Ростовские газеты перепечатали сообщение информационного агентства «Руссаген» о том, что в «политических кругах отмечается появление на политической арене партии националистов», которая созывает свой организационный съезд. Вместе с сообщением приводился список членов инициативной группы, причем, в отличие от списка из «Вечернего времени», в нем не был указан Можайский, зато присутствовал некий Карнеев [37. С. 2; 38. С. 2; 39. С. 2]. Примечательно, что на первое место среди лидеров возрожденного ВНС было поставлено духовное лицо -архиепископ Димитрий (князь Давид Ильич Абашидзе, после пострига в великую схиму - схиархиепископ Антоний) - видный церковный деятель, в прошлом почетный председатель Таврического отдела Русского собрания. После гражданской войны он остался в России, в 1920-1930-е гг. неоднократно подвергался репрессиям. Не признав декларации митрополита Сергия (Стра-городского), совершал тайные службы и рукоположения, почитался одним из лидеров киевской группы Катакомбной церкви. В 2011 г. он был канонизирован как местночтимый святой Киевской епархии УПЦ. Также интересна фигура Георгия Александровича Кочубея. В прошлом член Монархического блока и Совета обороны Киева [40], он после прихода к власти петлюровцев перебрался сначала в Одессу, а затем на Дон. Здесь он вошел в состав так называемого «Анонимного центра» - тайной монархической организации. Д.Б. Бологовский, один из лидеров «Анонимного центра», вспоминал: «Георгий Александрович Кочубей тоже недавно появился на нашем горизонте; весной 1919 г., кажется, в апреле, он откуда-то неожиданно появился среди нас и сразу принял начальственный тон; он был откуда-то кем-то (теперь я уже не помню, но кем-то чрезвычайно важным из чрезвычайно важного места) командирован, как он говорил, для объединения всех монархических организаций Юга России» [41. Л. 4]. Кочубей обещал достать деньги от местных коммерческих кругов, с которыми он вел переговоры, но в итоге, по словам Бологовского, «мы от Кочубея денег не получили и так и остались необъединенными. Этот легкий уклон Георг[ия] Алек[сан-дровича] в сторону хлестаковщины слегка охладил наши отношения к Георг[ию] Александровичу], но, впрочем, не совсем» [Там же. Л. 5]. Появление Кочубея среди руководства партии националистов весьма примечательно - возможно, он специально был направлен к Балашеву «Анонимным центром» для установления контроля над ВНС («Анонимный центр» через своих членов влиял на деятельность таких организаций, как Русское общественное собрание, Национал-либеральная партия монархистов-конституционалистов, Союз русских национальных общин, Всероссийская народно-государственная партия). Кроме того, еще в начале августа сообщалось, что в ВНС «за последнее время произошел сильный сдвиг в сторону правых монархических организаций, что явствует в числе других данных и из приглашения для работы в Союзе известного представителя правых монархических организаций Комиссарова, личность коего, как крайне правого, хорошо известна и здесь, на Дону, и еще раньше в Москве. За свою деятельность он 3 раза под- Чемакин А.А. «Деникин относится к нам определенно отрицательно, считая нас слишком правыми...» 111 вергся выселению из Ростова» [32. Л. 91 об.]. Упомянутый в донесении генерал-майор М.С. Комиссаров, в прошлом помощник начальника Петроградского охранного отделения, отвечавший за охрану Г.Е. Распутина, и ростовский градоначальник, также был одним из лидеров «Анонимного центра» [41. Л. 2-3]. Сюда же можно добавить и упоминаемые выше сведения о том, что Балашевым руководил черносотенец Замысловский. Создается впечатление, что ВНС попал в серьезную зависимость от крайне правых кругов. Анонсированный съезд так и не состоялся из-за крушения фронта ВСЮР и оставления Ростова. ВНС, по всей видимости, окончательно прекратил свое существование в начале 1920 г., после эвакуации деникинских войск из Новороссийска. Одно из последних упоминаний партии националистов можно встретить в новороссийской газете «Маяк» в феврале 1920 г. В этой газете было опубликовано интервью «члена совета Всероссийской национальной партии» (возможно, это было новое название ВНС, использовавшееся после своеобразного «ребрендинга» организации осенью 1919 г.) Г.А. Кочубея, который поделился с журналистом своими впечатлениями о поездке в Полтаву, Харьков, Киев, Одессу и Ставрополь. Кочубей описал царившие в тылу разруху и беззастенчивое взяточничество, раскритиковал использование чеченских частей, настроенных чрезвычайно враждебно к русскому населению Ставрополья, но в конце интервью все же посчитал нужным заявить, что «в благополучном исходе борьбы сомнений быть не может» [42. С. 2]. Во врангелевском Крыму ВНС уже никаких признаков жизни не подавал. В качестве курьеза можно отметить, что упоминаемый выше Г.А. Кочубей стал одним из лидеров Украинской федеративно-демократической партии (УФДП), созданной в Севастополе осенью 1920 г. УФДП выразила готовность оказать всемерную поддержку правительству и поставила своей задачей «организацию власти на Украине на федеративных началах в единении с Россией и широкое проведение на Украине народных реформ, связанных с укладом жизни и бытовыми особенностями Украины» [43. С. 4]. В качестве объяснения этого странного факта можно предположить, что Кочубею и другим новоявленным «федералистам» в свете новой политики П.Н. Врангеля на украинском направлении было поручено изображать из себя «украинцев», лояльных России и крымским властям. В любом случае в создавшихся условиях необходимости в восстановлении ВНС не просматривалось. В эмиграции никаких попыток воссоздать партию националистов также не последовало. Лидер ВНС П.Н. Балашев эмигрировал, жил сначала во Франции, а затем в Марокко. Точная дата его смерти пока что не установлена, но по свидетельству К.Ф. Безак, дочери Ф.Н. Безака, Балашев пережил Вторую мировую войну и в 1950 г. все также проживал в Марокко [14. С. 79]. В исторической науке давно обсуждается вопрос о месте ВНС в партийно-политической системе России. Одни считают ВНС «умеренно-реформаторским крылом черной сотни», другие «либеральными консерваторами», третьи «национал-либералами», четвертые «правыми национал-конституционалистами» [44. С. 171]. Послереволюционная судьба партии русских националистов позволяет высказать некоторые мысли по этому поводу. С одной стороны, после 1917 г. партийный «бренд» за собой сохранила группа правых националистов во главе с П.Н. Балашевым, тяготеющая к сотрудничеству с черносотенцами. Но, с другой стороны, лишившись «национально-прогрессивного» крыла, она превратилась в карликовую группу, попавшую в зависимость от крайне правых. В годы Гражданской войны и черносотенцы, и прогрессивные националисты играли заметную роль в политической жизни южных регионов России, в то время как «бала-шевское» крыло ВНС, пытавшееся, как и раньше, занимать срединное положение между ними (правда, со все более увеличивающимся креном вправо), потеряло какое-либо влияние и значение. Таким образом, на наш взгляд, основную, системообразующую роль в дореволюционной деятельности и идеологии ВНС играли именно прогрессивные националисты (хотя по формальным критериям, таким как количество депутатов в Думе, они уступали «балашевцам»). Оставшись без «прогрессивного» крыла, ВНС потерял всю свою специфику, и в перспективе - если бы не поражение белого движения - он, вероятно, растворился бы среди организаций черносотенного толка. В то же время настоящими идейными наследниками ВНС образца первой половины 1910-х гг. были прогрессивные националисты во главе с В.В. Шульгиным, деятельность которых заслуживает отдельного рассмотрения.
Сумский С. Политические партии // Киевская мысль. 1918. 1 янв. № 1.
Коцюбинский Д.А. Русский национализм в начале XX столетия. Рождение и гибель идеологии Всероссийского национального союза. М. : Рос. полит. энцикл. (РОССПЭН), 2001. 525 с.
Деникин А.И. Очерки русской смуты. Берлин : Медный всадник, 1926. Т. 5: Вооруженные силы Юга России. 367 с.
Иоффе Г.З. Крах российской монархической контрреволюции. М. : Наука, 1977. 320 с.
Бутаков Я.А. Русские националисты и Белое движение на Юге России в 1919 г. // Новый исторический вестник. 2002. № 2 (7). С. 5-29.
Санькова С.М. Всероссийский национальный союз // Петр Аркадьевич Столыпин : энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М. : Рос. полит. энцик. (РОССПЭН), 2011. С. 92-95.
Санькова С.М. Балашов (Балашев) Петр Николаевич // Петр Аркадьевич Столыпин : энциклопедия / отв. ред. В.В. Шелохаев. М. : Рос. по лит. энцик. (РОССПЭН), 2011. С. 41-42.
Иванов А.А. Русские националисты и Февральская революция // 90 лет Февральской революции : сб. науч. ст. / ред. кол.: А.Б. Николаев (отв. ред. и отв. сост.), Д.А. Бажанов, А.А. Иванов. СПб. : Каф. Рус. истории РГПУ им. А. И. Герцена, 2007. С. 66-71.
Иванов А.А. Судьбы лидеров русского национализма после февраля 1917 г. // Русское самосознание. Философско-исторический журнал. 2007. № 13. С. 47-58.
Российский государственный исторический архив (РГИА). Ф. 1278. Оп. 5. Д. 1080.
Акацатов М. Из моего прошлого (ответ критикам) // Последние новости. 1925. 1 дек. № 1720.
Воспрещение черносотенных изданий // Известия Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов. 1917. 9 марта. № 9.
Буржуазия и помещики в 1917 году. Частные совещания членов Государственной Думы / под ред. А.К. Дрезена; предисл. З.Б. Лозинского. М. ; Л. : Парт. изд-во, 1932. 328 с.
Иванов А.А. Имперский национализм П.Н. Балашева // Имперское возрождение. 2007. № 5 (13). С. 75-80.
Центральный государственный исторический архив Санкт-Петербург (ЦГИА СПб). Ф. 1695. Оп. 4. Д. 24.
Король Н. Як Павло Скоропадський став гетьманом Украіни (Уривок зі спогадів) : відбиток з «Нашоі Батьківщини». Нью-Йорк, 1967. 23 с.
Як Григорович-Барський i други пани тратять народні гроші // Народне діло. 1917. 28 вересня. № 42.
Григорович-Барський та місто Радомисль // Народне діло. 1917. 2 жовтня. № 45.
Місцева хроніка // Народне діло. 1917. 18 жовтня. № 51.
Всероссийское Учредительное собрание : энциклопедия / авт.-сост. Л.Г. Протасов. М. : Полит. энцикл., 2014. 553 с.
Центральный государственный архив высших органов власти и управления Украины (ЦГАВО Украины). Ф. 1175. Оп. 1. Д. 1.
Антонишин А. Ліквідація гетьманськоі влади в Подільській губерніі (1918 рік) // Вісник Киівського національною лінгвістичного університету. Сер. Історія, економіка, філософія. 2012. Вип. 17. С. 145-153.
Безак Ф.Н. Воспоминания о Киеве и о гетманском перевороте // Верная гвардия. Русская смута глазами офицеров-монархистов / сост. и ред. А.А. Иванов при уч. С.Г. Зирина. М. : Посев, 2008. С. 346-454.
З. Закриття з'ізду монархистів // Відродження. 1918. 23 (10) липня. № 93. С. 4.
ЦГАВО Украины. Ф. 4401. Оп. 1. Д. 6.
Государственный архив Российской Федерации (ГАРФ). Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 43.
ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 95.
Деникин А.И. Очерки русской смуты. Берлин : Слово, 1924. Т. 3: Белое движение и борьба Добровольческой армии. Май-октябрь 1918 года. 271 с.
Авалов П.М. В борьбе с большевизмом : воспоминания генерала-майора кн. П. Авалова, б. командующего русско-немецкой западной армией в Прибалтике. Глюкштадт ; Гамбург : Изд. и тип. И.И. Аугустина, 1925. 540 с.
ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 8.
Шульгин В.В. Тени, которые проходят / сост. Р.Г. Красюков. СПб. : Нестор-История, 2012. 688 с.
ГАРФ. Ф. Р-446. Оп. 2. Д. 69.
А. М-р. Ессентуки. Съезд представителей русских национальных общин (от нашего корреспондента) // Жизнь. 1919. 23 июля (5 авг.). № 75.
Съезд национальных общин // Терско-Дагестанский вестник. 1919. 17 июля. № 90.
Хандорин В.Г. Национальная идея и адмирал Колчак. М. : Русский фонд содействия образованию и науке, 2017. 624 с.
К русским людям // Вечернее время. 1919. 11 нояб. № 409.
Новая партия // Жизнь. 1919. 16 (29) нояб. № 169.
Националисты // Приазовский край. 1919. 16 (29) нояб. № 260.
Националисты // Свободная речь. 1919. 16 (29) нояб. № 249.
Hoover Institution Archives. P.N. Vrangel Collection. Box 31. Folder 13. Письмо Г.А. Кочубея В.В. Шульгину от 9 января 1919 г.
ГАРФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 260.
В.Ф. Наши ошибки (из беседы с Г.А. Кочубеем) // Маяк. 1920. 7 фев. № 431.
Украинцы-федералисты // Вечернее слово. 1920. 5 окт. № 228.
Иванов А.А. Были ли русские националисты черносотенцами? (о статье И.В. Омельянчука) // Вопросы истории. 2008. № 11. С. 171-175.
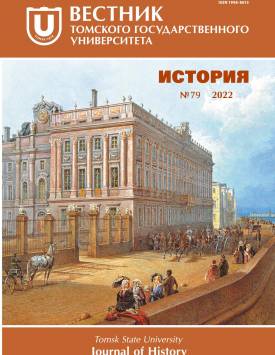

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью