Разделяя тезис о теоретико-методологическом кризисе отечественного книговедения, авторы предлагают обратиться к ресурсам исторической социологии, позволяющей существенно обогатить исследовательскую оптику истории книги и книжной культуры. В статье делается акцент на возможностях инструментария анализа факторов исторического процесса, выделяющего технологические инновации и революции в качестве одной из «движущих сил истории». Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Book Culture in a Focus of Historical Sociology.pdf Исследование книжной культуры в исторической перспективе является устоявшимся исследовательским полем, внутри которого существуют различные школы и доминирующие концепции как в отечественной, так и в зарубежной научной традиции. Вместе с тем нельзя не отметить, что существующие в отечественном книговедении подходы зачастую делают акцент исключительно на саму книгу как материальный артефакт, что сужает исследовательские горизонты и исключает выявление значимых связей книжной культуры с другими важными факторами, обусловливающими историческое развитие. Ключевое определение книговедения, данное А.А. Беловицкой, как раз об этом: «Книговедение есть приведенное в систему научное знание о книге как объективном явлении социальной действительности - о природе и сущности книги, о логических и исторических процессах, формах и закономерностях ее существования, движения, развития и функционирования; метод получения нового знания о книге; способ организации результатов познания книги либо в теоретические компоненты и элементы книговедческого знания, либо в теоретически осознанные правила, приемы, процедуры, т.е. методики практической книговедческой деятельности в той или иной сфере книжного дела (книгоиздательского, книготоргового, библиотечного, библиографического) как способа существования реальной, действительной книги в ее книговедческой целостности» [1. С. 10]. Ряд авторов применительно к российской историографии говорят о серьезном методологическом кризисе в области теоретических исследований книжной культуры [2-4]. В частности, представители санкт-петербургской школы книговедения Д.А. Эльяшевич и В.А. Мутьев отмечают: «Исследовательское поле отечественного теоретического книговедения сегодня... формирует закрытую систему коммуникации, своего рода эхо-камеру, в которой информация циркулирует в рамках персонифицированной и иерархически выстроенной субкультуры консервативных “книговедов-документоведов”, узкого круга единомышленников, зачастую являющихся носителями мифологического сознания - системы, внутрь которой проникают только тщательно отфильтрованные информационные потоки, подтверждающие лишь давно известные этим единомышленникам тезисы, зеркально отражающие постулаты советского книговедения (чрезвычайно плодотворного для эпохи планового бумажного книгопечатания и книгораспространения). Такое мифологическое сознание закономерно порождает мифологию вместо основывающейся на реальных фактах теории» [4. С. 45]. При этом если обратиться к ситуации в «трансатлантической» гуманитарной науке, то можно увидеть, как на протяжении последних десятилетий, начиная с 1980-х гг., история книги (histoire du livre, history of books, Geschichte des Buchwesens) постепенно трансформировалась в «книжные исследования» (book studies), которые как раз и характеризуются отчетливой тенденцией к междисциплинарной кооперации. Характеризуя этот проект, Т. Венедиктова отмечает, что «новая дисциплинарная конфигурация должна объединить усилия историков книги, историков культуры, историков искусства и историков-социологов, и для ее поддержки нужны учебные программы, организованные на новой теоретико-методологической основе. Задача эта столь же амбициозна, сколь и трудно решаема в нынешних условиях. Чем ощутимее в гуманитаристике антитеоретический крен, чем больше надежд возлагается на эмпирическое описание, тотальное сканирование и обсчет данных, тем острее чувствуется потребность в экспериментальной концептуализации разнородного, изобильного и постоянно разрастающегося материала: без теоретических обобщений невозможны ни продуктивные гипотезы, ни масштабные сравнения» [5. С. 338]. При этом автор специально оговаривает свое несогласие с тем, что зарубежные book studies можно рассматривать как синоним привычного отечественного книговедения. Запрос на фундированные концептуальные обобщения и теоретические схемы нарастает в том числе вследствие стремительной цифровизации современных культурных индустрий и резкого роста баз данных, предполагающих адекватный им алгоритмический инструментарий, сопровождающийся подъемом нового цифрового технооптимизма. Однако в этой ситуации постепенно формируется и осознание того, что сами по себе массивы данных, будучи подвергнуты цифровой обработке, не генерируют ожидаемых новых теорий и концепций, но при этом оперативно включаются в практики управления и контроля со стороны корпоративного бизнеса и государства (наиболее яркий пример этого процесса - триумфальное шествие идеологии и практики внедрения электронного правительства в глобальном масштабе [6]), подпитывая новыми фактами аргументы уже цифровых технопесси- Проблемы историографии, источниковедения... /Problems of historiography, source studies... 134 мистов. Одна из последних версий цифрового технопессимизма - концепция «надзорного капитализма» Ш. Зубофф (см.: [7]). Для преодоления отмечаемой исследователями изолированности отечественного книговедения от международной социально-гуманитарной ситуации, узости свойственного ему тематического спектра и консервативности используемого методологического аппарата очевидной является необходимость включения книговедческих штудий в более широкий контекст, который позволит сформировать такую исследовательскую оптику, которая бы опиралась на потенциал и достижения тех дисциплин, которые позволяют анализировать книжную культуру в разнообразных институциональных и символических контекстах. В этой связи представляется перспективным обращение к ресурсам исторической социологии, которая в последние десятилетия становится как в России, так и за рубежом набирающим силу масштабным исследовательским проектом, в рамках которого разворачиваются исследования как на макроуровне исторической динамики, так и на микроуровне социальных явлений и взаимодействий [8-11]. Одним из возможных методологических подходов, активно используемых в рамках исторической социологии, который позволяет выявить значение книжной культуры в исторической динамике, является анализ факторов исторического процесса, который в российской науке представлен в первую очередь работами С.А. Нефедова [12-14]. С.А. Нефедов именует предлагаемый им подход «факторным анализом». Следует учитывать тот факт, что подобный термин закрепился за количественным методом, в рамках которого корреляции между большой совокупностью наблюдаемых переменных объясняются в терминах небольшого числа новых переменных, называемых факторами. Для избегания терминологических недоразумений мы будем именовать метод, используемый С.А. Нефедовым, анализом факторов исторического процесса. Суть этого подхода заключается в выделении «движущих сил истории» [12. С. 10], которые определяют динамику развития обществ и цивилизаций в перспективе большой исторической длительности. В рамках подхода, предложенного С.А. Нефедовым, выделяются три основных фактора: демографический, технологический и фактор внешних влияний. Демографический фактор включает в себя влияние роста населения на жизнь общества с характерными для него демографическими циклами и динамикой обеспеченности ресурсами. Наиболее разработанной теорией, анализирующей влияние этого фактора, является концепция демографических циклов, которая в 7080-е гг. ХХ в. получила название «неомальтузианство». Один из ведущих представителей этого направления Фернан Бродель писал: «Демографические приливы и отливы есть символ жизни минувших времен, это следующие друг за другом спады и подъемы, причем первые сводят почти на нет - но не до конца! -вторые. В сравнении с этими фундаментальными реальностями все (или почти все) может показаться второстепенным» [15. С. 41]. Значимость технологического фактора обусловлена тем влиянием, которое оказывают великие открытия и происходящие на их основе технологические революции на социальную структуру и общественные отношения. Основной акцент действующие в рамках этого подхода исследователи делают на революциях в сфере военных технологий, что нашло свое выражение в знаменитой теории военной революции Майкла Робертса [16], получившей свое развитие в работах У. МакНила [17], В.В. Пенского [18] и др. И, наконец, третий фактор - фактор внешних влияний - во главу угла ставит диффузию инноваций, обусловливаемую многообразными контактами обществ между собой, происходящими в процессе войн, торговли и культурного обмена. Как отмечает С.А. Нефедов, «история отдельной страны в рамках этой концепции может быть представлена как история адаптации к набегающим с разных сторон культурным кругам, как история трансформации общества под воздействием внешних факторов, таких как нашествие, военная угроза или культурное влияние могущественных соседей» [12. С. 33]. Аналитическая оптика этого анализа предполагает, что книжная культура может быть рассмотрена в первую очередь в логике воздействия технологического фактора. Существующая литература, как мы отмечали выше, преимущественно делает акцент на военнотехнологических инновациях и их роли в человеческой истории. Однако представляется, что не меньшее влияние на развитие обществ оказывают медийные революции [2]. В этой перспективе книга предстает как результат реализации медийных революций, а книжная культура - как институциализированные практики трансляции социально значимой информации. В рамках анализа технологического фактора ключевой проблемой является то, как различные исследователи понимаются роль технологий в человеческой истории. Наиболее популярный подход принадлежит Торонтской школе медиаисследований, или школе технологического детерминизма. Как подчеркивает Е.Г. Дьякова, «с точки зрения сторонников Торонтской школы тип коммуникативной технологии определяет специфику всех общественных структур, включая экономические отношения и властные структуры. Иными словами, возможности власти целиком определяются возможностями соответствующей коммуникативной технологии, так что представительная демократия, например, появляется с изобретением печатного станка и утрачивает смысл с изобретением телевидения» [19. C. 33]. Наиболее известным представителем Торонтской школы был, как известно, Герберт Маршалл Маклюэн. Именно его широко известные воззрения являются примером доведенного до логического предела технологического детерминизма, в рамках которого коммуникативные технологии, с одной стороны, превращаются в своего рода доминирующую силу исторического развития, преобразуя окружающий социальный мир «под себя», а с другой - сами медиа, понятые как внешние расширения человека, рассматривают при этом самого человека как объект технологического Березняков Д.В., Козлов С.В. Книжная культура в фокусе исторической социологии 135 воздействия, а создаваемую им социальную реальность как тотально детерминируемую технологиями [20]. Таким образом, в рамках данного подхода утверждается, что медийные революции порождают новый тип коммуникативной технологии, которая носит тотальный характер в том смысле, что воздействует на все сегменты общества. Это позволяет современным представителям технологического детерминизма применительно к медийной революции, разворачивающейся на наших глазах, постулировать тезис о радикальной трансформации всех общественных отношений, которая приводит к рождению нового общества (медийная революция ^ новый тип коммуникативной технологии ^ новый тип общества). Ярким представителем этого подхода на современном этапе является Мануэль Ка-стельс, который выдвигает идею глобального сетевого общества, понимаемого им как «общество, социальная структура которого выстраивается вокруг сетей, активируемых с помощью переведенной в цифровую форму информации и основанных на микроэлектронике коммуникационных технологиях» [21. С. 41]. По сути, в рамках технологического детерминизма исторический процесс всецело определяется доминированием технологического фактора, имеющего тотальное воздействие на общество и его институты, что, в свою очередь, позволяет его сторонникам противопоставлять различные типы общественного устройства на основе доминирующего технологического уклада. Однако такой подход вызывает серьезную критику среди представителей исторической макросоциологии. Так, Майкл Манн, разрабатывая свою концепцию четырех источников социальной власти и сквозь ее призму анализируя человеческую историю, подчеркивал, что сверхпопулярные теории глобализации, футурологии и технологического детерминизма представляют собой своего рода аналог научной моды. «За громкими заявлениями теоретиков о том, что они якобы открыли фундаментальные изменения в обществе, нередко скрывается жажда почести и славы. Подобные, если можно так выразиться, гиперглобалайзеры заявляют, что глобализация привела к появлению общества, коренным образом отличающегося от прежнего. Иначе как “глобудой”... такие заявления не назовешь» [22. C. 4-5]. Иными словами, подход М. Манна демонстрирует критику редукционизма, когда воздействие многообразных факторов выносится за скобки, а акцент делается лишь на одном из них, которому предписывается универсальность. Итак, отталкиваясь от логики анализа факторов исторического процесса, кратко охарактеризованного выше, книжную культуру можно рассматривать как исторический феномен, чья динамика во многом определяется медийно-технологическим фактором, напрямую связанным с внедрением инноваций. Однако необходимо подчеркнуть, что акцентирование роли медийных революций в трансформации книжной культуры должно учитывать нередуцируемость культурной динамики к динамике технологической. В противном случае исследователи могут оказаться в плену методологической иллюзии однофакторности исторического и культурного развития, когда достаточно найти «магический ключ», будь то технология (как в случае с Торонтской школой) или экономический базис (как в случае с марксизмом), при помощи которого можно «вскрыть» дотоле скрытую от глаз ученого базисную логику исторического процесса. Использование историко-социологический подхода к книжной культуре поможет преодолеть как центрированность исследовательской оптики на одном факторе, так и свойственное отечественному книговедению рассмотрение истории книги в отрыве от истории культуры. Историческая социология рассматривает медийные революции как важнейший, но не единственный фактор, определяющий культурную динамику. Анализ книжной культуры как иерархической системы можно локализовать на двух взаимосвязанных между собой уровнях. На макроуровне действуют факторы, обусловливающие процессы большой исторической длительности, которые носят структурный характер и задают векторы исторического развития. Фактор медийных революций, безусловно, относится к одному из них. В свою очередь, на микроуровне исследователь имеет дело не с обезличенными институтами и процессами, а с индивидами и группами, социализированными во вполне конкретных культурных условиях и включенными в разнообразные горизонтальные сети взаимодействий. В конечном счете действуют в истории люди. Поэтому в центре исследований книжной культуры должны быть именно индивиды, производящие и потребляющие книгу, а не сама книга как материальный артефакт. Книжная культура может рассматриваться как сфера, в которой взаимодействуют различные акторы, производящие и потребляющие тексты. Иными словами, пространство книжной культуры носит структурированный характер, предполагающий наличие коммуникативной цепочки, определяющей коммуникации акторов внутри этой сферы. Таким образом, книга предстает здесь как вид медиа в цепи взаимодействий различных индивидов и групп, реализующих собственные и во многом исторически контекстуальные интересы. Подводя итоги, стоит подчеркнуть, что зафиксированный выше методологический кризис российского книговедения требует от профессионального исследовательского сообщества существенного обновления исследовательского инструментария, что, на наш взгляд, должно быть связано с активным включением в сферу книговедческих исследований достижений тех подходов, которые доказали свою плодотворность и перспективность при исторической реконструкции других сфер социальной реальности. В этом смысле представляется, что одним из значимых направлений является историческая социология, которая концептуализирует как структурные аспекты исторической динамики (макроуровень), так и конкретные механизмы социальных взаимодействий между акторами (микроуровень). Одним из подобных инструментов выступает анализ факторов исторического процесса, сквозь призму которого книжная культура может быть рассмотрена в длительной исторической перспективе как сфера, динамика которой определяется технологическими изменениями и заимствованиями культурных инноваций.
Беловицкая А.А. Книговедение. Общее книговедение : учебник. М. : МГУП, 2007. 391 с.
Лизунова И.В., Павленко С.В. Трансформация книги в условиях медийных революций // Библиосфера. 2020. № 1. С. 12-23.
Эльяшевич Д.А. Книговедение: жизнь после смерти // Труды Санкт-Петербургского государственного института культуры. 2018. Т. 217. С. 60-63.
Эльяшевич Д.А., Мутьев В.А. Новое книговедение: взгляд в будущее // Библиосфера. 2021. № 1. С. 43-53.
Венедиктова Т. Новости из истории книги // Новое литературное обозрение. 2019. № 5 (159). С. 338-346.
Дьякова Е.Г., Трахтенберг А.Д. Повестка дня и информационное общество. М. ; Екатеринбург : Кабинетный ученый, 2019. 142 с.
Зубофф Ш. Эпоха надзорного капитализма. Битва за человеческое будущее на новых рубежах власти. М. : Изд-во Ин-та Г айдара, 2022. 784 с.
Лахман Р. Что такое историческая макросоциология? М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2016. 240 с.
Дерлугьян Г. Как устроен этот мир. Наброски на макросоциологические темы. М. : Изд-во Ин-та Гайдара, 2013. 384 с.
Розов Н.С. Историческая макросоциология: методология и методы. Новосибирск : Изд-во Новосиб. гос. ун-та, 2009. 412 с.
Травин Д.Я. Как государство богатеет : путеводитель по исторической социологии. М. : Изд-во Ин-та Г айдара, 2022. 400 с.
Нефедов С.А. Факторный анализ исторического процесса. История Востока. М. : Территория будущего, 2008. 752 с.
Нефедов С.А. История России. Факторный анализ : в 2 т. М. : Территория будущего, 2010-2011.
Нефедов С.А. О факторах исторического процесса // История и современное мировоззрение. 2019. № 1. С. 89-95.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм в XV-XVIII веках. М. : Прогресс, 1986. Т. 1: Структуры повседневности. 624 с.
Roberts M. Essays in Swedish History. London, 1967. 358 p.
Мак-Нил У. В погоне за мощью. Технологии, вооруженная сила и общество в XI-XX веках. М. : Территория будущего, 2008. 456 с.
Пенской В.В. Великая огнестрельная революция. М. : Яуза, 2010. 448 с.
Дьякова Е.Г. Массовая коммуникация и власть. Екатеринбург : УрО РАН, 2002. 280 с.
Маклюэн Г.М. Понимание Медиа: внешние расширения человека. М. : КАНОН-пресс-Ц ; Кучково поле, 2003. 464 с.
Кастельс М. Власть коммуникации : учеб. пособие. М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2016. 564 с.
Манн М. Источники социальной власти : в 4 т. М. : Изд. дом «Дело» РАНХиГС, 2018. Т. 4: Глобализация, 1945-2011 годы. 672 с.
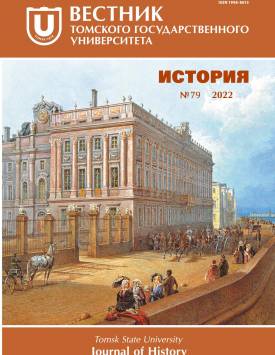

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью