Российская преступность второй половины XIX - начала ХХ в. в постсоветской отечественной историографии
Проведен анализ исследовательских позиций по таким вопросам, как динамика и причины изменений количественных и качественных показателей делинквентного поведения, структура преступлений, особенности эволюции преступного мира под влиянием модернизационных процессов пореформенного периода, региональные, социальные и гендерные аспекты криминальной обстановки. Оцениваются общие итоги и перспективы исследования данной проблематики. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Russian crime of the second half of the 19th - the beginning of the 20th century in the post-soviet historiography.pdf Изучение системных трансформаций российского общества второй половины XIX - начала ХХ в., вызванных реформами Александра II, сохраняет актуальность как с точки зрения осмысления отечественной модели перехода от традиционного общества к индустриальному, так и вследствие наличия определенных сходных черт дореволюционных и современных модер-низационных процессов. Важное значение имеет изучение проблем и сложностей адаптации общества к новым историческим реалиям, в частности взаимосвязи тенденций, характерных для переходного состояния социума, и эволюции делинквентного поведения. Неизбежная в условиях модернизации корректировка ценностных установок, поведенческих норм и социальных практик не могла не привести к определенной количественной и качественной модификации криминальной обстановки. С другой стороны, рост преступности, изменение ее социальных характеристик оказывали воздействие на ход модернизации в экономической, социокультурной, политической сферах. Анализ негативных аспектов системных социальных изменений пореформенного периода актуален для минимизации издержек развития России на современном этапе. Работа исследователей дореволюционной преступности на протяжении 1990-2010-х гг. позволила существенно дополнить общую картину влияния реформ середины XIX в. на развития российского общества, обусловила актуальность осмысления итогов и перспектив изучения данной проблематики. Представляется неслучайным появление в последние годы публикаций, посвященных историографии пореформенной российской девиантности (статья В.Б. Безгина и Д.П. Жереб-чикова [1]) и истории исследования делинквентного поведения второй половины XIX - начала ХХ в. (работы А.В. Данчевской [2] и А.Р. Павлушкова [3]). Несмотря на уже проделанную историками серьезную работу по изучению состояния рассматриваемой сферы научных исследований, актуальность обобщающих историографических изысканий не исчерпана в силу определенных различий в оценках вклада тех или иных авторов в изучение темы и итогов исследовательской деятельности по данной проблематике в целом, а также в связи с появлением новых публикаций. Из рассмотрения исключены работы, посвященные детско-подростковой делинквентности и преступлениям в отношении несовершеннолетних, поскольку заметное количество подобных исследований обусловливает потребность в их отдельном анализе. Актуализация вопросов истории преступности в постсоветский период стала одним из продуктивных итогов методологических поисков 1990-х гг. Освобождение отечественной исторической науки от обязательных рамок марксистской теории обусловило рост интереса к более современным исследовательским подходам, в частности к различным направлениям социальной истории, для которых, как отметила О.С. Поршнева, «характерно изучение и социальных структур, и их восприятия современниками в их взаимодействии и взаимовлиянии, а также использование в качестве инструмента исследования “социального микроскопа”» [4. С. 43]. Связанное с этим включение в сферу науч ного интереса социокультурной практики и социальных мотивов человеческого поведения обусловило, в частности, активизацию изучения эволюции преступности [Там же. С. 45]. Важную роль в формировании методологической базы исследований делинквентного поведения и популяризации данной темы среди российских историков сыграли опубликованные в конце 1990-х гг. новаторская монография Н.Б. Лебиной, рассмотревшей повседневную жизнь советского города 1920-1930 гг. через призму дихотомии «норма-аномалия» [5], и «Социальная история России периода империи (XVIII - начало ХХ в.)» Б.Н. Миронова, а также работы известного российского социолога Я.И. Гилинского [6]. На рубеже XX-XXI в. происходит активизация исследований по истории преступности и защит диссертаций по данной теме. Одним из результатов обработки Б.Н. Мироновым дореволюционных статистических данных стал вывод о том, что динамика делинквентного поведения в период с 1803 по 1913 г. имела циклический характер: уровень преступности снижался во время консервативных царствований и повышался при более либеральных монархах и в годы «противоречивой, неустойчивой» политики Николая II. При этом на протяжении пореформенного периода «преступность непрерывно возрастала, с одной остановкой в 1890-х гг.» [7. С. 84]. По мнению Б.Н. Миронова, ухудшение криминальной обстановки после отмены крепостного права было вызвано как тенденциями формирования урбанизированного индустриального общества, для которого «характерна более значительная преступность», так и самими переходными процессами, порождающими «серьезные изменения в культурных, социальных и политических ориентациях», трансформирующими традиционную систему ценностей, создающими ситуацию, в которой «значительное число людей является маргиналами» [Там же. С. 79]. На увеличении числа преступлений, с точки зрения историка, в большей степени сказывалось повышение значимости богатства в системе социальных приоритетов, а не бедность как таковая. Значимой причиной роста статистических показателей преступности в начале ХХ в. стало сочетание политизации общественной жизни с расширением номенклатуры преступных с точки зрения законодательства деяний (антиправительственные манифестации, забастовки, религиозные преступления) [Там же. С. 86, 95]. Б.Н. Миронов обратил внимание на изменение в пореформенную эпоху основного объекта и целей криминальной деятельности: «...центр интересов сотен тысяч правонарушителей... переместился с государства на личность и ее собственность» [6. С. 91]. Учет данных о динамике преступности в странах первичной модернизации позволил сделать вывод, что распространение делинквентного поведения в начале индустриальной эпохи «носит временный характер». Б.Н. Миронов пришел к заключению о более низком уровне преступности в России XIX - начале ХХ в. по сравнению со странами Западной Европы [7. С. 96-97]. Авторы коллективной монографии «Девиантность и социальный контроль в России (XIX-ХХ вв.): тенденции и социологическое осмысление» (ответствен- Проблемы историографии, источниковедения... /Problems of historiography, source studies... 154 ный редактор Я.И. Гилинский), сделали выводы о постепенном увеличении числа осужденных в период с 1874 по 1912 г., относительной устойчивости «при некоторой тенденции к возрастанию» сегментов женской и рецидивной преступности [6. С. 135-137]. Н.Б. Атапин отмечает, что в конце XIX - начале ХХ в. криминальные элементы концентрировались в первую очередь в стремительно расширявшейся среде десоциализированного населения. Негативное влияние на уровень преступности оказывали также представители буржуазии и «элитных групп». Наряду с «глубоким кризисом правосознания», вызванным модернизационными процессами и политической нестабильностью, исследователь называет такие предпосылки ухудшения ситуации, как недооценка властью «стремительной криминализации общества», недостаточные масштабы и интенсивность преобразований, «осуществлявшихся в сфере развития общей полиции», запаздывание с формированием специальных органов уголовного сыска, судебная и тюремная реформы, либерализация уголовного законодательства [8. С. 26, 55, 202-205]. С.А. Бушуева в результате работы со статистическими материалами пришла к выводу о росте числа уголовных дел в 1909-1913 гг. Исследовательница отмечает «доминирование корыстной преступности», прежде всего краж, опережающие темпы роста случаев «квалифицированных» (подлоги, растраты, присвоения) и насильственных преступлений, особенно тяжелых, а также омоложение преступного контингента, проникновение криминалитета в государственные ведомства и бизнес-сообщество [9. С. 54-56, 58, 73, 183184]. Предпосылки этих тенденций С.А. Бушуева видит в последствиях быстрого развития капитализма, урбанизации и разложения традиционного общества. В то же время значимой причиной «утраты контроля над преступностью» стал отказ власти «от назревшей потребности ужесточения уголовной политики», а также недостатки в организации работы полиции. [Там же. С. 26, 183, 185-189]. С.Л. Курас связывает рост числа имущественных преступлений во второй половине XIX - начале XX в. с «неустойчивой политической и экономической ситуацией в стране» и увеличением числа правонарушений по политическим мотивам. По мнению исследовательницы, причины делинквентного поведения следует искать «в социальной неустроенности населения, конкурентной борьбе в сфере экономики» [10. С. 80, 81]. По мнению В.Ю. Голдинова, негативное влияние на уровень преступности в начале ХХ в. оказала гуманизация уголовной политики при Николае II. Положение усугублялось из-за «крайней пестроты видов полиции различной подчиненности», ее малочисленности, скромного жалования и определенной деморализации полицейских чинов, «нерешительной» и противоречивой правоохранительной политики в целом [11. С. 137139, 182-189]. Особенностью диссертации В.Ю. Голди-нова является подробный анализ общественного восприятия проблем борьбы с преступностью. По мнению исследователя, «пресса внесла большой «вклад» в девальвацию норм законности», а распространение оправдательных приговоров в судах присяжных «разлагало российское общество, питало настроения нигилизма, произвола» [Там же. С. 158]. В своем новом фундаментальном обобщающем труде «Российская империя: от традиции к модерну» Б.Н. Миронов отметил недостаточный уровень изученности истории преступности в России [12. С. 110], а также обратил внимание на сходство тенденций эволюции криминального мира в России и Западной Европе: «...профессионализация, устойчивый рост организованной преступности и рецидива, быстрое проникновение преступности в деревню, значительное омоложение и феминизация» [Там же. C. 136-137]. Различные позиции фиксируются по вопросу о существовании в течение рассматриваемого периода организованной преступности. Авторы коллективной монографии «Девиантность и социальный контроль в России» отмечают «хорошо отлаженную организацию преступного промысла» в бандах конокрадов, мошенников и фальшивомонетчиков, однако приходят к заключению о том, что «говорить о преступных организациях и сообществах пока не приходится» [7. С. 158]. Позднее данная точка зрения была поддержана В.С. Яременко [13. С. 14]. В то же время большинство исследователей полагают, что организованная преступность в дореволюционной России существовала. По мнению Н.А. Зоткиной, в конце XIX - начале ХХ в. «делают первые шаги уже окончательно оформившиеся организованные криминальные структуры» [14. С. 235]. В диссертации М.А. Смирнова сделан вывод о том, что мо-дернизационные процессы второй половины XIX -начала ХХ в. привели к формированию «специфического, выросшего в условиях противоборства западного и восточного менталитетов отечественного криминалитета, причастного к организации революций 1905 и 1917 гг.» Специфика российской преступности пореформенных десятилетий, с точки зрения исследователя, определяется объединением уголовного, политического и национально-религиозного криминалитета, а также «интеграцией отечественных и мировых организованных преступных сил» [15. С. 13]. С.А. Бушуева [9. С. 184] и В.Ю. Голдинов [11. С. 184] приходят к заключению о влиянии деятельности преступных организаций на криминальную обстановку начала ХХ в. Л.А. Прозументов показал наличие в дореволюционный период норм уголовного законодательства об организованных преступных группах [16. С. 233-235]. В ряде исследований затрагивается проблема делинквентного поведения в специфических условиях Первой мировой войны. Криминальная обстановка и меры противодействия преступности в Петрограде в 1914-1917 гг. рассмотрены в диссертации Д.Ю. Ере-щенко. Как отмечает исследователь, в начале Первой мировой войны в российской столице наблюдался спад делинквентной активности, обусловленный организацией полицейских «чисток», введением «сухого закона», мобилизацией в армию значительного числа правонарушителей. Однако с ноября 1914 г. начинается ухудшение криминальной обстановки, вызванное появлением в городе значительного количества мигран- Пухов Д.Ю. Российская преступность второй половины XIX- начала ХХ в. 155 тов, прибывших из районов западного театра военных действий, а также общими кризисными тенденциями военного времени [17. С. 3, 23-26, 30]. По мнению A. В. Карлебы, причинами повсеместного распространения девиаций в годы Первой мировой войны являлись кризис традиционного правосознания, запаздывание процесса политической модернизации, неудачи на фронте, ошибки в сфере внутренней политики, ухудшение экономической ситуации, частичная деструкция религиозных убеждений, ослабление опеки над молодежью вследствие массовой мобилизации взрослого мужского населения, недостатки в организации работы полиции [18. С. 186-195]. С.Н. Цысь сделал вывод об уменьшении числа уличных правонарушений в городах Томской губернии начале Первой мировой войны вследствие мобилизации и введения «сухого закона» [19. С. 266-268]. По сведениям М.П. Шепелевой, данные факторы способствовали спаду преступной активности в военный период в Курской губернии [20. С. 16-20]. В работах российских историков нашли освещение проблемы криминальности отдельных социальных слоев и групп, в том числе гендерные аспекты делинквентности. Е.Н. Косарецкая отметила, что «показатели женской преступности в Орловской губернии были крайне низкими и почти неизменными по десятилетиям», что объясняется слабой вовлеченностью женского населения региона в модернизационные процессы. [21. С. 18-22]. С.Г. Куликова связывает рост женской преступности в Тверской губернии в конце XIX -начале ХХ в. с процессами «модернизации, индустриализации, урбанизации». Автором монографии показаны различия в восприятии женской преступности представителями различных политических направлений и социальных групп [22. С. 96, 97, 108]. Вывод о том, что женщины значительно реже совершали противоправные деяния, чем мужчины, сделан и проиллюстрирован количественными данными в работах С.И. Морюшкина [23. С. 18], В.А. Полищук [24. С. 120122], С.В. Богданова и Д.В. Ермолаева [25]. Серьезное внимание уделяется проблеме крестьянской преступности. Исследование сельского социума Центрального Черноземья позволило В.Б. Безгину сделать вывод, что некоторые делинквентные социальные практики не воспринимались крестьянами как отклоняющееся поведение. Аграрные беспорядки в этом регионе «носили поистине массовый характер», в них «принимали участие все жители села, включая женщин и детей» [26. С. 29]. Традиционными крестьянскими представлениями о праве общины карать виновных объясняются самочинные расправы над преступниками. B. Б. Безгин обращает внимание на обусловленность распространения отклоняющегося поведения ослаблением религиозности сельского населения в условиях возросшей социальной мобильности, проникновением в деревню капиталистических отношений, усилением городского влияния и нарастанием социальных противоречий [Там же. С. 29-30, 32]. Исследователь также указывает на распространенность в крестьянской среде бытового насилия [27. С. 149]. «Битье мужьями жен в патриархальной семье с целью “вразумления” по обычному праву преступлением не считалось», -пишет В.Б. Безгин [28. С. 27]. В статье А.П. Веселовского названы такие причины роста крестьянской преступности в пореформенный период, как обнищание и маргинализация части крестьянства в условиях развития капитализма, кризис традиционных, в том числе религиозных, ценностей, замена их постулатами хищнического накопления, недостаточное внимание власти к потребностям крестьянского населения [29]. В работах С.Г. Федорова и И.С. Менщикова на примере Южного Зауралья показано, что модерниза-ционные процессы привели к появлению новых для сельского населения видов преступлений, сопровождались распространением таких форм девиантного поведения, как пьянство и связанное с ним хулиганство. Влияние ссыльных на криминальную обстановку в зауральской деревне было несущественным [30. С. 183186]. Определенное негативное воздействие на уровень преступности оказало строительство Транссибирской магистрали, а также связанный с ним быстрый рост городов [31. С. 70-71]. Шел процесс трансформации правовой ментальности сельского населения. «Конец 70-х годов XIX в., - отмечает С.Г. Федоров, -фиксирует некий рубеж в юридических представлениях крестьян: включаясь в новые формы производственной и коммерческой деятельности, крестьяне осознают архаичность норм обычного права, критически к ним относятся...» [30. С. 181] В.А. Полищук сделала вывод об увеличении в среде уральского крестьянства в период с 1874 по 1917 г. числа преступлений против общественного и государственного порядка, а также против собственности частных лиц и против личности [24. С. 119, 122]. Д.Н. Гречишко связывает рост преступности в среде кубанского казачества в пореформенный период в первую очередь с кризисом таких традиционных ценностей, как религиозная мораль, идеалы равенства, принцип общинности, и распространением характерных для капитализма установок на обогащение, предпринимательскую деятельность и индивидуализм. Исследователь называет и специфические причины делинквентного поведения в регионе - «культурную особость казачества» и определенную непоследовательность государственной политики в отношении этой социальной группы [32. С. 15, 17]. В.С. Сидорова, основываясь на анализе статистических данных, сделала вывод о том, что «первое место по количеству осужденных по бытовым преступлениям занимали именно крестьяне», а «процесс гуманизации внутрисемейных отношений тормозился миграцией в города крестьян, которые несли с собой стереотипы, свойственные внутрисемейным отношениям в деревне» [33. С. 33, 37]. И.В. Скрябин, исследовавший крестьянскую повседневность пореформенного периода на материалах Тульской губернии, сделал вывод, что под влиянием товарно-денежных отношений и городского индустриального мира община «все меньше справлялась с нравственными функциями», что проявлялось, в частности, в распространении хулиганства [34. С. 122, 127]. Проблемы историографии, источниковедения... /Problems of historiography, source studies... 156 В результате изучения омских судебно-следственных материалов начала ХХ в. А.В. Быков и А.Г. Быкова пришли к выводу, что взятка воспринималась крестьянами «как обыденное явление, обязательный элемент общения с должностными лицами» [35. С. 50, 51]. М.О. Тяпкин и В.М. Антропов констатировали, что в 1905 г. в Томской губернии резко возросло число осуществлявшихся крестьянами самовольных порубок леса, которые становятся не только массовыми, но и приобретают организованный характер [36. С. 55]. В.В. Кулачков и Т.Л. Музычук на материалах Смоленской, Брянской и Калужской областей выявили, что на рубеже XIX-XX вв. определяющее влияние на отношение сельских жителей к преступлениям и правонарушениям оказывали нормы обычного права и общинные нравственные установки, тесно связанные с религиозными представлениями. Данный вывод несколько расходится с результатами исследований С.Г. Федорова, который рассматривает конец 1870-х гг. как переломный момент в процессе разложения традиционных правовых представлений крестьянства. Однако это хронологическое несовпадение может объясняться разными темпами трансформации правовой культуры в разных регионах России. В.В. Кулачков и Т.Л. Музычук отмечают наличие в общинной среде двойного стандарта в восприятии противозаконных деяний, основанного на противопоставлении «свои-чужие», а также относительную неразвитость частнособственнических представлений, влиявшую на отношение крестьян к имущественным преступлениям [37]. О.В. Харсеева пришла к выводу о том, что уровень криминализации крестьян Центрально-Черноземного региона в начале ХХ в. повысился по сравнению с концом XIX в. [38. С. 25] Ряд статей посвящен вопросам преступности в среде сотрудников правоохранительных органов. С точки зрения А.С. Масалимова и Т.С. Масалимова, негативные явления в губернских силовых структурах в начале ХХ в. следует рассматривать как проявление кризиса в системе регионального управления Российской империи [39]. А.А. Сысоев пишет о распространенности криминальных практик среди сотрудников полиции Восточной Сибири в начале ХХ в. [40. С. 150]. А.Б. Храмцов отметил, что в Томской губернии в большинстве случаев проступки должностных лиц замалчивались, что негативно сказывалось на авторитете правоохранительных органов в глазах населения [41]. В отдельных публикациях затрагивается проблема правонарушений в среде духовенства. А.Р. Павлушков связывает неправовое поведение представителей этой социальной группы с действием таких факторов, как подчиненное положение церкви по отношению к государственным структурам, имущественная дифференциация в среде церковнослужителей [42. С. 91-92], разрушение их традиционного жизненного уклада и корпоративной обособленности, частичная утрата привилегированного статуса, «эрозия благочестия» под давлением модернизационных процессов [43. C. 42, 44]. При этом «уровень преступности духовенства был значительно ниже по сравнению с другими сословиями» [Там же. С. 44]. А.С. Ворошилова называет такие причины отклоняющегося поведения в среде сельского духовенства Томской губернии, как двойной контроль деятельности священника со стороны начальства и прихожан, определенное понижение социального статуса и скромный уровень доходов представителей данной социальной группы [44. С. 31]. Большое значение имеют региональные исследования делинквентного поведения. Изучение данной проблематики на материалах европейской части России велось еще в 1990-х гг. Интересные результаты, демонстрирующие отличие региональных тенденций от общероссийских, были получены курскими историками, отметившими определенные позитивные тенденции в эволюции криминальной обстановки. П.А. Сучкиным и В.В. Захаровым было показано снижение криминальности губернского дворянства [45. С. 54] и купечества [46. С. 56, 60] в конце XIX - начале ХХ в. Исследования А.Н. Курцева выявили сокращение числа осужденных Курским окружным судом в расчете на 100 тыс. населения [47]. В диссертации М.П. Шепелевой, также изучавшей делинквентное поведение на материалах Курской губернии, делается вывод о том, что «эпоха 1861-1917 гг. отличалась перевесом позитивных факторов, понижавших уровень уголовной преступности в российской провинции» [20. С. 17]. К ним исследовательница относит рост благосостояния населения, повышение общего образовательного уровня, отток криминальных элементов из губернии на окраины страны и в крупные города. В диссертации сделан вывод о снижении количества наиболее опасных преступлений в губернии в период с 1861 по 1895 г. Показаны гендерные и социальные особенности мотивации делинквентного поведения. [Там же. С. 15-20]. В то же время изучение данных других регионов европейской части страны показывает преобладание негативных изменений. В диссертации Н.А. Зоткиной, выполненной на материалах Пензенской губернии, рост уровня преступности на рубеже XIX-XX вв. рассматривается как следствие модернизационных процессов в социально-экономической сфере, крупных политических событий и связанных с ними изменений российской ментальности: аномии, ослабления страха перед карательной силой государства, «революции ожиданий». Сказывались, по мнению исследовательницы, такие факторы, как рост потребления алкогольных напитков и традиционная ориентация государственной социальной политики преимущественно на властные распоряжения, принуждение и репрессии при недооценке и слабой развитости институциональных механизмов предупреждения преступлений и перевоспитания преступников. При этом в диссертации дается достаточно высокая оценка дореволюционной правоохранительной системы. Н.А. Зоткина отмечает, что в конце XIX - начале ХХ в. преступность оставалась «привилегией бедных и обездоленных» [14. С. 233-236]. В диссертационном исследовании В.Е. Политова делается вывод о том, что динамические и структурные изменения криминальной обстановки в Тамбовской губернии в 1890-1910 гг. в целом соответствовали общероссийским тенденциям. Это проявлялось в общем возрастании количества и удельного веса тяжких Пухов Д.Ю. Российская преступность второй половины XIX- начала ХХ в. 157 преступлений и увеличении доли правонарушений, направленных против собственности и против личности, «сближении преступности общеуголовной направленности с политической». Специфика по преимуществу аграрного Тамбовского региона проявлялась в том, что «эти тенденции носили менее отчетливый, сглаженный характер» [48. С. 18, 25]. В диссертации Д.П. Же-ребчикова отмечено, что «противоречивое и неглубокое проникновение модернизационных процессов в социально-демографическую и экономическую жизнь общества Тамбовской губернии препятствовало значительному росту отклоняющегося поведения» [49. С. 6]. При этом криминальная обстановка в городских центрах региона была хуже, чем в деревне. Исследователь обращает внимание на сохранение «традиционного характера» городской преступности в Тамбовском регионе, что проявлялось в преобладании мелких преступлений, значительном влиянии личностного фактора, традиционности сознания нарушителей закона [49. С. 21]. М.В. Пулькин, используя данные по Олонецкой губернии, приходит к выводу о более высоком уровне криминализации городских сословий по сравнению с крестьянами [50. С. 87]. Исследователь отмечает рост числа преступлений в регионе в 1897-1911 гг. в три раза [51]. По мнению историка, склонность к насильственным действиям в большей степени характерна для городской культуры, нежели для традиционной [52]. А.С. Попов сделал вывод о том, что эволюция противоправного поведения в Ярославской губернии в 18611917 гг. протекала так же, как в целом по России [53]. А.С. Гусенков пришел к заключению, что в Новгородской губернии преступность «развивалась в русле общероссийских тенденций с некоторыми региональными особенностями». В конце XIX в. «сохранялся сезонный характер преступности: минимум большинства преступлений совпадал с сельхозработами». «О простоте преступного замысла говорит и зависимость числа преступлений от цены на хлеб, вернее - от урожая ржи», - пишет А.С. Гусенков. Относительно высокий уровень криминализации губернии исследователь связывает с ее близостью к столице и нахождением на пути из Петербурга в Москву [54. С. 17]. Работа С.И. Морюшкина посвящена характеристике преступности в Рязанской губернии в 1861-1905 гг. Увеличение числа преступлений в три раза в течение рассматриваемого периода, с точки зрения исследователя, связано с такими аспектами модернизационных процессов, как обнищание части населения, урбанизация, либерализация межсословных отношений, усиление политической нестабильности. С.И. Морюшкин делает вывод, что в структуре деятельности власти по борьбе с преступностью преобладали репрессивносиловые методы: ужесточение полицейского контроля за неблагонадежными гражданами, увеличение численности полицейской стражи и т.п. [23. С. 17-20]. С.В. Богданов и В.Г. Остапюк зафиксировали постоянное увеличение числа погибших от убийств в Европейской части России в период с 1870 по 1893 г. [55] О.В. Харсеева на основе анализа статистических материалов четырех губерний Центрально-Черноземной России пришла к заключению о том, что в конце XIX в. увеличения численности осужденных в этом регионе не наблюдалось, однако в начале ХХ в. фиксируется рост преступности [56]. Некоторое улучшение криминальной обстановки произошло в период русскояпонской войны [57. С. 41-42]. Исследования сибирских историков показывают наличие как тенденций, совпадающих с общероссийскими, так и характерных особенностей эволюции преступности в этом обширном регионе. Д.М. Шиловский на материалах Томской губернии пришел к выводу о стабильном увеличении числа зафиксированных правонарушений, превышающем рост численности населения, во второй половине XIX - начале ХХ в. К причинам роста криминальной напряженности в регионе историк относит неблагополучное состояние регионального полицейского аппарата, переселенческую нагрузку на губернию, особенности менталитета сибиряков, «низкий образовательный уровень и слабое приобщение к нормам православной морали, самостоятельность и достаточно широкое распространение пьянства», а также сложности межнациональных отношений и складывание революционной ситуации в начале ХХ в. [58. С. 198-199, 200-202]. В силу действия ряда специфических региональных факторов динамика делинквентного поведения в Сибири отличалась от выявленных Б.Н. Мироновым общероссийских закономерностей. Так, Д.М. Шиловский отметил значительное увеличение числа преступлений в Томской губернии в 1880-х гг. т.е. на протяжении «консервативного» периода, когда, по схеме Б.Н. Миронова, число преступлений должно было уменьшаться [Там же. С. 78-79]. ДА. Глазунов на материалах Томского региона пришел к заключению, что «с правовой точки зрения революция 1905-1907 гг. зафиксировала конфликты общества с государством в вопросах, связанных прежде всего с собственностью и системой общественного (государственного) управления» [59. С. 133]. В статье П.А. Сунгурова и В.П. Петровой, обобщающей результаты исследования криминальной ситуации в Тобольской губернии в последней трети XIX в., названы такие причины относительно высокого уровня преступности в регионе, как большая «нагрузка переселения и ссылки», «неустроенность» и невысокий уровень жизни населения, железнодорожное строительство, ограниченный репрессивный потенциал местной правоохранительной системы, низкий уровень правовой культуры населения, пьянство [60]. Н.С. Васиховская и П.А. Сунгуров констатировали, что хищения на золотых приисках Восточной Сибири в начале ХХ в. фактически представляли собой организованный «теневой промысел» [61. С. 136]. По данным А.В. Данчевской, уровень криминализации этого региона в целом в конце XIX - начале ХХ в. был «чрезвычайно высоким», что отчасти являлось следствием штрафной колонизации [62. С. 73, 75; 63. С. 34]. По оценке А.А. Иванова и А.В. Данчевской, в Иркутске наблюдался рост преступности во время русскояпонской войны и Первой революции [64. С. 390, 392] (несколько иная тенденция была выявлена О.В. Харсее-вой на материалах Центрально-Черноземного региона). Проблемы историографии, источниковедения... /Problems of historiography, source studies... 158 A. А. Сысоев и Д.Б. Кавецкий указывают, что массовое перемещение «наиболее опасных представителей российского общества к восточным окраинам империи при отсутствии должного полицейского надзора вело к появлению значительного количества сплоченных групп» криминального характера на территории Иркутской губернии [65]. Источниковедческим и методологическим аспектам изучения преступности посвящены статьи С.Л. Курас, О.В. Харсеевой, И.В. Синовой. С.Л. Курас рассмотрела структуру судебной отчетности второй половины XIX в. и сделала вывод о высокой информативности подобных источников по истории преступности [66. C. 167]. О.В. Харсеева пришла к заключению, что «Обзоры губерний» второй половины XIX - начала XX в. являются «наиболее полным из имеющихся за данный период истории России материалов официальной статистики регионов», и их комплексный анализ актуален при изучении эволюции преступности [67. С. 127, 133]. В публикации И.В. Синовой показана перспективность использования социологических концепций Э. Дюркгейма, Р. Мертона, П. Бурдье в рамках исследований истории отклоняющегося поведения [68]. Рассмотренный материал позволяет сделать вывод о том, что в постсоветской российской историографии делинквентного поведения во второй половине XIX -начале ХХ в. существенное внимание уделяется таким проблемам, как выявление и объяснение динамики количественных характеристик преступности, изучение социальных, гендерных и региональных аспектов ее эволюции, оценка роли тех или иных факторов развития криминальной обстановки, а также структуры и причин противозаконных деяний. Большинство исследователей приходят к выводу об ухудшении криминальной ситуации на протяжении рассматриваемого периода, объясняя эту тенденцию прежде всего влиянием модернизационных процессов. При этом если некоторые авторы обращают внимание прежде всего на определяющую негативную (по крайней мере на данном хронологическом отрезке) роль модернизационных изменений (в частности - Е.Н. Ко-сарецкая, А.П. Веселовский, И.В. Скрябин, А.Р. Пав-лушков), то другие, не отрицая значимости процесса перехода от аграрного общества к индустриальному как одного из факторов модификации криминальной обстановки, называют в числе причин пореформенной делинквентности те или иные элементы традиционной правовой культуры (В.Б. Безгин, В.С. Сидорова, B. В. Кулачков, Т.Л. Музычук и др.), либо делают выводы об определенных положительных региональных тенденциях (П.А. Сучкин, В.В. Захаров, А.Н. Курцев, М.П. Шепелева). Б.Н. Миронов подчеркивает важность трансформации ценностных установок в пореформенный период, в то время как ряд историков отмечают значение социально-экономических проблем как предпосылок нарастания делинквентности (Н.А. Зоткина, C. И. Морюшкин, П.А. Сунгуров, В.П. Петрова и др.) Разные оценки даются дореволюционной правоохранительной системе как фактору, оказывавшему влияние на состояние криминальной среды. Нет общепризнанной точки зрения по вопросу о существовании в дореволюционный период организованной преступности. Большей частью авторов разделяются тезисы о процессах профессионализации, омоложения, феминизации криминального мира в пореформенную эпоху, о более широком распространении делинквентного поведения в городской среде по сравнению с сельской. Современные исследования, выполненные на местном губернском материале, показали наличие специфических тенденций в эволюции делинквентного поведения в различных регионах Российской империи. В частности, накоплен материал, демонстрирующий особенности изменений криминальной ситуации в аграрных регионах (менее выраженный рост преступности губерниях с преобладанием сельского населения), показана специфика развития преступного мира в Сибири (относительно высокий уровень криминализиро-ванности, собственная динамика количественных характеристик делинквентности, влияние переселения, ссылки и других региональных факторов на эволюцию криминальной обстановки). Отмечено негативное воздействие на уровень местной преступности территориальной близости региона к столице. Особые социокультурные и политические факторы сказывались на криминальной обстановке в казачьей среде. Различаются подходы к выбору объекта и предмета исследования. Если в ряде работ состояние преступности рассматривается как самостоятельная тема (Е.Н. Ко-сарецкая, М.П. Шепелева, О.В. Харсеева и др.), то в других случаях противоправная активность анализируется во взаимосвязи с функционированием правоохранительной системы (Н.Б. Атапин, С.А. Бушуева, В.Ю. Гол-динов и др.) либо в контексте изучения традиций и повседневной жизни представителей тех или иных сословий (В.Б. Безгин, Д.П. Жеребчиков, И.С. Менщи-ков, С.Г. Федоров, И.В. Скрябин, Д.Н. Гречишко и др.) Можно говорить о том, что в российской исторической науке сложились определенные традиции изучения делинквентного поведения, сформировался определенный круг вопросов, вокруг которых организуется исследовательская деятельность. Тем не менее работу по данной теме нельзя считать завершенной. В целом ряде регионов преступность не изучалась, либо имеются лишь статьи, посвященные отдельным аспектам местной делинквентности. Нет современных комплексных исследований пореформенной общероссийской преступности на уровне монографий и докторских диссертаций. Потребность в продолжении работы обусловлена и определенными расхождениями позиций по ряду значимых проблем. Дополнительной проработки требуют такие сюжеты, как количественная динамика делинквентного поведения (в частности -исследование ее региональных особенностей, подтверждение либо опровержение на местном материале цикличного и возрастающего характера изменения статистических показателей преступности, объяснение особенностей развития криминальной обстановки в тех или иных губерниях), сравнение влияния различных факторов на криминальную обстановку, оценка эффективности правоохранительной системы в борьбе с преступностью, степень сформированности органи- Пухов Д.Ю. Российская преступность второй половины XIX- начала ХХ в. 159 зованных криминальных групп, участие представителей уголовного мира в политической борьбе. Изучение социокультурного облика, криминологических особенностей право
Ключевые слова
преступность,
девиации,
историография,
модернизация,
пореформенная РоссияАвторы
| Пухов Денис Юрьевич | Уральский государственный лесотехнический университет | кандидат исторических наук, доцент кафедры социально-гуманитарных дисциплин | histp5@gmail.com |
Всего: 1
Ссылки
Безгин В.Б., Жеребчиков Д.П. Социальные девиации периода российской модернизации в современных исторических исследованиях // Современные исследования социальных проблем. 2015. № 5. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialnye-deviatsii-perioda-rossiyskoy-modernizatsii-v-sovremennyh-istoricheskih-issledovaniyah (дата обращения: 01.07.2018).
Данчевская А.В. К вопросу об историографии уголовной преступности в России в конце XIX - начале ХХ веков: советский и постсоветский периоды // Baikal Research Journal. 2016. Т. 7, № 1. URL: http://brj-bguep.ru/reader/article.aspx?id=20597 (дата обращения: 01.07.2018).
Павлушков А.Р. Проблема изучения правонарушений православного духовенства в отечественной историографии // Вестник Северного (Арктического) федерального университета. Сер. Гуманитарные и социальные науки. 2014. № 2. С. 13-20.
Поршнева О.С. Междисциплинарные методы в историко-антропологических исследованиях. 2-е изд., доп. Екатеринбург : УГТУ-УПИ, 2009. 210 с.
Лебина Н.Б. Повседневная жизнь советского города: нормы и аномалии. 1920-1930 годы. СПб. : Летний Сад, 1999. 320 с.
Девиантность и социальный контроль в России (XIX - XX вв.): тенденции и социологическое осмысление / отв. ред. Я.И. Гилинский. СПб. : Алетейя, 2000. 384 с.
Миронов Б.Н. Социальная история России периода империи (XVIII - начало ХХ вв.) : в 2 т. 3-е изд., испр. и доп. СПб. : Дмитрий Буланин, 2003. Т. 2. 583 с.
Атапин Н.Б. Борьба с девиантным поведением и уголовной преступностью в Российской империи (1881-1917 гг.) : дис.. канд. ист. наук. М., 2007. 220 с.
Бушуева С.А. Борьба с уголовной преступностью в России в 1907-1914 гг. : дис.. канд. ист. наук. М., 2009. 206 с.
Курас С.Л. О генезисе преступности в России (исторический аспект) // Власть. 2010. № 3. С. 78-81.
Голдинов В.Ю. Борьба с преступностью и обеспечение общественного порядка в Российской империи (1901-1904 гг.) : дис.. канд. ист. наук. М., 2012. 207 с.
Миронов Б.Н. Российская империя: от традиции к модерну : в 3 т. СПб. : Дмитрий Буланин, 2015. Т. 3. 992 с.
Яременко В.С. Российская организованная преступность: история и современность : автореф. дис.. канд. ист. наук. М., 2006. 25 с.
Зоткина Н.А. Феномен девиантного поведения в повседневной жизни российского общества на рубеже XIX-XX вв.: преступность, пьянство, проституция (на материалах Пензенской губернии) : дис. канд. ист. наук. Пенза, 2002. 374 с.
Смирнов М.А. Отечественная преступность и общественно-политическая ситуация в России во второй половине XIX - начале ХХ века (1861-1917 гг.) : автореф. дис.. канд. ист. наук. Кострома, 2006. 33 с.
Прозументов Л.М. Уголовное законодательство России XIX-XX в. об организованных преступных группах // Вестник Томского государственного университета. 2015. № 401. С. 233-238.
Ерещенко Д.Ю. Преступность в Петрограде в 1914-1917 гг. : автореф. дис.. канд. ист. наук. СПб., 2003. 30 с.
Карлеба А.В. Деформация правосознания населения России и борьба с противоправными проявлениями в условиях Первой мировой войны, 1914-1917 гг. : дис.. канд. ист. наук. Краснодар, 2005. 209 с.
Цысь С.Н. Уличная преступность и обеспечение правопорядка в городах Томской губернии в годы Первой мировой войны (1914 - осень 1917 г.) // Известия Алтайского государственного университета. Сер. История. 2010. № 4-1 (68). С. 265-269.
Шепелева М.П. Состояние уголовной преступности в российской провинции за 1861-1917 гг. на примере Курской губернии : автореф. дис.. канд. ист. наук. Курск, 2012. 23 с.
Косарецкая Е.Н. Женская преступность в Орловской губернии во второй половине XIX - начале XX вв. : автореф. дис.. канд. ист. наук. Орел, 2007. 25 с.
Куликова С.Г. Женская преступность как социальный фактор российской модернизации (вторая половина XIX - начала XX веков). Гагарин : Полимир, 2011. 174 с.
Морюшкин С.И. Преступность и борьба с ней в пореформенной России (на материалах Рязанской губернии) : автореф. дис.. канд. ист. наук. Орел, 2009. 23 с.
Полищук В.А. Уголовные преступления уральских крестьян (по материалам Екатеринбургского окружного суда) // Актуальные проблемы исторических исследований: взгляд молодых ученых : сб. материалов I Всерос. молодеж. науч. конф. Новосибирск, 2011. С. 117-124.
Богданов С.В., Ермолаев Д.В. Преступность среди женщин: от Российской Империи к Российской Федерации (опыт ретроспективного анализа) // Евразийский юридический журнал. 2012. № 9 (52). URL: http://naukarus.com/prestupnost-sredi-zhenschin-ot-rossiyskoy-imperii-k-rossiyskoy-federatsii-opyt-retrospektivnogo-analiza (дата обращения: 10.07.2018).
Безгин В.Б. Традиции сельской повседневности конца XIX - начала XX веков (на материалах губерний Центрального Черноземья) : авто-реф. дис. д-ра ист. наук. М., 2006. 41 с.
Безгин В.Б. «На миру» и в семье: русская крестьянка конца XIX - начала XX века. Тамбов : Тамбов. гос. техн. ун-т, 2015. 192 с.
Безгин В.Б. Убийство супруга(и) в крестьянской семье (конец XIX - начало XX века) // Исторические, философские, политические и юридические науки, культурология и искусствоведение. Вопросы теории и практики. 2016. № 1 (63). С. 27-30.
Веселовский А.П. Модернизационные процессы и крестьянская преступность в конце XIX - начале XX в. // Вестник Тамбовского государственного университета. 2008. Вып. 9 (65). С. 82-86.
Федоров С.Г. Влияние модернизационных процессов на правовое поведение и преступность крестьян Южного Зауралья во второй половине XIX - начале XX в. : дис.. канд. ист. наук. Челябинск, 2010. 292 с.
Менщиков И.С., Федоров С.Г. Девиантное и делинквентное поведение русских крестьян Южного Зауралья во второй половине XIX -начале ХХв. Курган : Изд-во Курган. гос. ун-та, 2013. 260 с.
Гречишко Д.Н. Девиантное поведение кубанского казачества во второй половине XIX - начале ХХ века и способы его преодоления : автореф. дис.. канд. ист. наук. Славянск-на-Кубани, 2011. 25 с.
Сидорова В.С. Крестьянская семья и бытовая преступность в России во второй половине XIX века // Вестник Ленинградского государственного университете им. А.С. Пушкина. 2011. № 1. С. 33-39.
Скрябин И.В. Воздействие модернизационных процессов на крестьянскую повседневность во второй половине XIX века на примере Тульской губернии // Известия Тульского государственного университета. 2013. Вып. 3, ч. 1. С. 122-128.
Быков А.В., Быкова А.Г. Правоприменительная практика по делам о коррупции государственных служащих Российской империи в начале ХХ в. (по материалам Омской судебной палаты) // Научный вестник Омской академии МВД России. 2013. № 4 (51). С. 49-51.
Тяпкин М.О., Антропов В.М. Историко-правовая характеристика участия полиции Томской губернии в охране лесов в начале ХХ века // Вестник Алтайского государственного аграрного университета. 2015. № 10 (132). С. 53-57.
Кулачков В.В., Музычук Т.Л. Криминологические аспекты правового сознания крестьянства Западного региона России на рубеже XIX-ХХ веков // Всероссийский криминологический журнал. 2017. Т. 11, № 3. С. 615-622.
Харсеева О.В. Преступность крестьян в губерниях Центрально-Черноземной России в конце XIX - начале ХХ в. // Ученые записки : электронный научный журнал Курского государственного университета. 2017. № 1 (41). С. 17-27. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_28786024_55174081.pdf (дата обращения: 02.11.2018).
Масалимов А.С., Масалимов Т.С. Нарушение законности полицией Российской империи при осуществлении полномочий по охране общественного порядка // Вестник ВЭГУ. 2008. № 5 (37). С. 112-120.
Сысоев А.А. Детерминанты преступности полицейских чиновников Восточной Сибири // Проблемы фальсификации истории в контексте становления и развития правовых структур : сб. науч. тр. Иркутск, 2013. С. 141-151.
Храмцов А.Б. Привлечение чинов полиции Томской губернии за противоправные деяния к ответственности в 1914-1916 гг. // Вестник Томского государственного университета. История. 2015. № 2 (34). С. 26-29.
Павлушков А.Р. Правонарушения духовенства как форма социально-политического протеста (XVIII-XIX вв.) // Право и политика: теоретические и практические проблемы : сб. материалов 2-й Междунар. науч.-практ. конф. Рязань, 2013. С. 90-93.
Павлушков А.Р. Преступность в среде духовенства России XIX в. // История государства и права. 2014. № 5. С. 41-46.
Ворошилова А.С. «Неканоническое» поведение священников переселенческих приходов: причины и специфика // Вестник Томского государственного университета. 2016. № 403. С. 28-33.
Сучкин П.А. Социальная структура преступности в Курской губернии конца XIX века // Формирование и развитие социальной структуры населения Центрального Черноземья. Тамбов, 1992. С. 54-55.
Захаров В.В. Купечество Курской губернии в конце XIX - начале ХХ веков : дис.. канд. ист. наук. Курск, 1996. 194 с.
Курцев А.Н. Преступность на территории Курской губернии в конце XIX - начале ХХ века (по статистике осужденных) // Преступность: состояние, проблемы и перспективы борьбы. Курск, 2002. С. 25-28.
Политов В.Е. Криминогенная ситуация в Тамбовской губернии на рубеже XIX-ХХ веков : автореф. дис.. канд. ист. наук. Орел, 2007. 27 с.
Жеребчиков Д.П. Г ородское население Тамбовской губернии в период модернизации (вторая половина XIX - начало ХХ в.) : автореф. дис.. канд. ист. наук. Белгород, 2013. 24 с.
Пулькин М.В. Девиантное поведение в XVIII - начале ХХ в. (по материалам Олонецкой губернии) // Культурно-историческая психология. 2008. № 2. С. 84-90.
Пулькин М.В. Российская преступность начала ХХ века (по материалам Олонецкой губернии) // Политика, государство и право. 2013. № 11. URL: http://politika.snauka.ru/2013/11/1051 (дата обращения: 28.01.2017).
Пулькин М.В. Раздача боли: насилие в общественной и личной жизни в XVIII - начале ХХ вв. (по материалам Олонецкой губернии) // Studia Humanitarius. 2016. № 2. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/razdacha-boli-nasilie-v-obschestvennoy-i-lichnoy-zhizni-v-xviii-nachale-xx-vv-po-materialam-olonetskoy-gubernii (дата обращения: 06.07.2018).
Попов А.С. К вопросу о преступности в Ярославской губернии в пореформенное время // Альманах современной науки и образования. 2008. № 6 (13), ч. 1. С. 176-177. URL: www.gramota.net/materials/1/2008/6-1/65.html (дата обращения: 10.04.2017).
Гусенков А.С. Полиция Новгородской губернии и борьба с преступностью во второй половине XIX - начале ХХ века: историко-правовой аспект : автореф. дис. канд. ист. наук. Белгород, 2009. 23 с.
Богданов С.В., Остапюк В.Г. Смертность населения Европейской части Российской Империи от убийств в 1870-1893 гг.: неизбежное следствие свобод или проблемы системных деформаций // Судебная реформа в России: преемственность и модернизация : материалы Междунар. науч.-практ. конф. Белгород, 2014. С. 264.
Харсеева О.В. Численность осужденных в губерниях Центрально-Черноземной России в конце XIX - начале ХХ вв. // Историко-правовые проблемы: новый ракурс. 2016. № 17. С. 57-75.
Харсеева О.В. Влияние революционных событий начала ХХ века на уровень преступности населения Центрально-Черноземной России // Innova. 2017. № 2 (7). С. 39-44.
Шиловский Д.М. Полиция Томской губернии в борьбе с преступностью в 1867-1917 гг. : дис.. канд. ист. наук. Новосибирск, 2002. 251 с.
Глазунов Д.А. Правовое измерение революции: проблема преступности в 1905-1907 гг. (по материалам Томской губернии) // Сибирское общество в период социальных трансформаций ХХ в. : материалы Всерос. науч. конф. Томск, 2007. С. 129-134.
Сунгуров П.А., Петрова В.П. Криминальная ситуация в Тобольской губернии (последняя треть XIX века) // Вестник Тюменского государственного университета. Сер. История. 2012. № 2. С. 121-125.
Васиховская Н.А., Сунгуров П.А. Хищения на золотых промыслах Восточной Сибири (1912 г.) // Теория и практика общественного развития. 2015. № 22. С. 135-136.
Данчевская А.В. Уголовная преступность в Восточной Сибири в конце XIX - начале ХХ в.: региональные особенности // Восьмые Байкальские Международные социально-гуманитарные чтения. Иркутск, 2015. Т. 1. С. 73-76.
Данчевская А.В. Уголовная преступность на трактах Восточной Сибири в конце XIX - начале ХХ веков // Актуальные вопросы развития современного общества : сб. науч. ст. Пермь, 2016. С. 32-34.
Ivanov A., Danchevskaya A. The Revolution of 1905 in Irkutsk and Criminality // Былые годы. Российский исторический журнал. 2018. № 47 (1). С. 383-392.
Сысоев А.А., Кавецкий Д.Б. Устойчивые преступные группы и их преследование на территории Иркутской губернии в XIX столетии // Baikal Research Journal. 2017. Т. 8, № 2. URL: https://elibrary.ru/download/elibrary_29366728_66695992.pdf (дата обращения: 16.11.2018).
Курас С.Л. Судебная отчетность в пореформенной России как источник изучения преступности // Власть. 2013. № 4. С. 165-167.
Харсеева О.В. Обзоры губерний как источник информации о состоянии преступности в России в XIX - начале ХХ вв. // История, теория, практика российского права. 2017. № 10. С. 125-137.
Синова И.В. Социологические теории как методологическая основа исторических исследований // Известия Алтайского университета. 2017. № 2 (94). С. 197-201.
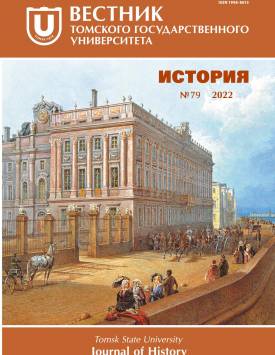

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью