Анализируется коллективная монография «Тлеющие угли империи в Великобритании в период Брекзита», опубликованная по итогам референдума о членстве Соединенного Королевства в Европейском союзе 23 июня 2016 г. В солидном издании интернациональный коллектив авторов представил свое видение причин Брекзита и его влияния на будущие отношения Лондона с внешним миром, отдельными регионами внутри страны и поиск новой внешнеполитической идентичности, по-прежнему определяемой через имперский компонент. Автор заявляет об отсутствии конфликта интересов.
Britain, brexit and challenges of the post-imperial identity: Review. Embers of Empire in Brexit Britain. Ed. by Stuart .pdf 31 января 2020 г. Великобритания покинула Европейский союз. Произошел так называемый Брекзит -выход страны из объединения. К этому событию Британия подошла спустя почти четыре года после референдума 23 июня 2016 г. о членстве в Евросоюзе и три года переговоров. Долгое вступление в Европейские сообщества как предтечу Евросоюза закольцевалось менее длительным, но не менее сложным и болезненным для обеих сторон выходом страны из состава союза. Брекзит актуализировал обращение в научной среде Великобритании и других стран к вопросам членства Лондона в Европейском союзе и более широким сюжетам. В фокус «повторного» или нового научного интереса вошли сюжеты, связанные с отношением Британии к европейской интеграции, формированием «особой позиции» внутри Европейских сообществ, ее эволюцией в период пребывания страны в наднациональных структурах и общим позиционированием страны на мировой арене. Соединенное Королевство, потеряв одну из важнейших точек опоры после выхода из ЕС, было вынуждено искать новую стратегию для укрепления престижа страны на мировой арене и перезапуска своих связей с окружающим миром. Новой внешнеполитической установкой, сначала в виде броского лозунга, а позднее в формате до сих пор продолжающей насыщаться идеи, стала «Глобальная Британия». Ее суть упрощенно состоит в том, что после выхода из ЕС Великобритания должна сосредоточиться на укреплении своих позиций в других частях света, освободившись, как утверждали евроскептики, от сковывавших ее рамок Евросоюза. Концептуально в «Глобальной Британии» просматривается связь с «теорией трех окружностей» (или «трех величественных кругов») У. Черчилля 1948 г., подразумевающей три приоритетных направления внешней политики: англо-американские отношения, связи с Содружеством и взаимодействие с ЕС. Особую роль играет контекст появления двух обозначенных установок. «Теория трех окружностей» была озвучена в тот период, когда Великобритания начала сокращать свои колониальные и другие внешнеполитические обязательства в условиях обозначившейся деколонизации и сокращения финансовых возможностей страны. Переформатирование Британской империи сопровождалось болезненным кризисом имперской идентичности и поиском адекватной модели ее трансформации. После референдума о Брекзите Лондон оказался перед той же дилеммой: нужно было «сверить часы» и четко определиться с ключевыми направлениями международной политики. Вновь, как и в черчиллевской теории, упор был сделан на отношения с Вашингтоном, новый курс с ЕС и укрепление связей с азиатскими странами Содружества. Сюжеты, связанные со становлением новой внешнеполитической линии и поиском себя после Брекзита, нашли отражение в коллективной монографии «Тлеющие угли империи в Великобритании в период Брекзита» [1]. Работа вышла в 2019 г. под редакцией профессора и директора Института истории, этнологии, археологии и античности им. Саксона Копенгагенского университета (Копенгаген, Дания) С. Уорда и адъюнкт-профессора английского языка в Норвежском университете науки и технологий (Тронхейм, Норвегия) А. Раш. Монография состоит из 14 глав, введения и заключения, которые фигурируют как самостоятельные главы; итого 16 частей работы. Коллектив авторов интернациональный, и, как представляется, такой состав был собран сознательно - каждый из авторов не только дает определенный взгляд на исследуемые проблемы, но и олицетворяет собой разные регионы Британии и другие страны, так или иначе связанные с ней исторически. Научный и практический интерес исследование представляет по нескольким основаниям. Во-первых, оно фиксирует явление Брекзита «здесь и сейчас», по горячим следам, когда объективный анализ сопряжен с эмоциональным отношением, сопереживанием события и возможностью проговорить «между строк» зацепившие исследователя как современника важные моменты без оглядки на политкорректность и другие «фильтры». Во-вторых, работа позволяет три года спустя после публикации и два года спустя после выхода Великобритании из ЕС оценить, какие из прогнозов оправдались, какие станут реальностью в ближайшем будущем, а каким сбыться уже не дано. Центральным ядром книги выступают «имперский» контекст Брекзита, его проявления в разных сферах жизни британского общества, влияние на внешнеполитическое мышление страны. Замысел издания поясняется как «первая совместная попытка исследовать имперские основания своенравного выхода Велико- Хахалкина Е.В. Британия, Брекзит и вызовы постимперской идентичности 203 британии из Европейского Союза. Наше общее допущение состоит в том, что Британская империя действительно ушла в прошлое», но «что же тогда скрывается за мнимой мощью империи? Как мы можем объяснить почти неземное присутствие угольков империи в Брекзите?» [1. P. 4-5]. Особого внимания заслуживает Введение, озаглавленное «Большая Британия, Глобальная Британия». Первая часть заголовка (Greater Britain) отсылает к концепту «Большой Британии», который в российской историографии, в отличие от западной [2-4], не становился предметом специального анализа. Обозначенный термин возник во второй половине XIX в. в общественно-политическом дискурсе Великобритании в связи с возрастанием рисков будущему страны и ее империи. В качестве сильных конкурентов себя заявили такие новые игроки, как Германия и Италия, завершившие процессы объединения в начале 1870-х гг., и США, резко вырвавшиеся вперед в связи с технологическим рывком и поиском новых рынков сбыта после завершения освоения западного фронтира. Другим конкурентом оставалась Россия, что побуждало Британию задумываться о выработке адекватного ответа на эти новые и старые вызовы. Одним из таких ответов стало предложение некоторых британских деятелей о создании «Большой Британии» как конструкции, которая прежде всего должна была объединить переселенческие колонии - Австралию, Канаду, Южно-Африканский союз и Новую Зеландию -для оформления «общей этнической идентичности белых британцев» [5. С. 285]. В 1868 г. появился двухтомный рассказ с одноименным названием политика-либерала Ч. Дилка о его путешествии по имперским владениям [1. P. 6]. Позднее идею создания «Большой Британии» в формате «имперской федерации» развил английский историк Дж.А. Фруд [3. P. 193], вслед за ним тезис подхватили и углубили его понимание два британских ученых: историк и публицист Дж.Р. Сили и географ и геополитик Х.Дж. Макиндер. В своих разработках они вели речь о создании объединения, основанного на четырех основных идеях: (1) разделение между «колониями поселенцев» и «правлением Британии среди иных рас», (2) федерация между Соединенным Королевством и колониями поселенцев, (3) система тарифных преференций для экономической интеграции Великобритании, (4) программа социальной демократизации и повышения благосостояния. Первые должны были быть связаны более тесно, вторые -в конечном итоге получить независимость. Британская империя (кроме Индии и Тропической Африки) должна быть населена членами «британской нации», эмигрировавшими с Британских островов [Ibid. P. 197]. Дж.Р. Сили и Х.Дж. Макиндер исходили из предположения, что «новые технологии» приведут к образованию «крупных самоуправляемых режимов» и объединению «разбросанных по земному шару фрагментов британской “нации”» в «жизнеспособное национальное государство» [Ibid. P. 194]. Хотя эти прогнозы оправдались лишь частично (развитие транспорта и авиасообщения действительно упростили передвижения людей ко второй половине XX в.), концептуально в миграционной картине Британии просматривается прямая связь с обозначенными идеями. Таким образом, концепт «Большой Британии» высвечивает две большие проблемы. Во-первых, он показывает, что термин «Британская империя» уже в конце XIX в. представлялся не вполне адекватным для описания текущего положения дел, во-вторых, уже тогда Лондону требовался инструмент для сохранения британских позиций в условиях обострившейся конкуренции. Вторая часть заголовка первого раздела отсылает к «Глобальной Британии», вокруг которой и выстроена книга. Пафосная риторика данного тезиса, по мнению авторов, имела целью в первые месяцы презентации этого внешнеполитического концепта широкой общественности скрыть отсутствие в нем внятного содержания. Т. Мэй, Б. Джонсон и другие политики пытались апеллировать к исторической памяти, «инстинктивному чувству» британского народа и «новому» открытию Британией «своей роли великой, глобальной, торговой державы» [1. P. 1]. Авторы беспощадны к новой внешнеполитической линии: они препарируют громкий лозунг и обнаруживают, что это «скорее не “план для Британии”, а ряд экстравагантных пророчеств», нацеленных на возвращение страны «назад в мир, слишком поспешно заброшенный в 1973 г.» [Ibid. P. 2]. Коллективная монография ставит вопросы о том, что, кроме громкой риторики, может реально предложить Великобритания, насколько в качественном плане изменится или уже меняется ее внешнеполитическая стратегия. Или страна продолжит цепляться за свой имперское прошлое и пытаться возродить его в новом формате, но с прежним мышлением? Неслучайно одним из постоянных рефренов коллективной монографии является обращение к проблемам коллективной памяти, национальной идентичности и роли в ней имперского компонента, несколько веков цементировавшего национальную гордость жителей страны (главы 4, 5, 11, 12). Брекзит обозначил столкновение разных картин мира. Первая условно разделяется теми жителями Британии, которые считают, что роль страны в условиях деколонизации и вступления в Европейские сообщества была снижена (хотя прямой корреляции между этими событиями не просматривается), и после выхода из Евросоюза страна обретает возможность укрепления своих позиций в мировых делах. Вторая характерна для тех людей, которые считают, что Британская империя - это пережиток прошлого, и страна должна смириться со своей региональной ролью. Согласно одному из опросов, проведенному в сентябре 2020 г., 41% жителей выступал за то, Лондон должен «ударить сильнее своих возможностей» в мировых делах, 38% считали, что королевству следует перестать «притворяться важной (выделено мной. -Е.Х.) державой в мире» [6]. Важным компонентом дебатов о национальной идентичности Великобритании остается миграционный фактор, имевший особое звучание на референдуме. В начале 2016 г. все еще наблюдался рост недовольства общества миграционным курсом ЕС, обусловлен- Рецензии /Review 204 ного резким увеличением прибывавших в страны ЕС беженцев в 2015 г. Эти события способствовали усилению правых сил, в частности Партии независимости Соединенного Королевства. Автор соответствующего раздела (глава 10) обращает внимание на тот факт, что «многие чернокожие и азиатские британцы проголосовали за выход из Евросоюза» [1. P. 101]. Сам референдум заставил «многих людей небелого происхождения чувствовать себя менее защищенными... будь то с точки зрения общего неприятия их британского происхождения или публичного признания их права на проживание; будь то иностранные студенты, просители убежища или работники ЕС в Великобритании с правом на свободу передвижения. Беженцы. в последние годы занимали темное и неясное место в сознании британцев» [1. P. 102]. Эпоха мультикультурализма не только способствовала формированию «общества разнообразия», но и высветила неизбежное столкновение разных групп: «.как принимающее общество, так и мигранты не стремятся полностью отказаться от “своего” прошлого ради Другого» [7. С. 29]. Обозначилась встреча разных национальных историй, которые, «как и любые иные картины прошлого, не просто сосуществуют, они то и дело... вступают в конфликты друг с другом» [8. С. 95]. Затрудняет узнавание Другого постоянное спекулирование СМИ на миграционной теме, что приводит к «соединению» в общественном сознании разных категорий мигрантов в единую безликую массу и ее восприятию как угрозы. Преодоление таких закономерно возникающих разногласий требует целенаправленных усилий по налаживанию реального, а не декларативного, диалога между сторонами. Имперский контекст Брекзита привел к появлению тезиса об Империи 2.0, который был выдвинут одним из британских чиновников и подхвачен СМИ и научным сообществом. Хотя отношение к этому тезису на экспертном уровне в Британии заметно ироничное, само его появление симптоматично. Логично и обращение авторов соответствующего раздела (глава 2) к периодически возникающей в западной историографии концепции «Британского мира» [1. P. 18; 9]. С этим понятием связано другое, крайне популярное в последнее время, - это «Англосфера», подразумевающая объединение ориентированных на Британию англоговорящих стран и проведение активной торговой политики благодаря «общему языку, общим культурным и правовым рамкам, созданным на основе опыта империи» [1. P. 21]. Однако содержание термина до сих пор остается неясным, так же как и перспективы «жизнеспособного торгового блока» [Ibid.]. При этом в монографии, к сожалению, отсутствует специальный раздел или какие-то серьезные упоминания о России (но зато есть глава, посвященная отношениям с Китаем), хотя Брекзит оказал воздействие на российско-британские отношения в сторону их ухудшения. Лондон для увеличения рейтинга консервативной партии и отдельных политиков активно разыгрывал и продолжает разыгрывать антироссийскую карту. После начала специальной военной операции 24 февраля 2022 г. и беспрецедентных в истории Британии антироссийских санкций отношения двух стран оказались фактически разорваны. При этом именно в имперской плоскости между Соединенным Королевством и Россией как своеобразными альтер-эго друг друга можно увидеть определенные закономерности, схожие трудности при расставании с империями и выстраивании взаимоотношений с бывшими территориями. Издание оставляет ощущение, что Британия, вопреки ее заявлениям, не выходит во внешний мир после освобождения от «оков Брюсселя», а наоборот, замыкается на себе. Такой период самоопределения внутри себя, возможно, поможет ей перестроить текущую повестку, если страна честно соотнесет свои ресурсы и амбиции, снизить накал наиболее болезненных для общества травм прошлого и найти способы для примирения разных, включая колониальные, картин прошлого. При этом открытыми остаются вопросы о качественном насыщении концепта «Глобальная Британия», преемственности с «Большой Британией», новшествах во взаимоотношениях с внешним миром и преодолении травм былого величия и адекватного восприятия себя и других в новых международных реалиях.
Embers of Empire in Brexit Britain / еd. by S. Ward, A. Rasch. London, New York: Bloomsbury Publishing, 2019. 190 p.
Armitage D. Greater Britain: a Useful Category of Historical Analysis? // The American Historical Review. 1999. Vol. 104, № 2. P. 427-445. doi: 10.2307/2650373
Deudney D. Greater Britain or Greater Synthesis? Seeley, Mackinder, and Wells on Britain in the Global Industrial Era // Review of International Studies. 2001. Vol. 27, № 2. P. 187-208.
Lecourt S. The Mormons, the Victorians, and the Idea of Greater Britain // Victorian Studies. 2013. Vol. 56, № 1. P. 85-111. doi: 10.2979/victorianstudies.56.1.85
Ливен Д. Империи и власть. Размышляя над современной историографией истории империй // В поисках истины : Сб. к юбилею академика А.О. Чубарьяна. М. : ИВИ РАН, 2012. С. 279-301.
Britons lose confidence in Great Britain’s position and influence in the world. URL: https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk/britons-lose-confidencegreat-britains-position-and-influence-world (accessed: 22.06.2022).
Буллер А. Культурная память мигрантов и принимающего общества в эпоху мультикультурализма // Журнал фронтирных исследований. 2020. Т. 5, № 2 (18). С. 27-59. doi: 10.46539/jfs.v5i2.202
Бойцов М.А. История и глобализация. Выживет ли Клио при глобализации? // Общественные науки и современность. 2006. № 2. C. 91-108.
Empire, Migration and Identity in the British World / K. Fedorowich, A.S. Thompson (eds.). Manchester : Manchester University Press, 2013. 336 p.
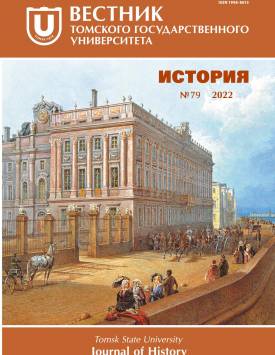

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью