Рассматривается феномен пространственного воображения в сюжетосложении аллегорической повести Н.Д. Ахшарумова. Обращаясь к максимально обобщенному сибирскому топосу и игнорируя этнографические сведения, писатель конструирует антиутопический сюжет, отталкиваясь от романов Н.Г. Чернышевского и Ф.М. Достоевского. Сибирь как пространство воображения становится топосом эксперимента, продолженного писателем в его фантастической повести «Ванзамия».
From Lazarus to the Petrashevtsy: Imagining Siberia in the Allegorical Novel Citizens of the Forest by Nikolai Ak.pdf К концу 1860-х гг. в русской периодике был накоплен значительный материал, позволяющий составить представление как о географии и этнографии, так и повседневности сибирской жизни. Вместо монолитного чужого пространства, населенного малыми народностями (или так называемыми инородцами), путевые очерки и заметки, воспоминания и письма формировали представление о разнообразии сибирской жизни и ее региональной специфике. Вместо пределов lim 1 «Царство мертвых» и lim 2 «Новый свет» складывались отдельные точечные представления, позволяющие составить довольно полную картину местной жизни, существенно корректирующую и романтические, и просветительские стереотипы. Этому вопросу посвя- 1 Исследование выполнено в рамках проекта Института филологии СО РАН «Культурные универсалии вербальных традиций народов Сибири и Дальнего Востока: фольклор, литература, язык» по гранту Правительства РФ для государственной поддержки научных исследований, проводимых под руководством ведущих ученых (соглашение № 075-15-2019-1884). От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири 215 щены многие ставшие классическими работы и современные исследования о «константах» и «переменных» сибирского текста [1-10]. Как известно, «Записки из Мертвого дома» Ф.М. Достоевского стали стимулом для создания очерков, открывающих новое измерение повседневности - подробности острожной жизни исключенных из общества, отверженных людей. Так, например, никогда не бывавший в Сибири Н.С. Лесков в своем очерке «Леди Макбет Мцен-ского уезда» воспроизводит описание этапа по запискам Достоевского, из-за чего движению по Волге сообщаются коннотации схождения в царство мертвых, традиционно соотносимого с путешествием в Сибирь [11]. Сходное явление «пространственного воображения» [12] представляет собой повесть другого современника Достоевского Н.Д. Ахшарумова. Опубликовавший в «Отечественных записках» повесть «Двойник» в год, когда петрашевцы были этапированы в места ссылок (1850, среди них и брат писателя - Д.Д. Ахшарумов), выступивший «соперником» Достоевского в романе «Чужое имя» (вышедшем одновременно с «Униженными и оскорбленными» в 1861 г.), наконец, ставший сотрудником журнала «Эпоха» («Мудреное дело» - 1864), Ахшарумов вступил в новую фазу соперничества в 1867 г., став читателем и критиком романа «Преступление и наказание». Статья Ахшарумова, посвященная разбору романа, изобличает своеобразный страх влияния [13]: на протяжении своего разбора он неоднократно допускает функциональную мену позиции критика и автора [14], фактически переписывая исходный текст2. Ключевые для понимания романа мотивы представлены Ахша-румовым как ложные, неудачные, спорные. Он ставит под сомнение воскресение главного героя и образ Нового Иерусалима: 2 «Мы с беспокойством осматриваемся, мы ищем напрасно чего-нибудь, что помогло бы нам ориентироваться, узнать достоверно: где мы, с какой стороны вошли и куда нас зовут?.. Первое впечатление, производимое романом г-на Достоевского, действительно таково, и мы не можем сказать, чтобы оно было приятно. Оно похоже скорее на то, что мы ощущаем в минуты тяжёлого, страшного сновидения...» [15. С. 130]; «Он силится устоять и хватает нас за руку; но ноги его скользят в крови. Вместе с его ногами скользят и наши... Мы слились с ним; мы не можем себя отделить от него, не смотря на то, что он гадок нам...» [15. С. 131]. А.Е. Козлов 216 Вернёмся к Раскольникову. Человек этот кается; но и кается он так же, как и согрешил, противоречиво и непоследовательно, какими-то трансами и припадками. Двадцать раз убедясь и сознавшись, что он виноват кругом, на двадцать первый он возвращается снова к своим теориям и начинает опять твердить, что он, в сущности, прав и что ошибка его только в том, что он считал себя человеком, между тем как он просто вошь, такая же вошь, как и та старуха, которую он уходил. Опять ему начинают мерещиться Наполеоны и Магометы, и опять он не может понять, отчего их не сослали на каторгу, а его сослали. Каким образом совершился в нём окончательный перелом и он перешёл к возрождению, это было бы любопытно узнать; но на это в романе есть только одни намёки. Мы знаем, что главным двигателем была любовь - и любовь к Соне; но даже и это рассказано второпях, суммарным приёмом всех эпилогов. По свидетельству автора, он стал совершенно другим человеком и начал новую жизнь, которая могла бы служить предметом другого рассказа, а этот кончен [15. С. 154]. Будучи противником любых радикальных социальных преобразований, отстаивая свою позицию «внепартийного» литератора, Ах-шарумов не мог принять во многом утопического финала «Преступления и наказания». Не сумев разрешить эту задачу аналитически, критик далее подошел к ней эстетически. Противоречие, обнаженное в статье, получило развитие в сюжете и ценностной архитектонике повести «Граждане леса», печатаемой в следующем номере того же журнала «Всемирный труд». Ахшарумов начинает свое произведение с той точки и тех координат, которыми, собственно, заканчивается «Преступление и наказание». Находящийся на поселении в Сибири золотоискатель и охотник, бывший каторжник Лазарь реализует просветитель- 3 ский проект: он дает животным язык и закон , учит их социальным принципам общежития, создавая некоторое подобие фаланстера. 3 Особое внимание критиков и читателей к «социальности» фауны было вызвано публикацией «Жизни животных» А. Брема, трактата о языке В. Вундта и «Начал общей психологии» Г. Спенсера. Следует отметить, что в журнале «Всемирный труд» публиковалась статья М. Петри «Умственная жизнь животных» (1867. № 6), где убедительно доказывалась невозможность обучения животных человеческому языку. В черновых записях, озаглавленных «О представительном смысле имени», Ахшарумов возвращается к этой проблеме. От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири 217 История героя рассказана в романе через многочисленные фигуры умолчания: С ним были деньги и кое-какая одежа, но кто он и каким образом очутился в лесу, об этом особого разговора не было. Его звали Лазарем4. Он был от природы крепко сложен и здоров, но бледен и истомлен с лица. Он был не стар, но ранняя седина пробивалась у него в волосах, и на лице лежали следы страданий. Сумрачный, молчаливый - он редко участвовал в разговорах, - однако ж легко было угадать, что не гордость удерживала его. Он был кроток и прост, как дитя [16. № 4. С. 4-5]. Герой Ахшарумова, получив дар понимания животного языка, собирает зверей со всего леса, огораживает территорию, в которую могут быть вхожи только граждане, принявшие законы нового общества, имеющего свою думу, управу, суд и армию. В данном фрагменте можно увидеть отчетливую параллель с Книгой Бытия (Лазарь как Ной): И, действительно, Лазарь расслышал вдали смутный гул, как будто от тысячи голосов и шагов, стремящихся прямо к нему навстречу. У него сердце забилось, дух захватило. Перед ним был авангард движения. Олени и лоси рогатые, дикие козы, пушистые соболи и бобры, горностаи, куницы, хорьки, серые волки, пегие барсуки, кабаны, полосатые рыси с густыми, желтыми бакенами и с беленькими султанчиками на остроконечных ушах, белки, кроты, хомяки, байбаки, землеройки, - все это высыпало стадами и окружило Лазаря. Земли не видать было на сто шагов кругом, так густо столпились звери, а в воздухе стало темно и ветви дерев гнулись от множества птиц [16. № 5. С. 95]. Воспроизводя традицию бестиария, Ахшарумов, перечисляя названия разных особей, тем самым демонстрирует многообразие форм органического мира. Героем постепенно осуществляется устройство общества в соответствии с Книгой Царств и мифологическим стремлением к золотому веку. Тем не менее сегрегация общества, отбор тех, кто может войти в заповедную землю, отчетливо 4 При вероятной отсылке к эпилогу «Преступления и наказания» имя героя, вероятно, связано с поэмой О. Барбье «Лазарь», читаемой и обсуждаемой петрашевцами. Оба текста сближает скептический взгляд на цивилизацию и отрицание гуманизма как универсальной и безусловной ценности. А.Е. Козлов 218 коррелирует с идеей нового спасительного порядка для избранных (как в заключительном сне Раскольникова), исключая возможность осуществления демократической утопии. Изначально, надеясь утвердить новый порядок в животном мире, Лазарь руководствуется идеями Руссо о пагубности цивилизации: «Сущность его объяснения состояла в том, что дурное способно идти вперед также как и хорошее, если не больше его; - что люди глубоко испорчены; - что чем дальше они ушли на пути их развития, тем труднее их исправлять, и что теперь эта трудность дошла до огромных размеров, потому что они уже несколько лет шли по ложной дороге. То, что они нашли и усвоили себе на этой дороге, -называется вообще, - сивилизация» [16. № 4. С. 36]5. Герой выступает как идеолог и теоретик, фактически приближающийся к жизнестроительству, своими действиями буквально претворяя в жизнь формулу одного из персонажей Достоевского: «ведь природу поправляют и направляют». Пришедший к нему лесной народ Лазарь ведет за собой и, видя нарушение существующих порядков, дает гражданам закон (Лазарь как Моисей). К вечеру в новой общине провозглашен был публичный устав об убийстве, разбое и грабеже, и Лазарь вырезал его крупными буквами на дверях избы, что, впрочем, напрасно было, потому что никто из зверей читать не умел [16. № 5. С. 102]. Данный эпизод является одним из образующих в сюжетной организации произведения, поскольку здесь утверждается роль закона, которому принявшие его веруют слепо, не зная грамоты. Фактически Лазарь-законотворец навязывает обществу исполнение таких правил, смысл которых доступен только людям. 5 Знаменательно, что именно в таком ключе Ахшарумов интерпретирует роман Б. Ауэрбаха «На высоте»: «... автор имел намерение изобразить нам идею высшей цивилизации, утратившей чистоту народного духа и осужденной на смерть, если она не покается и не вернется к первобытному, неиспорченному источнику, который один может омыть ее грехи и вдохнуть в нее свежую силу В цивилизации этой все ложь и притворство В сердце своем они дикари, они стремятся к дикой свободе права естественного, а в отношении к обществу - воры» [17. С. 108-109]. От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири 219 По мере развития сюжета, во многом предвосхищая Жюля Верна и Герберта Уэллса (очевидно, не без влияния Бульвер-Литтона), Ахшарумов демонстрирует искусственность человеческих порядков, механически насаждаемых в животном обществе. Ни направление, ни, тем более, поправление природы не дают ожидаемого эффекта: Все то, что ты навязал им, весь этот призрак устройства, порядка, законов, разумной связи, все это было и будет для них пустою формой, которую они сбросят при первом удобном случае и в один день вернутся к старому, дикому быту. Кто нам присвоил право насильно ломать их простодушные верования, насильно навязывать им то, чего ни один между нами не понимает.. .[16. № 5. С. 53]. Возвращаясь к конфликту, осмысленному еще в эстетике и философии эпохи Просвещения, Ахшарумов демонстрирует консервативность животного мира. Желающий навести порядок Лазарь предстает своеобразным преступником, отвергающим логику законов природы, в то время как его антагонист лис Елисеевич, напротив, понимает подлинные потребности своих соплеменников. Глядя на животный мир, Лазарь убеждается, что «все помыслы и стремления его постояльцев ограничены узкою рамкою личной нужды и домашних забот» [16. № 5. С. 24]. В то же время создаваемая им рамка гражданственности оказывается лишь «.гнилой изгородью, сколоченной теми же старыми ржавыми гвоздями». Лазарь, как и герой Достоевского, является идеологом, чьи концепции преображения мира имеют отчетливо маркированные негативные коннотации. . но все это было последствие внешней, грубой, почти механической силы, а в нравственном смысле - ложь, потому что лечение, направленное против одних наружных симптомов зла, не могло уничтожить его постоянных причин, и сознание этого недостатка мучило Лазаря. Голова у него была наполнена новыми, светлыми взглядами на подобного рода вопросы; теории неизмеримых объемов, идеи неисчерпаемой глубины бродили в ней с давних пор, и он, разумеется, горел нетерпением осуществить их как можно скорее при этом, по-видимому, весьма удобном случае, а между тем осуществление это, в данный момент, каждый раз, как на зло, оказывалось то неудобно, то преждевременно, и он с неописанным отвращением должен был вваливаться на каждом шагу в ту самую колею старой рутины, против которой он задавал себе тяжкий вопрос [16. № 5. С. 77]. А.Е. Козлов 220 Социальный эксперимент в итоге завершается неудачей: «граждане леса» начинают поклоняться олицетворенному символу животного первобытного страха - тотему Великой мухи: «Жертву растягивали на камне, и лис, торжественно наклонясь над нею, перекусывал ей становую жилу» [16. № 6. С. 7]. После этого в обществе разгорается восстание, насильственно культивируемая демократия терпит поражение и уступает авторитаризму (Елисеевичу и его приспешникам) и тотемизму (с архаическими законами и жертвоприношениями). Избирая тотем Великой мухи, лесные жители окончательно теряют свою гражданственность, представая в своем естественном виде и в то же время показывая, что человеку, кем бы он ни был, в их мире нет места (ни для жизни, ни, тем более, для воскресения). Как следует из вышеизложенной фабульной канвы и сюжетной конструкции, сюжет сказки Ахшарумова представляет собой вариацию на тему «Микромегаса» Ф. Вольтера и «Путешествия Гулливера» Дж. Свифта или (в русской литературе к ним наиболее близки «Дворянин-философ» Ф. Дмитриева-Мамонова и «Путешествие в землю Офирскую» М. Щербатова) социалистических утопий Кабэ и Сен-Симона, определяющих круг чтения петрашевцев [18-25]. По всей видимости, «Граждане леса» отразили разочарование и неприятие Ахшарумовым социальных проектов от фаланстера Фурье до «хрустального дворца» Чернышевского. Следуя во многом новозаветным максимам (будьте как дети), Лазарь в то же время вынужден жить по Ветхому Завету (око за око, зуб за зуб). Из этого следует, что Лазарь Ахшарумова в ценностной архитектонике произведения не только не тождествен Лазарю у Достоевского, но, в сущности, противоречит выработанной Достоевским ценностной системе. Вместо метафоры кающегося, обретающего веру и, наконец, воскресающего грешника [26, 27] Ахшарумов через Лазаря осмысляет социальное и онтологическое измерение человека как такового. Меняя таким образом антропологию сюжета, Ахшарумов наделяет его качественно иным идеологическим содержанием, в большей мере соответствующим «Левиафану» Т. Гоббса. Подобно большинству антиутопий, «Граждане леса» демонстрируют развитие социального проекта в нескольких фазах: становле- От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири 221 ния гражданского общества, его расцвет и падение. Ахшарумов показывает, как гармония животного мира оказывается во власти одного человека и данного ему слова, как массовый инстинкт (инстинкты выживания, размножения и пр.), движимый воззваниями хитрого лиса, превалирует над потребностями каждой особи (скота или твари, как это следует из текста). В то же время в основе «Граждан леса» реализуется хорошо разработанный западноевропейским фольклором и литературой сюжет о встрече короля и лисицы, нашедший отражение в поэмах и романах Средневековья [28], наиболее известный по позднейшему переложению И.В. Гёте (первый перевод был осуществлен М.М. Достоевским). Если главными героями «Рейнеке-Лиса» предстают глупый король Нобель и хитрый лис Рейнеке (Ренар), то в адаптации Ахша-румова их место занимают Лазарь и лис Елисеевич6, состязающиеся за право первенства в гражданском обществе. Олицетворяющие два альтернативных политических устройства - либерально-демократическое и, соответственно, деспотически-монархическое, эти герои в равной мере далеки от идеала справедливого правления в духе «Икарии» Кабе. Фактически герой Ахшарумова проходит обратный Раскольникову путь - от веры в гармонию и совершенство природы (или человечности) к трагическому осознанию своего одиночества. Финал повести - смерть Лазаря, представляет своеобразный обвинительный вердикт социальным проектам в широкой перспективе - от фаланстера петрашевцев до нового руссоизма и хождения в народ. Отча- 6 Выбор номинации, вероятно, связан с романом «Отцы и дети»: «Ах, какую удивительную статью по этому поводу написал Елисевич! Это гениальный господин!» [29. С. 162]. Знаменательно, что в 1866 г. Г.З. Елисеев язвительно отозвался о «Преступлении и наказании», сравнив его с произведениями Н.Д. Ахшарумова: «Я говорю теперь, что “Натурщица” г. Ахшарумова нисколько не ниже, а напротив выше романа г. Достоевского... Всё это чепуха и галиматья, но чепуха и галиматья не кровожадная, как у г. Достоевского, а добродушная, безобидная, веселая, игривая» [30. С. 43]. Обычно не вступавший в литературную полемику Ахшарумов мог в данном случае отомстить своему оппоненту за резкую рецензию, сделав его антагонистом Лазаря. «Граждане леса» в этом контексте обретают еще и черты памфлета, что сближает этот текст с другими полемическими текстами: романом «Мудреное дело» и повестью «Натурщица». А.Е. Козлов 222 сти это объяснялось жизненным опытом: вера в провиденциальное начало, обретенная Достоевским в Омском остроге, оказалась категорически чуждой скептику и атеисту Ахшарумову, стоящему в стороне от социальных поисков своего времени [25]. Поэтому в конфликте natura и ratio в антиутопии Ахшарумова побеждает natura [31]; вместо фейербаховского тезиса «Человек человеку бог» (Homo homini deus est) на первый план выходит сентенция, воплощающая логику развития цивилизации: «Человек человеку волк» (Homo homini lupus est). Ахшарумов соглашается с Достоевским только в одном: для переустройства общества «... нужно кое-что повыше скотского разумения. Нужна любовь и нужно самопожертвование» [16. № 6. С. 72]. Кроме представленных «силовых линий» интертекста, рассмотренный сюжет провоцирует к поиску определенных прототипов и социально-политических аллюзий7. В первую очередь значение здесь имеет история семьи. М. Семевский писал в своих воспоминаниях: «Познакомился с семейством Ахшарумовых (с четырьмя из пяти братьев): Старший (Н.Д.) - философ и писатель, второй (Владимир) - поэт, третий - политико-эконом и хозяин, последний -сотоварищ Петрашевского, сосланный в арестантские роты Херсона» [33]. Действительно, Николай Дмитриевич, как и два его брата, посещавший «собрания обвиняемых в злоумышлении лиц, именно Дебу и Кашкина» и вступавший «в разговоры об учении Фурье, но безо 7 Уже в психологическом портрете Лазаря: «усталость желания и надежды, утомление оскорбленного сердца, чувство чего-то надорванного и сломанного внутри, которое убивало всякую веру в возможность счастья, в способность ужиться с людьми» [16. № 4. С. 15], можно выявить маркеры, часто используемые современниками при описании петрашевцев. «Круг этот составляли люди молодые, даровитые, чрезвычайно умные и чрезвычайно образованные, но нервные, болезненные и поломанные. В их числе не было ни кричащих бездарностей, ни пишущих безграмотностей, - это явления совсем другого времени, но в них было что-то испорчено, повреждено» (курсив А.И. Герцена. - Е.К.) (Герцен А.И. Былое и думы [32. С. 108]). На то обстоятельство, что Лазарь - политический ссыльный указывает, в частности, следующий фрагмент: «Говорили о дальнем западе, о пылких надеждах молодости, жизнью разбитых в прах, об уцелевших и погибших друзьях» [16. № 6. С. 7]. От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири 223 всякого участия в злоумышлении»8, был арестован по апрельскому делу о политическом заговоре, однако перед судом не предстал. Иначе сложилась судьба его брата, выпустившегося из университета по восточному отделению, кандидата Дмитрия Ахшарумова. «Это необыкновенно способный молодой человек... после каземата крепости провел два (1/2) ужасные года в Херсоне, затем протянул семилетнюю солдатскую лямку на Кавказе, участвовал в 30 экспедициях, добился офицерства. вышел в отставку - для чего бы вы думали? Для того, чтобы поступить. студентом в медицинскую академию» [33], - писал о нем Семевский. Убежденный в правоте идей Сен-Симона и Фурье, Ахшарумов был активным участником политического кружка. В своей речи, произнесенной 7 апреля 1849 г. на обеде в честь Фурье, он обратился к собеседникам с горьким обличением9. В приговоре петрашевцам имена Ахшарумова и Достоевского соседствуют. Тем не менее, дав признательные показания против Буташевича-Петрашевского и Спешнева и отчасти благодаря служебным связям Ахшарумов был приговорен к полутора годам пребывания в Херсонских арестантских ротах [34-38]. К моменту создания «Граждан леса» Дмитрий Ахшарумов, к тому времени закончивший медицинский факультет Петербургского 10 университета, доктор медицины, начал писать свои воспоминания . Они увидят свет только в конце XIX в., но значительно раньше станут семейным преданием. Логично предположить, что многие эпизоды обсуждались в узком семейном кругу, вызывая сочувствие трех бывших политических заговорщиков. В отличие от большинства петрашевцев, для Дмитрия Ахшару-мова опыт травмы был связан не с гражданской казнью на Семеновском плацу, а собственно с одиночным заключением. В своих воспоминаниях Дмитрий Ахшарумов рассказывает о постепенном отча- 8 Протокол секретной следственной комиссии от 09.09.1849 // ГАРФ. Ф. 1. Оп. 184. № 214. Ч. 122. 9 См. приложение. 10 «Я живу только надеждою (без надежды не может жить человек) на лучшее, но я, до вашего последнего письма, не считал возможным при жизни моей напечатание моих записок и присвоил уже им название “посмертных”» (цит. по: [33]). А.Е. Козлов 224 янии и безумии, охватывающем его. Полагая, что участники кружка будут сосланы в Сибирь, он ждал такой участи как вознаграждения: В Сибирь, на каторгу, - говорил я, - одно спасение для меня, одна отрада! Когда бы скорее она пришла! Все остальное казалось мне ужасным [39. C. 89]. Каторжная работа, ссылка в Сибирь, казались мне величайшим и единственно возможным будущим моим счастьем, и с трепетом сердца я жаждал скорейшего окончания нашего дела [39. C. 89]. Я целыми днями говорил, мыслил словами и, думая о будущем, мечтал о предстоящей мне, столь мною желаемой, жизни в рудниках, вместе с другими людьми, может быть, с некоторыми из товарищей моих - там отдохну я от этого одиночества! И выживу срок, может быть, не столь продолжительный и буду жить поселенцем в Сибири, стране, хвалимой столь многими, оттуда вернувшимися [39. C. 103]. Обреченный социалист начинает грезить о Сибири как итоге своего страстного пути. Фиксируя в своих воспоминаниях «надрывы в стихах и прозе», Ахшарумов приводит одно из стихотворений на заданную тему. О, Боже, праведный! Спаси и сохрани Мой павший дух в тюрьме от истомленья. Сибирь и каторга - мечты мои одни, -В них счастье все мое и радость избавленья [39. C. 58]. Наконец, выслушав приговор, Дмитрий Ахшарумов свидетельствует о том, что известие о ссылке в Херсон расстроило его: . жалел только, что назначен был в арестантские роты неизвестно куда-то, а не в далекую Сибирь, куда интересовало меня дальнее, весьма любопытное путешествие. Сожаление мое оправдалось впоследствии горькой действительностью: сосланным в Сибирь, в общество государственных преступников, в страну, где уже привыкли к обращению с ними, было гораздо лучше, чем попавшим в грубые, невежественные арестантские роты, в общество воров и убийц и при начальстве, всего боящемся [39. C. 128]. Как можно увидеть из приведенных фрагментов, Сибирь воспринималась политическим преступником как обетованная земля, в От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири 225 сравнении с которой Херсон становился своего рода антимиром. Своеобразным испытанием является вхождение бывшего чиновника в арестантскую среду: не находя общего языка с тюремной администрацией и российскими заключенными, он внезапно находит сочувствующих среди пленных турок, отказавшись от русского языка и перейдя на восточный. Другой, не менее значимый сюжет связан с фигурой самого Пет-рашевского. Деятельность Петрашевского оценивалась многими его современниками как экстравагантная и маргинальная и провоцировала многочисленные анекдоты. Один из них известен нам по пересказу В.Р. Зотова. Рассказывая о популярности идей Фурье, Зотов подчеркивает, что Петрашевский пытался устроить жизнь своих крестьян на новых началах. ... он повел беседу о том не лучше ли будет крестьянам вместо того, чтобы подновить свои избы на заведомо нездоровом месте, выстроить в бору, на сухой почве, одну просторную новую избу, где бы поместились все семь семейств, каждое в отдельной комнате, но с одной общей кухней для стряпни и такой же залой для общих зимних работ и посидков, с надворными пристройками и амбарами для домашних принадлежностей, запасов и инструментов, которые также должны быть общими, как и вообще все крестьянское хозяйство. Барин долго развивал все выгоды такою общежития, обещая, конечно, все устроить на свой счет, купить заново все необходимые сельские орудия и домашнюю утварь: горшки, чашки, плошки [40. C. 15]. Зотов подчеркивает, что барин положил осчастливить детей природы вопреки их желаниям. Однако эти дикари, сущие звери восприняли инициативу экстравагантного реформатора как прямую угрозу общине. Анекдот завершался словами самого Петрашевского: «Приезжаю рано утром и нахожу на месте моей фаланстерии одни обгорелые балки. В ночь они сожгли ее со всем, что я выстроил и купил для них» [40. C. 17]. Разумеется, воспоминания Зотова, изданные в 1890 г., не заслуживают доверия и полностью сочинены [41]. В конструировании цитируемого эпизода Зотов явным образом обращается к ресурсам художественной литературы: диалог барина и старосты («Отцы и дети», «Война и мир»), поджог имения («Дубровский»). Тем не менее подобные анекдоты бытовали в среде русских фурьеристов и за ее А.Е. Козлов 226 пределами и косвенно могли быть известны Ахшарумовым как членам кружка Львова, Дебу и Петрашевского. Следует добавить, что в декабре 1866 г. сосланный в Минусинск Петрашевский умер, что наряду с завершением романа «Преступление и наказание» могло стать импульсом для создания Ахшарумовым аллегорической повести. Тогда в фигуре Лазаря заключена не символическая концепция метанойи [27], а три образа-прототипа: брата Дмитрия, писателя Достоевского и идеолога Петрашевского. В частности, к подобному выводу приходила уже современная писателю критика, дипломатично «не заметившая» типологической связи повести с романом «Преступление и наказание»: Скажем еще раз: критика становится в тупик перед таким произведением, как «Жители леса». Что это такое? Сатира на кабинетные утопии Лазаря, лишенные практичности или вообще на государственное устройство, так как в конце концов община все-таки распадается, несмотря на совершенно уже практическое управление Елисеича? Сатира на суеверие, так как поклонение «великой мухе» изображено в самом карикатурном виде, или вообще отрицание необходимости каких бы то ни было религиозных верований для народа, так как никакой другой религии, кроме этого поклонения великой мухе, в лазаревой общине не было, и так как это поклонение умышленно противопоставлено рациональному устройству общины? Думал ли автор представить в лице Елисеича какого-нибудь известного политического интригана, или должны мы верить автору, что он и впрямь просто захотел потешить читателей сказочкой, вдохновившись помещенным в том же журнале книжки журнала трактатом об умственной жизни животных? Но этот трактат - серьезный трактат... Итак, тайна творчества г. Ахшарумова остается тайною. [42. C. 2]11. В заключение зададимся вопросом о параметрах пространственного воображения. Небогатая событиями летопись жизни Николая Ахшарумова, ведущего после 1849 г. жизнь литературного затворника, позволяет составить представление об основных маршрутах его путешествий - обычно это была западная Европа, европейская (Псков, Москва) и южная части России (Кавказ, Полтава). Доподлинно известно, что дальше Перми писатель никогда не выезжал, ни в Сибири, ни на Дальнем Востоке он также не был. Он игнорировал 11 В толстых журналах повесть Ахшарумова критической оценки не встретила. От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири 227 путевые очерки и записки, рассказы знакомых (Гончарова, Чаева и Достоевского), карты и атласы. Более того, создавая свою аллегорическую повесть, он - эрудированный читатель своего времени -нарочито отказывается от каких-либо этнографических реалий, создавая максимально обобщенный сюжетный топос. Итак, Ахшарумов создавал пространство с чистого листа. Обращаясь к самой примитивной модели сибирского текста и отталкиваясь от сильных текстов (вероятнее всего, «Войнаровского» и «Преступления и наказания»), Ахшарумов интуитивно определил два его предела: повесть, начинающаяся как история Нового Света, заканчивается схождением в царство мертвых. Сибирь, ставшая частью идеологического проекта и обнаружив возможности для утопического восприятия, оказалась обратимой и легко транспонируемой в антиутопию. Таким образом, несмотря на невысокое эстетическое качество и многочисленные формальные огрехи12, «Граждане леса» остаются одним из значимых свидетельств пространственного воображения, позволяя увидеть в выборе топоса как идеологические (от Икарии до фаланстера), так и условно биографические коннотации (от семейных преданий до политических анекдотов). Опыт сибирской «Икарии» воплотится в дальнейшем в поздней антиутопии писателя «Ванзамия»13, время и действие которой отнесено дальше от земли - в космос и другие галактики. После идеологического воображения Сибири такой исход выглядит закономерным. 12 В стилевом плане «Граждане леса», отчасти ориентированные на манеру «Народных русских сказок» Афанасьева, являются, пожалуй, одним из самых слабых произведений Ахшарумова. Единственный способ оправдания многочисленных речевых ошибок и грубых нарушений нормативного языка видится нам в нарратологическом подходе к произведению: учитывая, что большинство действующих лиц, согласно конвенциям повествования, - животные, можно предположить, что эпос о Лазаре является фольклорным текстом, не написанным, а рассказанным. Этот рассказ, в духе песен Г. Лонгфелло, осуществлен не на литературном языке, а имитирующем и искажающем этот язык наречии животных (в конце повести эпос о Лазаре слагают поющие птицы). 13 Сошлемся на интервью А. Рейтблата, которому принадлежит заслуга введения текстов писателя в научный оборот: «... у Ахшарумова есть повесть «Граждане леса», которая за восемьдесят лет до оруэлловского «Скотного двора» написана на тот же сюжет и во многом предвосхищает ее идейный конфликт» [43]. А.Е. Козлов Приложение 1849, апрель Ф.М. Достоевский, М.В. Буташевич-Петрашевский, Д.Д. Ахшарумов и Н. Д. Ахшарумов арестованы 1849, декабрь Гражданская казнь и ссылка Достоевского, Петрашевского и Д. Ахшарумова 1866 В «Русском вестнике» издан роман «Преступление и наказание» 1866 Смерть М.В. Буташевича-Петрашевского 1866 Дмитрий Ахшарумов становится доктором медицины и начинает работу над своими воспоминаниями 228 Д.Д. Ахшарумов Херсонъ (1850) Степная глушь, Сибирь вторая, Херсонъ, далекая Херсонъ14, Куда, российский снег бросая, Меня завез курьерский конь. Зима без снега, ветер, вьюга Оледеневших средь равнин; А летом солнца зной, недуги, -Вот край, где я живу один! Где я, тоску превозмогая, Хожу и бледный и худой, С обритой полуголовой -Под тяжкой лапой 15. В неволе жизнь моя томится, Среди убийц, среди воров, Ах, лучше мне они сторицей, Чем мир жиреюшдх рабов16; 14 В начале текста проводится мысль о тождестве Херсонской и Сибирской ссылок. Речь может идти исключительно о пространственном воображении, поскольку Дмитрий Ахшарумов, как и его брат Николай, никогда не был в Сибири. 15 Рифма восстановлена по изданию: [44]. 16 Антитеза повторяет гражданский пафос речи 7 апреля 1849 г.: «Мы живем в столице безобразной, громадной, в чудовишном скопише людей, томяшихся в однообразных работах, испачканных грязным трудом, пораженных болезнями, развратом; скопише разрозненное все семействами, которые вредят друг другу, От Лазаря до петрашевцев: воображение Сибири 229 Здесь душно, грязно, вши заели, Я худ и голоден всегда, Но и они все похудели, И их замучила беда! Мое исполнилось желанье -Из каземата вышел я Во многолюдное собранье Людей-страдальцев, как и я!17 Текст воспроизводится по книге: [39]. Точная датировка стихотворения неизвестна. В невысоком по художественному качеству тексте проводится мысль о тождестве Сибирской и Кавказской ссылок. Психологическая характеристика героя во многом соответствует портрету ссыльного Лазаря в повести Н.Д. Ахшарумо-ва «Граждане леса». Текст публикуется по правилам современной орфографии и пунктуации.
Сибирская тема в периодической печати, альманахах и сборниках XIX века (1800-1900 гг.) / сост. А. А. Богданова. Новосибирск : Новосиб. гос. пед. ун-т, 1970. 53 с.
Меднис Н.Е. Сибирские рассказы В.Г. Короленко в контексте русской литературы и культуры XIX века // Сибирские страницы жизни и творчества В.Г. Короленко / отв. ред. Е.А. Куклина. Новосибирск : Наука, 1987. С. 54-63.
Меднис Н.Е. Кавказ и Сибирь как два топоса русской литературы и культуры XIX века // Русский травелог XVIII-XX веков: маршруты, топосы, жанры и нарративы. Новосибирск : Изд-во НГПУ, 2016. С. 21-36.
Душечкина Е.В. «От Москвы до самых до окраин..»: Формула протяжения России // Риторическая традиция и русская литература. СПб. : Изд-во СПбГУ, 2003. С. 108-125.
Тюпа В.И. Мифологема Сибири: к вопросу о «сибирском тексте» русской литературы // Сибирский филологический журнал. 2002. № 1. С. 27-35.
Сибирь в контексте мировой культуры / науч. ред. А. П. Казаркин. Томск : Сибирика, 2003. 216 с.
Сюжетно-мотивные комплексы русской литературы / науч. ред. Е.К. Ромодановская. Новосибирск : Гео, 2011. 311 с.
Сибирский текст в национальном сюжетном пространстве / науч. ред. К.В. Анисимов. Красноярск : СФУ, 2014. 237 с.
«Идеологическая география» Российской империи: пространство, границы, обитатели / науч. ред. Л.Н. Киселева. Тарту : Universitas Tartuensis, 2012. 565 с.
Русский травелог XVIII - начала XX веков: аннотированный указатель / под ред. Т.И. Печерской. Новосибирск : Немо Пресс, 2018. 829 с.
Aizlewood R. Leskov’s Ledi Makbet Mtsenskogo uezda: Composition and Symbolic Framework // The Slavonic and East European Review. 2007. № 3. P. 401440.
Анисимов К.В. Восточный травелог русской литературы XIX в.: «воображение» имперских окраин и поэтика повествования (предварительные замечания) // Имагология и компаративистика. 2014. № 1. С. 5-21.
Bloom H. The Anxiety of Influence: A Theory of Poetry. New York : Oxford University Press, 1973. 157 p.
Володина Н.В., Сумарокова Л.А. Н.Д. Ахшарумов о романе Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Вестник Череповецкого государственного университета. 2015. № 4. С. 65-69.
Ахшарумов Н. Преступление и наказание. Критика // Всемирный труд. 1867. № 3. С. 130-154.
Ахшарумов Н. Граждане леса // Всемирный труд. 1867. № 4-6.
Ахшарумов Н. На высоте // Всемирный труд. 1868. № 5.
Светлов Л.Б. Русский антиклерикальный памфлет XVIII в. [Ф.И. Дмитриев-Мамонов, «Дворянин-философ»] // Вопросы истории религии и атеизма : сб. ст. М. : Изд-во АН СССР, 1956. Вып. 4. С. 373-382.
Кучеренко Г.С. Сенсимонизм в общественной мысли XIX века. М. : Наука, 1975. 358 с.
Ланин Б.А. Русская литературная антиутопия. М. : Российский открытый университет, 1993. 199 с.
Ковтун Е.Н. Поэтика необычайного. Художественные миры фантастики, волшебной сказки, утопии, притчи и мифа. М. : Изд-во МГУ, 1999. 308 с.
Русские утопии / сост. В.Е. Багно. СПб. : Terra Fantastica, 1995. 350 с.
Геллер Л., Нике М. Утопия в России / пер. с фр. И.В. Булатовского. СПб. : Гиперион, 2003. 312 с.
Егоров Б.Ф. Российские утопии: исторический путеводитель. СПб. : Ис-кусство-СПб., 2007. 416 с.
Русский проект исправления мира и художественное творчество XIX-XX веков / отв. ред. Н. В. Ковтун. М. : Флинта, 2014. 403 с.
Казаков А.А. Ценностная архитектоника произведений Достоевского. Томск : Изд-во ТГУ, 2012. 254 с.
Касаткина Т.А. Воскрешение Лазаря: опыт экзегетического прочтения романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание» // Священное в повседневном: Двусоставный образ в произведениях Ф.М. Достоевского. М. : ИМЛИ РАН, 2015. С. 187-216.
Даркевич В.П. Народная культура Средневековья: Пародия в литературе и искусстве IX-XVI вв. М. : Наука, 1992. 285 с.
Тургенев И.С. Полн. собр. соч. : в 30 т. М. : Наука, 1980. Т. 7. 559 с.
Современник. 1866. № 2.
Between Dream and Nature: Essays on Utopia and Dystopia / ed. by D. Baker-Smith, C.C. Barfoot. Amsterdam : Rodopi, 1987. 236 p.
Герцен А.И. Собр. соч. : в 30 т. М., 1956. Т. 8. 518 c.
Семевский В.И. Вступительная статья // Ахшарумов Д. Из моих воспоминаний (1849-1851 г.). СПб. : Изд-е «Общественной пользы», 1905 (без пагинации).
Философский век. Альманах. Вып. 12: Российская утопия: От идеального государства к совершенному обществу. СПб. : Санкт-Петербургский Центр истории идей, 2000. 321 с.
Riasanovsky N. Foureierism in Russia: An Estimate of the Petrashevcy // American Slavic and East European Review. 1953. № 3. P. 289-302.
Kaplan F. Russian Fourierism of 1840’s: A contrast to Hertsen’s Westernism // American Slavic and East European Review. 1958. № 3. P. 161-172.
Уланов В.Я. Политические процессы николаевской эпохи. Петрашевцы. М. : Изд. В. Саблина, 1907. 280 с.
Дело петрашевцев. М.; Л. : Изд-во АН СССР, 1951. Т. 3. 518 с.
Ахшарумов Д. Из моих воспоминаний (1849-1851 г.). СПб. : Изд-е «Общественной пользы», 1905. 305 c.
Зотов В.Р. Петербург в сороковых годах // Исторический вестник. 1890. № 2.
Первые русские социалисты / сост. Б.Ф. Егоров. Л. : Лениздат, 1984. 390 с.
Голос. 1867. № 177. 29 июня.
Рейтблат А. Как становятся социологами литературы. URL: https://gorky.media/context/kak-stanovyatsya-sotsiologami-literatury/
Поэты-петрашевцы. Л. : Советский писатель, 1940. 296 c.
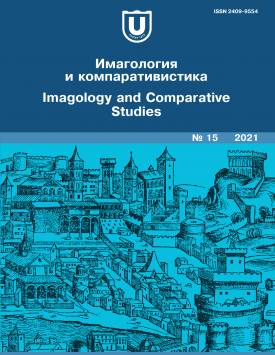

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью