Рассматривается рецепция творчества английского романтика Уильяма Блейка в современной русской литературе и культуре: о нем упоминают в своем творчестве многие русские мыслители, поэты и писатели. Особое место Блейк как представитель традиционного знания занимает в «Южинском» московском мистическом кружке: в творчестве Е. Головина, А. Дугина, Ю. Стефанова. В творческий диалог с английским поэтом вступает А. Тавров в цикле «Плач по Блейку».
William Blake in Contemporary Russian Literature and Culture.pdf После падения железного занавеса в Россию стали свободно проникать иностранные произведения искусства, зарубежные книги и критика. Русская рецепция Блейка и ранее часто была основана на культурном посредничестве (таком как английская символистская критика или книги Рокуэлла Кента), но в постсоветский период это посредничество стало еще более активным. В Россию в полном объеме дошла волна андеграундной культуры. Психоделические трактаты О. Хаксли «Двери восприятия» и «Рай и ад», опубликованные в нашей стране в девяностых [1], а также записи и тексты «The DOORS» стали важным путем опосредованного восприятия Блейка в России. Немалую роль сыграл и фильм Джима Джармуша «Мертвец» (1995), в котором главный герой Уильям Блейк в исполнении Джонни Деппа проходит через то ли посмертный, то ли психоделический трип в антураже вестерна. А в 2008 г. был издан перевод приключенческого романа Т. Шевалье «Тигр, светло горящий», где Блейк стал одним из героев [2]. Игорь Гарин в 1992 г. пишет об особенной роли английского по-эта-романтика как посредника между традицией и современностью: В.В. Сердечная 72 «Блейк - живое звено в живой цепи, протянувшейся от Иоахима Флорского через иоахимитов, «бешеных», антиномиан, магглтони-анцев, Сведенборга, Я. Беме - к Владимиру Соловьеву, Даниилу Андрееву и мистикам наших дней» [3. С. 394]. Важно отметить, что, воссоздавая мистико-символическую «биографию» рецепции Блейка, Гарин говорит об авторах, которые Блейка не читали или не упоминали: это и Андреев, и Соловьев, и, например, Блаватская. Писатель Вадим Козовой (1937-1999) в эссе «Улыбка» также упоминает Блейка в алхимической традиции, как автора одного из «браков» (тут явно влияние «Бракосочетания рая и ада»): «Беда наихудшая, катастрофа бесплоднейшая - знали задолго до Сведенборга и Блейка - приходят, когда в нас разлучены и не сочетаются браком “вещая душа” и “сердце, полное тревоги”» [4. С. 229]. Здесь Блейк предстает прежде всего как автор «Бракосочетания рая и ада». Блейк, которого еще отчасти помнили как символиста и мистика, занимал определенное место в культурном универсуме московского мистического, или эзотерического, «Южинского» подполья: в этот кружок входили, в частности, Юрий Мамлеев, Евгений Головин, Александр Дугин, Гейдар Джемаль, Юрий Стефанов, захаживали Венедикт Ерофеев и Генрих Сапгир. Для этого кружка Блейк был одной из составляющих великой Традиции, утраченного цивилизацией древнего знания - наряду с Геноном и Папюсом, Эволой и Ку-марасвами. И для этого круга, конечно, были интересны не яркие идиллии или сатиры Блейка, но его пророческие поэмы, описания сложно устроенных миров. Литературный критик и переводчик Евгений Головин в своих книгах цитирует Блейка в собственном переводе. Так, в статье «Заря и закат крови» он цитирует поэму «Мильтон» [5. С. 199-200], как и в некоторых интервью и лекциях, иллюстрируя строками Блейка ограниченность человеческого познания. Головин также говорил в интервью о поэме «Америка» как о констатации смерти цивилизации: «Эта поэма сделана очень интересно на тему вхождения белого человека в красную индейскую Америку. Он же ничего не знал из того, что знаем мы Там вот какая идея, очень схожая с воззрениями туземных народов на белых людей, почему они так оторопели: они думали, что белые люди идут с того света, из страны смерти. То же самое у Блейка, там речь идет о Северной Америке: все эти Уильям Блейк в современной русской литературе 73 люди - они уже мертвецы. Все белые. Блейк взял эту тему: что жизнь белых людей кончилась еще в Средние века, и после Возрождения мертвецы идут»1. Интерпретация несколько вольная, метафо-рически-обобщающая: Блейк в своих эпосах действительно говорит о падшей природе телесного и осуждает культуру Просвещения, но также осуждает он и язычество; в его поэмах мертвецы есть мертвецы, а одетые в плоть люди - неправильно существующие, но все же живые. Однако мысль Головина интересна как попытка привязать Блейка к философии традиционализма и к фильму «Мертвец» Дж. Джармуша. Так, Блейк в рецепции критика становится носителем тайного традиционного знания, что возрождает, после длительного перерыва, российскую традицию восприятия его как мистика и пророка, отчасти уравновешивая долгие десятилетия славы «воинствующего гуманиста». А.Г. Дугин также обращается к Блейку, а в своей книге «Ноома-хия: войны ума. Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект» (2015) посвящает ему главу, в которой цитирует эпосы английского поэта в собственном переводе и воссоздает его мифологию. Дугин в большинстве повторяет уже известные утверждения о связях Блейка с традиционализмом (которые раскрыла К. Рейн еще в 1970-х гг.). Однако он предлагает и несколько новых интерпретаций, стараясь вписать Блейка в контекст современной философии. Так, он пишет, что «Логос, вдохновлявший его, был строго дионисийским» [6. С. 229], и отмечает, что в своем гимне «Иерусалим» из поэмы «Мильтон» Блейк ярко выражает идеи «англо-саксонского мессианства» [6. С. 232]: действительно, построить Иерусалим в стране родной - стремление избранного народа. Дугин пишет о возможном выражении идеи «британского израилизма»: современник Блейка Ричард Бразерс основал мессианский культ, согласно которому Англия - новая земля обетованная, а англичане есть 10 потерянных колен израильских - благодаря посещению Гластонбери Христом вместе с Иосифом Аримафейским. Эта идея, уже отмечавшаяся в западных исследованиях, в российской печати прозвучала впервые. Дугин также высказывает ценное наблюдение о схожести мифологических 1 Расшифровка интервью Сергею Герасимову. Горки, 2004. URL: https://youtu.be/9XjRx9xQhgA В.В. Сердечная 74 вселенных Блейка и Толкиена. В целом же примечательно стремление Дугина включить Блейка в актуальную философскую парадигму. Юрий Стефанов (1939-2001), поэт и мистик, исследователь традиционного знания, творец мифологических миров, родствен Блей-ку-мифографу типологически. Оба они жили в переходные времена, писали мифологические поэмы и отражали в стихах растерянность перед жизнью большого города: у Блейка индустриальный Лондон становится воплощением «Мельниц Сатаны», у Стефанова Москва девяностых напоминает об адском искажении мира. В их творчестве можно найти и конкретные параллели. У Блейка кузнец-пахарь Лос создает Солнце: «The red Globule is the unwearied Sun by Los created / To measure Time and Space to mortal Men» (Красный шар есть неустанное солнце, созданное Лосом, чтобы мерить время и пространство для смертных) [7. Р. 127]; Лос - двойник авто-ра-поэта. У Стефанова пахарь-писатель запрягает солнце: И лишь сжав ярмом, святым и страшным, Млечный Путь, и солнце, и звезду, Лемехом пера на белой пашне Первой строчки взрежешь борозду [8. С. 15]. Стихотворение «Мотылек» (1997) развивает параллель между человеком и мотыльком-однодневкой, намеченную Блейком. Стефанов не останавливается на идее смертности мотылька и человека; он размышляет о стремлении мотылька к губительному огню и о перерождении, возрождении, объединяя светлую невинность и темный опыт: Мне бы, крылышки сложив, Кануть в темноту, Но стремлюсь, покуда жив, Вспыхнуть на лету. Лишь тогда, незрим, незряч, Я на миг пойму, Что в самом себе сопрячь Смог со светом тьму [8. С. 83]. Несмотря на то что Блейк не находился в центре интересов Стефанова, они принадлежат к одному космосу традиционного знания, Уильям Блейк в современной русской литературе 75 и потому в стихах русского поэта так много перекличек с поэзией английского романтика: здесь можно назвать и образ «скорлупы» мира и человеческого сознания, ограничивающего себя от вечности, и алхимические перерождения, и образ властной женщины, созидающей мир; но важнейшим объединяющим мотивом является мотив человека как высшего создания, искупающего этот мир. Блейка упоминают в своей прозе Юрий Буйда (роман «Кенигсберг», 2003), Алексей Грякалов (роман «Раненый ангел», 2008), Иван Ермаков (роман «Иван-чай-сутра», 2010), Ксения Букша (роман «Завод “Свобода”», 2013) и многие другие. Гравюры Блейка фигурируют в романе О. Постнова «Страх»: они обнаруживаются в большом количестве у тетки главного героя в ее московской квартире [9]. Русские поэты пишут о Блейке, помнят его, активно вступают с ним в творческий диалог. Так, в 1995 г. Ольга Кузнецова публикует в «Новом мире» (№ 7) стихотворение под названием «The little girl lost», где название стихотворения Блейка осмысливается в современных реалиях: взрослая девочка теперь тебе ничего не нужно и не для кого пожалуй что все это городить все обезболено все на корню застужено все что могло болеть ну хватит хорош хандрить... [10]. Мария Галина публикует в 2000 г. стихотворение «Из У. Блейка», в котором мотивы «Больной розы» проецируются на реминисценции из русской поэзии, в особенности Блока, и образы поэтизированной и страшной современности: рожденные в глухие -борзые поезда несутся, выгнув выи, на черный переезд слетаясь отовсюду. О, Роза, вот те крест -тебя я не забуду. Недаром ничего на сквозняке вселенной пылает торжество красы твоей растленной. В.В. Сердечная 76 Какой маньяк ласкал и плакал исступленно твой пурпурный оскал сияющего лона!.. [11]. Андрей Грицман публикует в «Новой юности» стихи, вписывая Блейка в контекст русского романтизма: Выдохнешь. Вылетают слова, Словно Лермонтова души зола. Уильям Блейк расстегнул ворот, Увидел угол. Похоронен черт знает где... [12]. В стихотворении Санджара Янышева «На смерть деревьев» Блейк помещается в ряд поэтов, воспевавших деревья как метафизические сущности [13]. Поэт Лев Беринский ставит в своей поэме «Тюльпан багряный» рядом имена Блейка и Пастернака: «Но где же Блейк и Пастернак, иль, заплутав, ушли в бурьяны? / Иль, примагничен их тоской, не отпустил их перх мирской, язык людской, земные страны?» [14]. Поэтесса Алла Горбунова в свое эссе включает собственные варианты перевода «The Mental Traveller» [15]. Ее отзыв о Блейке характерен, она воспринимает его как автора «Бракосочетания рая и ада» и забытого поэта: «И многое в творчестве и образе этого поэта показалось мне бесценным и сокровенно важным. Я тоже хотела жить и умереть безвестной и беседовать с ангелами. И меня тоже не оставляли равнодушной черти» [15]. Она говорит о том, что Блейк повлиял на ряд ее стихов, в частности на «Огородную песнь» и, например, на идиллические строки, в которых очевидно смешение «Песен невинности» с «Бракосочетанием»: сквозь воду мелкую, сквозь солнечное сито, чем озеро не тёплое корыто, где Богоматерь отмывает бесенят, им отдирает рожки и копыта и превращает в беленьких ягнят [15]. Максим Калинин публикует в 2018 г. стихотворение, где Блейк -один из воплощений образа «безумного» поэта-художника, своего рода духа Лондона: Уильям Блейк в современной русской литературе 77 Где найдется Третий, Столь же безумный, Поэт и художник, Чтоб запечатлеть, Как Мервин Пик В своей студии На Баттерси-Чёрч-роуд Играет в гляделки С призраком блохи В окне церкви Девы Марии, Где венчался Уильям Блейк? [16]. Поэт Михаил Погарский поверяет Блейка визуальной поэзией: таков его «Квазинаучный анализ шести пословиц ада Уильяма Блейка» [17]. Он предлагает любопытный визуальный «анализ» пословиц (рис. 1). _ ЧЕЛОВЕК выпрямляет кривые пути; Гений идёт кривыми •фртічи^іьи «ншицти Itnftun*. (ЭГР) і - чаМинм *«*ічицмч. И--,-!" * 1 іуѵі .kWtiitieeoc мсщм-ѵ- •«■«рооѵйяжіыгіѵто*,1 Рис. 1. Погарский М. Квазинаучный анализ шести пословиц ада Уильяма Блейка [17] В.В. Сердечная 78 Фильм Джармуша становится частым посредником между читателем Блейка и зрителем: так, стихотворение Дмитрия Нержаннико-ва выглядит психоделической иллюстрацией к «Мертвецу», где план воздуха переходит в водный, подобно тому как в фильме Блейк уплывает на индейской пироге в вечность: Сесть в поезд в обществе Блейка, Плыть вместе с Тэль И медленно замечать, Как меняется пейзаж за окном: Белые воробьи, Алые аксолотли... [18]. Важнейшей репликой в диалоге между английским романтиком и русской литературой становится книга поэта Андрея Таврова «Плач по Блейку» (2018). Она включает три цикла, и первый, по которому названа книга, включает 45 стихотворений, так или иначе связанных с вселенной Блейка (часть их опубликована под названием «Блейк» в «Новом мире». 2018. № 3). Первое же стихотворение «Ангел бабочек» содержит множество аллюзий на «Песни невинности и опыта», однако блейковские образы - ангелы и мошки, овцы и лужайки - накладываются на современные реалии, смешиваясь в причудливой картине [19. С. 7]. Блейк становится в этой книге Таврова ключевой фигурой поэтического откровения, своего рода Вергилием огромного поэтического мира, мира вечного и современного: Уильям Блейк парит в дирижабле, а дирижабль в другом парит дирижабле, а тот в Уильяме Блейке, странная, если вглядеться, фигура, как снежный ком Блейк идет в сторону Оксфорд-стрит, его спина в пламени, замечает подкидыша на пороге, берет его на руки, видит драконьи крылья, но не отбрасывает, а что-то шепчет в ухо. Уильям - тертый калач! Сатана, говорит Уильям, это неправильное слово, правильное - Force, Сила, и несет дитя в приют мимо трактиров, набережных, инвалидов, мимо луж, телег, хлопающих калиток, Уильям Блейк в современной русской литературе 79 мимо служанок, клерков, грузчиков, открытых окон, Уильям идет как разорванный кокон, ставший бабочкой в воздухе достоверном... [19. С. 10]. В прочтении Таврова причудливо сочетаются мотивы «Песен невинности и опыта» (детство, бабочки, Лондон) и эпосов Блейка (образ дракона, многомерность мира, переосмысление образа Сатаны). Очевидно, что Тавров здесь выступает не в последнюю очередь как читатель «Бракосочетания рая и ада», как и в стихотворении «Блейк и ангел», написанном по мотивам «Памятных фантазий» из этой поэмы: Блейк говорил мне ржавчиной лепестком лоб изломан как углем утюг речь его внутрь языка ощупывала планеты выдохи мертвых от коих всходил он как воздушный шар из горелки моллюском длинным и кровью и взглядом. [19. С. 15]. В стихотворении «Блейк между озером и ваксой» очевидно, что автор воспринимает Блейка через фильм Джармуша «Мертвец» с его мотивами верстерна: В теле Блейка самолеты и цапли, кокаиновые облака и индейские ружья, в каждой клеточке тела, все равно что стеклянной - по звезде и речному камню [19. С. 18]. Здесь есть и прямые отсылки к лирике Блейка: например, стихотворение «Из песен невинности» отсылает и к Блейку, и к Бродскому. Здесь актуализируется мотив полета (мальчик-ангел, мошки и птицы у Блейка): «Поднимался в воздух человек / всей разжатой стаей рук и век./ он летел и гнезда вил из снега» [19. С. 52]. Автор говорит о сложности достижения той невинности и той полноты восприятия мира, которая присуща детям и пророкам: «если б только мы прочесть умели/ след улитки, серебро ручья,/ волка Библию и иероглиф мели,/ мы бы лгать и дальше не посмели» [19. С. 52]. В этой книге автор показывает уже серьезное знакомство с Блей-ком-эпиком. Тавров творчески осмысливает его метафизику порож- В.В. Сердечная 80 дения человеческой физиологии, в частности, тела, как тюрьмы для человеческого существа: И щель горит в ребре, а там, за ней стоит олень, и мирозданье всё кружит в хрусталике на дне зрачка [19. С. 9]. В стихах автора очевидно стремление пересоздать и воспроизвести блейковское понимание родства называния и сотворения, замешанное на сотворении человека и на единстве поэта и его вселенной: И знает Блейк, что Адам в утробе, себя повторяя, становится названными именами -теми, что сам произнес: поочередно деревом (позвоночник и ребра), коровой (легкие, хвост), рыбой (жабры и губы), птицей (жажда полета), рекой - красный круг крови по телу, и заново вызревает в утробе Адам, путешествуя по увиденным им телам, которые создал именованием, когда Бог искал ему помощника и не нашел, и вот, наконец, найдя, Адам становится Блейком и тем, кто вместит в себя все метаморфозы, все плачи и роды [19. С. 18]. Замечательно обыгрывает Тавров многомерность физиологии по Блейку, где эритроцит может быть сердцем и солнцем: Чертополох и собаки на пустоши, бешеные псы гонятся за красной антилопой - за сердцем мистера Блейка в обрубках сосудов, пульсациях, брызгах, радуге. Мечется антилопа, легкими скачками, уклоняясь от псов. Это природа, каждый делает свое дело, никто не уйдет от себя [19. С. 65]. Если Блейк обдумывал геометафизику Англии как исходно христианской страны и делал выводы о родстве Лондона с Иерусалимом, то Тавров включает в размах этой мысли и славянские просторы: О птица Англия! Я принес тебе святость, твоим садам и мельницам, книгопечатням и портам, твоим зеленым холмам и рекам. О, Альбион! Сестра гальциона! О зимородок! Англо-славянский гимн! [19. С. 18]. Уильям Блейк в современной русской литературе 81 В конце этого стихотворения автор создает список изречений, соперничающих в краткости с «Пословицами Ада», а в загадочности и глубокомыслии - с большими эпосами Блейка: 1. Ищущий невозможного предстоит его Владыке. 2. Увидеть реальность, что обуздать Единорога. 3. Пьющий синее небо - не умирает. 4. Ложись в челнок с подругой и никогда его не теряй, он прижмет вас друг к другу средь бурунов. 5. Любить - это подтирать за щенками, ангелами и стариками. 6. Не разъединяй устами Бога и человека, разъединяя сами уста. 7. Ты рожаешь людей и звезду, а они тебя. 8. Не верь словам без ритма, в котором живет Бегемот [19. С. 19]. Одно из стихотворений, «Дистанцию вложить в коня...», прочитывается в контексте русской рецепции Блейка как ответ на знаменитый инфинитивный перевод Маршака: «В одном мгновенье видеть вечность». Тавров сохраняет исходный посыл «большое в малом», однако усложняет его: Дистанцию вложить в коня, как дюйм и ласточку в циклон, и мускулов костер креня, стянуть разбег в надежный стон. Так девять выпуклых небес вращают мускулистый бег, и вложен в финиш неба вес, что бегом вынут из-под век [19. С. 23]. В стихотворении «Блейк. Воробей» происходит впечатляющий сплав различных мотивов и лирики романтика, и его эпосов. В частности, здесь обыгрываются многоуровневость авторского мифологического мифа (от Ульро до Эдема), беседы с Ангелами и путешествия по звездам в «Бракосочетании», образ воробья и вообще птицы-визионера, образы насекомых, ведомых сквозь ночь («Сон»), образ Мильтона, падающего метеоритом в пяту рассказчика, фигура Флаксмана и философия творения словом: Мы поднимались с Ангелом по лестнице, за пазухой у меня был воробей. В.В. Сердечная 82 и почему написаны книги, а любовь не умирает, и каждого сверчка ведут через мрак Архангелы. Вы на Земле слышите только дно слова, можно сказать, его пятку, произнес Ангел, - но в пятке живет все тело. И нас влечет туда, вотще и напролом, словесная пята с неистовым крылом [19. С. 25-26]. Есть у Таврова и воплощение других максим творчества Блейка, например, знаменитого «he became what he beheld» (он стал тем, что видел) из «Мильтона» и «Четырех Зоа»: Глаз смотрящий на бабочку бабочкой стал а на землю - землей [19. С. 31]. Блейк у Таврова, конечно, пророк; автор, сочетая Блейка с русской реальностью, делает обиталищем воображения снег: А Блейк застыл один он знает про окно восприятия, мистер пророк, знает, что каждый видит лишь то, из чего он сам состоит, в основном, у кого-то голая девка, а у кого-то куча монет, а у него - то, что Бог дал видеть сквозь окно созерцания, ибо снег воображения - это реальность, большая, чем основная, всем доступная [19. С. 37]. Для Таврова важна «экологическая» составляющая творчества Блейка, равенство животных и людей в его мире, причем животные зачастую оказываются даже выше, так как их двери восприятия не закрыты: Рыба подплывает к Блейку и тихо свистит. Океан блещет гравировальной волной. Из горла мистера Блейка рыбе ответствует птичка [19. С. 40]. Уильям Блейк в современной русской литературе 83 Тавров дает пример того, как вселенная Блейка, художника и пророка, лирика и гравера, жителя Лондона и бессмертных краев воображения, может быть преломлена в современном поэтическом сознании; и эта авторская вселенная по своей сложности и многомерности оказывается весьма созвучна современности информационной эпохи, как в стихотворении «Ньютон»: Воображение есть форма красоты, и караван идет в воображенье, и им рожден - бескрайний караван из голых Ньютонов идет в пустыне ... и на полип, который, словно мозг, иль мускул, заживо прилип к плите и движет землю, камни и людей, и тварь, которой мозг принадлежит, вопит от нестерпимого усилья, и сокрушает ось земную удар Левиафана. Порхать, как бабочка над солнечным ковром! И расскажи мне, маленькая фея, крошечным ртом о мире и гигантах, -бормочет Блейк, и лоб его блестит [19. С. 45]. В стихотворении «Кадуцей» Тавров работает с концепцией точек зрения, так что диалог взглядов становится тотальным: Кэтрин смотрит на Уильяма глазами Уильяма, что смотрит на нее глазами Кэтрин, той, что смотрит на него глазами Уильяма, как перекрестная шнуровка . Ангел смотрит на Левиафана взглядом ангела с Левиафаном в отраженье, в погруженье в зрак, в котором спрятан в свет Левиафан, в преображенье. ... видит чайка окуней с глазами чайки, видит дерево глазами кроны плотник, видит дерево глазами неба чаща [19. С. 53]. В творчестве Таврова Блейк предстает одним из обитателей причудливого мира металитературы, среди которых Гоголь и Державин, Веласкес и Ньютон, Лир и Эдип, Пан и Мелхиседек. В.В. Сердечная 84 Блейк как сочинитель взаимопересекающихся миров выступает для Таврова ключом к тотальной поэтизации вселенной; от герметического принципа «что вверху, то и внизу» совершается переход к принципу «все во всем», и это принцип оказывается важнейшим для современной поэзии. Блейк занимает свое место и в русском философском космосе. Так, Мераб Мамардашвили часто ссылался в своих работах на Блейка и считал, что поэт понимает особую природу мысли и образа: «Блейк говорил, что всякая идея - это человек, имея в виду простую вещь: идея живет, как бы “нанесена” на физической, психической и другой артикуляции человека. Любая идея - это не абстракция и голое рассудочное существование, а конкретный человек» [20. С. 230]. Мамардашвили предполагает, что антиномии в Блейке напрямую связаны с проблемой разграничения антихриста и Христа, а также с проблемой нигилизма в ХХ в.: «Блейк писал, что все люди делятся на две категории: на тех, кто считает, что только Бог действует как некая высшая трансцендентальная идеальная сила, а другие полагают, что Бог существует и действует только в живых и свободных существах Кстати, это просто иносказание все той же разницы между Христом и Антихристом» [20. С. 230]. Мамардашвили часто цитирует и комментирует наблюдения Блейка об искусстве и восприятии. Ссылаясь на «Лаокон», он утверждает, что «под формой искусства Блейк имеет в виду то, что на мгновение появилось, породило и в то же мгновение его нет» [21. С. 276-277]. Философ подчеркивает точность мыслей Блейка о различиях в восприятии между разными существами. Живопись и рисунки Блейка стали частью русской книжной культуры. Например, знаменитая гравюра Бога-творца с циркулем «The Ancient of Days» часто используется в книжной графике - в частности, в изданиях Ницше - и в периодике. Московский концептуалист Виктор Пивоваров, автор самиздата, признавался, что Блейк вдохновлял его своим опытом авторской печати книг: «... еще ближе мне Уильям Блейк. Там совпадения с моими альбомами уже самые близкие» [22. С. 259]. Следы влияния Блейка можно заметить и в работах современного скульптора Александра Кудрявцева (1938-2011), создавшего керамическую фреску «Сотворение мира». В центре этой девятичастной Уильям Блейк в современной русской литературе 85 композиции находится силуэт Бога с компасом в руке, что является прямой аллюзией на демиурга Блейка в «The Ancient of Days». Техника скульптора похожа на технику гравировки Блейка: силуэт Бога выгравирован на плоской поверхности блока (наполненного черной глазурью), на которой Творец очерчен мазками тонких линий. Изображения на панелях противопоставлены (ангел света и ангел темноты, полукруги ночи и дня) и во многом напоминают живопись Блейка. Таким образом, можно говорить о том, что Блейк, воспринятый в том числе через «The DOORS» и фильм Джармуша «Мертвец», занял значительное место в пространстве современной русской словесности. При этом наиболее значительными его произведениями остаются «Песни» и «Бракосочетание рая и ада», а также мистические откровения пророческих поэм; важной оказывается и его судьба непризнанного при жизни гения.
Хаксли О. Двери восприятия: Роман, повесть, трактаты. СПб. : Амфора, 1999. 409 с.
Шевалье Т. Тигр, светло горящий. СПб. : Домино ; М. : Эксмо, 2008. 480 с.
Гарин И. Блейк // Пророки и поэты. М. : Терра, 1992. Т. 1. С. 393-417.
Козовой В. Улыбка // Новое литературное обозрение. 1999. № 39. С. 213237.
Головин Е. Веселая наука: протоколы совещаний. М. : Эннеагон, 2006. 280 с.
Дугин А.Г. Ноомахия: войны ума. Англия или Британия? Морская миссия и позитивный субъект. М. : Академический проект, 2015. 595 с.
Blake W. The complete poetry and prose / ed. by D. Erdman. N.Y. : Anchor books, 1988. 990 p.
Стефанов Ю. Изображение на погребальной пелене. Стихотворения. Поэмы. Переводы. Москва ; Орел : Волшебная гора; Контекст-9, 2006. 344 с.
Постнов О. Страх. СПб. : Амфора, 2001. 285 с.
Кузнецова О. The little girl lost // Новый мир. 1995. № 7. URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/1995/7/bez-illyuzij-i-slez.html
Галина М. Из У. Блейка // Арион. 2000. № 1. URL: https://magazines.gorky. media/arion/2000/1/115444.html
Грицман А. «Выдохнешь. Вылетают слова..» // Новая Юность. 2004. № 6 (69). URL: https://magazines.gorky.media/nov_yun/2004/6/zima-zhivet.html
Янышев С. На смерть деревьев // Новый мир. 2009. № 9. URL: https://magazines.gorky.media/novyi_mi/2009/9/repeticziya-2.html
Беринский Л. Тюльпан багряный // Иерусалимский журнал. 2010. № 33. URL: https://magazines.gorky.media/ier/2010/33/tyulpan-bagryanyj.html
Горбунова А. В компании Уильяма Блейка // Двоеточие. 2011. № 16. URL: https://dvoetochie.wordpress.com/2011/08/16/алла-горбунова-в-компанииуильяма-бле/
Калинин М. Белым по черному // Интерпоэзия. 2018. № 1. URL: https://magazines.gorky.media/interpoezia/2018/1/belym-po-chernomu.html
Погарский М. Квазинаучный анализ шести пословиц ада Уильяма Блейка // Дети Ра. 2015. № 9. URL: https://magazines.gorky.media/ra/2015/9/czikl-blejk.html
Нержанников Д. Из сборника «Кураки и Хатуринкрийоки» // Homo Legens. 2017. № 1. URL: https://magazines.gorky.media/homo_legens/2017/1/iz-sbornika-kuraki-i-haturinkrijoki.html
Тавров А. Плач по Блейку. М. : Русский Гулливер; Центр современной литературы, 2018. 165 с.
Мамардашвили М. Философские чтения. СПб. : Азбука-классика, 2002. 823 с.
Мамардашвили М. Лекции о Прусте. М. : Ad Marginem, 1995. 548 с.
Пивоваров В. Это - китайское! Беседа Кирилла Кобрина с Виктором Пивоваровым // Наприкосновенный запас. 2018. № 3. С. 246-272.
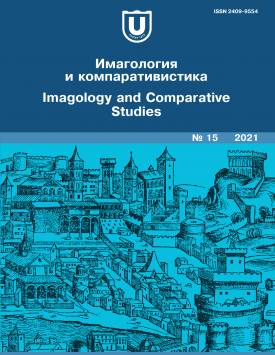

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью