Миф о разрушении Херсонеса: эпизод литературного освоения Крыма
Выявляется «исходный текст» литературного мифа о разрушении в конце XVIII в. Херсонеса Таврического ради возведения Севастополя. Исследуются исторические факты и причины, породившие этот миф. Прослеживаются история бытования мифа о разрушении Херсонеса в научном дискурсе конца XVIII - начала XIX в., «миграция» мифа в сферу литературы, где под воздействием общелитературных тенденций и внелитературных факторов он претерпел заметные функциональные трансформации.
The Myth of the Chersonesus Destruction: An Episode of the Literary Development of Crimea.pdf В русской и европейской путевой литературе XIX в. (П.И. Сумароков, В.Б. Броневский, И.М. Муравьев-Апостол, Э.Д. Кларк, Ф. Дюбуа де Монпере, К. Омер де Гелль и др.) на правах общеизвестной истины бытовала легенда о том, что древний Херсонес был разрушен ради добычи строительных материалов, необходимых для возведения Севастополя. С литературной афористичностью этот исторический «факт» был выражен швейцарским путешественником Ф. Дюбуа де Монпере: «Первый день Севастополя стал последним днем Херсонеса» [1. Р. 155]. Цель настоящей статьи - проследить историю и выяснить природу этой литературной версии событий. Первоисточник текста о разрушении Херсонеса обнаруживается довольно просто, поскольку многие авторы либо ссылаются на П.С. Палласа, либо цитируют (пересказывают) его текст. Как известно, П. С. Паллас в 1793-1794 гг. совершил путешествие по Крыму. Вскоре он поселился на полуострове, продолжив его изучение. Результатом крымских исследований стал второй том «Наблюдений, сделанных во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793-1794 годах», вышедший в Лейпциге в Миф о разрушении Херсонеса 195 1801 г. на немецком и французском языках. Здесь находим заключение о плачевном состоянии херсонесских руин: «При занятии Крыма еще были видны большей частью его стены, построенные из прекрасного штучного камня; красивые городские ворота и значительная часть двух больших башен, из коих одна - у самой бухты, виденная мною в 1794 году - еще в нарядном виде; но построение города Ахтиара (Севастополя. - В.О.) закончило разорение этого древнего города. Прекрасный штучный камень выбрали даже из фундаментов для постройки домов, не озаботившись или не полюбопытствовав сделать план города или нарисовать хотя бы его набросок; по крайней мере, мне о том ничего не известно» [2. C. 47]. Труд П.С. Палласа стал для европейской и российской науки исходным текстом о Крыме. В 1818 г. точка зрения П.С. Палласа была подкреплена авторитетом Н.М. Карамзина, когда перед читателем предстала «История государства Российского». Н.М. Карамзин, рассказывая о походе князя Владимира к Херсонесу, сообщал со ссылкой на Палласа: «В то время как наши войска заняли Крым, многие стены (Херсона) были совершенно целы, вместе с прекрасными городскими воротами и двумя башнями; теперь они уже не существуют: из них брали камни для строения домов в Севастополе» [3. С. 452]. С тех пор эта версия событий стала «общим местом» и научных, и литературных текстов о Херсонесе. Всякий путешественник XIX в. посещал древнее городище с уже готовым «знанием» о том, что остатки Херсонеса были разобраны ради возведения Севастополя. Так, И.М. Муравьев-Апостол в известном «Путешествии по Тавриде в 1820 годе» писал, что «из стен и башен Херсона строили хуторы и казармы севастопольские» [4. С. 361]. Авторы могли расходиться во мнении, целиком [5. Р. 74] или частично [6. С. 234; 7. С. 23] выстроен Севастополь из остатков Херсонеса, но сам факт разграбления древностей ради строительства нового города сомнений не вызывал. И впервые эта позиция была подвергнута сомнению на исходе XIX столетия. В 1893 г. известный исследователь херсонесских древностей А. Л. Бертье-Делагард опубликовал в «Материалах по археологии России» «Опровержение известий иностранных писателей о разрушении русскими развалин Херсонеса» [8], где привел ряд соображений, свидетельствующих о том, что урон, нанесенный основа- В.В. Орехов 196 телями Севастополя Херсонесу, в путевой литературе значительно преувеличивается. В среде историков истинный масштаб этого урона и сегодня вызывает споры (упомянем хотя бы дискуссию между А.И. Романчук и А.В. Шаманаевым [9, 10]). Не беремся ставить в этом вопросе окончательную точку, однако постараемся проследить историю его литературной мифологизации, что потребует небольшого экскурса в историю литературного и научного освоения Херсонеса. Прежде всего, обратимся к частному замечанию П.С. Палласа, которое с позиций сегодняшних знаний однозначно должно быть признано ошибочным. Речь идет о мнении ученого, что основатели Севастополя разрушали стены Херсонеса, будто бы «не озаботившись или не полюбопытствовав сделать план города или нарисовать хотя бы его набросок» [2. С. 47]. Позднейшие архивные исследования показали, что картографирование Херсонеса было начато еще до основания Севастополя и до присоединения Крыма [11. С. 7; 12. С. 480-487]. Так, в 1778 г. по повелению Г.А. Потемкина был подготовлен рисунок «Развалины Херсонеса, древнего в Крыме города», на котором были запечатлены «городовые ворота» и «развалившиеся башни и бугры на местах рассыпавшихся башен». Еще более яркий пример - карта Гераклейского полуострова, созданная в 1786 г. под руководством коллеги и друга Палласа - К.И. Габлица, который в 1787 г. лично представил эту карту Екатерине II во время ее крымского вояжа [13. С. 156]. Кстати, скажем, что эта карта и сегодня сохраняет актуальность для археологии, поскольку запечатлела Херсо-несскую хору в нетронутом виде [14. С. 206]. Очевидно, что в данном случае ошибка Палласа была невольной и объяснялась отсутствием у него доступа к упомянутым картографическим материалам. Однако это все же побуждает критически рассмотреть и весь пассаж о разрушении Херсонеса. Начать следует с того, в каком состоянии были руины Херсонеса к моменту основания Севастополя. Общеизвестно, что в конце XIV в. Херсонес был разрушен ордынцами до основания. Судьба херсонесских руин редко запечатлевалась в литературных памятниках, но в 1578 г. красноречивое свидетельство о городище оставил польский посланник к крымскому хану Мартин Броневский: «Этот город много веков стоит пуст и необитаем и представляет одне развалины и опустошение. Еще и теперь видны стены и башни, со- Миф о разрушении Херсонеса 197 хранившиеся от разрушения, в постройке которых видно удивительное искусство и роскошь. Но прекрасные колонны из мрамора и серпентина, которых места и теперь еще внутри видны, и огромные камни были взяты турками и перевезены через море для их собственных домов и публичных зданий. Оттого город пришел еще в большее разрушение; не видно даже и следов ни храмов, ни зданий. Домы города лежат во прахе и сравнены с землею» [15. С. 342]. Стало быть, Херсонес был совершенно необитаем и разграблен уже за два столетия до прихода русских. Причем на городище все это время продолжал воздействовать антропогенный фактор, поскольку, как пишет знаменитый турецкий путешественник Эвлия Челеби, посетивший Крым в 1666 г., «в зимние времена в эти развалины крепости загоняют много сот тысяч овец крымских благородных людей» [16. С. 71]. Очевидно, что содержание стад требовало возведения загонов и зимних жилищ, что можно было осуществить только за счет остатков разрушенных херсонесских домов. Иными словами, к моменту основания Севастополя руины Херсонеса пережили несколько столетий постепенной деградации, что, впрочем, не исключает, что в нем еще оставались материалы, пригодные для строительства. Русская эскадра начала обустраиваться на берегу Ахтиарской (Севастопольской) бухты весной 1783 г. Этим руководил начальник штаба, будущий знаменитый флотоводец Д.Н. Сенявин, который засвидетельствовал в своих записках: «Адмирал (Мекензи. - В.О.) заложил 3 числа июня месяца четыре здания. Первое - часовню. Другой дом - для себя; третье - пристань очень хорошую; четвертое -кузницу в адмиралтействе. Здания эти все каменные, приведены к концу весьма скоро и почти невероятно» [17. С. 25]. Спешность строительства объяснялась просто. Адмирал Ф.Ф. Мекензи доносил в морское министерство, что для строительства брали штучный камень из развалин Херсонеса и лодками подвозили его в Севастопольскую бухту [18. С. 78]. Именно это донесение Мекензи является единственным документальным доказательством того, что для строительства Севастополя использовали развалины древнего городища. Однако акцентируем внимание, что речь шла о строительстве лишь четырех объектов: часовни, кузницы, пристани и дома адмирала Мекензи. Самым масштабным строением В.В. Орехов 198 был адмиральский дом, который по традиции в Севастополе называли дворцом, но размеры которого были весьма скромными. В начале 1830-х гг. автор первого путеводителя по Крыму Ш. Монтандон с недоумением сообщал, что этот «невзрачный дом» [19. С. 154] носит столь громкое имя. Недоумение объяснимо, поскольку дом Мекензи был «небольшим, одноэтажным, с семью окнами по фасаду» [20. С. 12]. Дальнейший ход событий говорит о том, что добыча камня в Херсонесе быстро теряла смысл. Д.Н. Сенявин сообщал, что адмирал Мекензи почти сразу после прибытия в Севастополь обзавелся дачей, где начал «известь жечь, кирпичи делать» благодаря чему окупил дачу «в одно лето» [21. С. 123]. Более того, около 1785 г. Мекензи начал разработку строительного известняка в знаменитых Инкерманских каменоломнях [22. С. 108-109]. Причем следует заметить, что инкерманский камень имел несомненные преимущества перед херсонесским: был стандартного размера и доставлялся по спокойной Севастопольской бухте, а не по открытому морю. Словом, промышленная добыча камня в Херсонесе была экономически нецелесообразна. Тогда остается вопрос, что же заставило П.С. Палласа преувеличить ущерб, нанесенный херсонесским руинам основателями Севастополя? Думается, тому было две основные причины. Первая заключалась в разочаровании, которое постигло всех, кто старался обнаружить в Крыму античные памятники. Античность была идеологическим «маяком» той поры, притягательным образом, на который ориентировались художники, литераторы, ученые и политики. Приобретенный полуостров воспринимался как «вариант “своей” античности» [23. С. 104]. Поэтому именно античность закреплялась в новых крымских топонимах, античные артефакты искали в курганах и среди руин первые путешественники по полуострову. И Херсонес в этом отношении виделся крымским средоточием культуры древних греков; если цитировать поэму С. С. Боброва, он Был знатный плод их хитрых рук И корень их цветущей славы [24. С. 160]. Миф о разрушении Херсонеса 199 И хотя на первых порах точная локализация древнего города вызывала множество вопросов [22. С. 118-120; 25. С. 243], Херсонес воспринимался как некая «античная автономия», ценность которой виделась сопоставимой с ценностью всех других крымских приобретений. И объяснимо, что Херсонес порою фигурировал в литературных текстах «на равных правах» с Таврией, скажем, в державинской оде «На приобретение Крыма» (1784): Россия наложила руку На Тавр, Кавказ и Херсонес [26. С. 185]. Миф о Херсонесе формировал завышенные ожидания от встречи с Херсонесом реальным. Эти ожидания не могли оправдаться уже потому, что известные сегодня руины Херсонеса - это остатки не античного, а средневекового города, построенного, если можно так выразиться, на античном фундаменте. Античные артефакты оказались погребены в культурном слое, который дожидался археологов. Ровно то же можно сказать о большинстве крымских древностей, и именно поэтому античные памятники не стали привлекательным объектом для посещения во время путешествия Екатерины II в Крым: руины Херсонеса она осмотрела лишь с моря [27. С. 83], а «мрачная картина» остатков Феодосии навеяло на нее «порывы грусти» [28. С. 222]. П.С. Паллас, безусловно, искал следы древней истории, но находил их в меньшем количестве, чем того требовал искренний исследовательский энтузиазм. Античные следы оказывались столь нечеткими, что, несмотря на широту познаний, П.С. Паллас ошибся, скажем, с локализацией Пантикапея [12. С. 48]. В Херсонесе он встречал в основном средневековые памятники, и отсутствие античных артефактов легче всего было объяснить разрушениями, причиненными строителями Севастополя. Однако была и еще одна причина, побуждавшая Палласа говорить об опасности для руин Херсонеса. Как было отмечено, добыча камня в Херсонесе в промышленном масштабе не имела целесообразности, однако заметим, что при этом она могла представлять интерес для кустарного строительства. Синхронно с возведением официальных строений в Севастополе начали В.В. Орехов 200 возводиться и частные дома для служащих, отставных офицеров и купцов. В качестве строителей зачастую выступали матросы - «за очень скромную добавочную плату» [18. С. 106]. С учетом скромных матросских запросов, заказчику строительства дешевле было заплатить за найденный матросами разнокалиберный камень, нежели заказывать первоклассные материалы в каменоломнях. Словом, если был пригодный к делу камень, обязательно должны были появиться люди, этим камнем промышляющие. В этом отношении особую ценность имеет свидетельство автора первого «литературного путешествия» в Крым П.И. Сумарокова, который, в отличие от других путешественников, зафиксировал процесс вывоза камня с территории Херсонеса. «Валяются отколотые мраморные куски, - писал П.И. Сумароков в 1799 г., - сросшиеся с раковинками каменья, которых тут такое множество, что по грудам их с трудом проходить возможно, и которые разъезжающими фурами беспрестанно перевозятся в Ахтиар (Севастополь. - В.О.)» [29. С. 126]. Из этого наблюдения можно заключить, что, во-первых, в самом конце XVIII в. на территории Херсонеса еще оставался значительный запас разрозненного камня, а во-вторых, что добыча камня велась частниками, поскольку строительные материалы для казенных зданий доставлялись бы в город по морю. Увиденное заставило П.И. Сумарокова сделать умозрительный вывод, что в Севастополе «всякое построение до последнего камня произведено из материалов херсонисских» [29. С. 127]. Очевидно, что автор не имел возможности, определить происхождение камня, использованного для строительства всех севастопольских домов, однако обобщенная и мифологизированная оценка («всякое построение до последнего камня произведено из материалов херсонисских») внедрялась в читательское сознание тем более прочно, что П. И. Сумароков почти дословно повторил его в следующей своей книге о Крыме [30. С. 193]. Это обобщение кочевало по дальнейшим текстам и обрастало выразительными деталями. Обратимся, например, к книге, опубликованной без подписи почти через полвека после путешествия П.И. Сумарокова, - «Десятидневная поездка на Южный берег Крыма» [31]. Автор, едва оказавшись в Херсонесе, заявлял: «Противно слышать, что севастопольские жители доразрушали пощаженное покуда временем и перетаскивали отсюда, для Миф о разрушении Херсонеса 201 устройства своих домов, материалы, выделанные за тысячелетие назад. И теперь в Севастополе - как говорят - многие дома заставляют чваниться своих хозяев великолепными мраморными балконами и фронтонами с древними эллинскими надписями и мифологическими изваяниями, украшавшими некогда храмы, благоговейно уважавшиеся жившими тысячу лет тому назад!» [31. С. 28-29] Постепенно нарастающий к концу фразы пафос и полное отсутствие ответственного историзма говорят о литературности процитированного фрагмента. Обратим внимание, что автор сам указывает на слухи как на источник информации и, естественно, при дальнейшем описании Севастополя не указывает ни единого «мраморного балкона и фронтона», изготовленного из херсонесских древностей. И причина, думается, не в отсутствии наблюдательности, а в несоответствии литературно-мифологического знания объективной реальности. Многие показания об использовании в частных стройках херсонесских материалов следует признать преувеличенными. Хотя сам факт такого использования сомнений не вызывает. Речь идет не о системном изъятии камня из развалин, а о стихийной его добыче, масштаб которой не поддается точному учету. Думается, преувеличения П.С. Палласа можно объяснить именно осознанием такой стихийной угрозы для древнего памятника. Это понятно: повреждение научного предмета воспринимается ученым гораздо болезненнее, нежели сторонним от науки человеком. Фрагмент, написанный П. С. Палласом о разрушении остатков Херсонеса, был не столько исторической констатацией, сколько сигналом тревоги, призывающим принять меры к сохранению городища. Этот сигнал ретранслировался многими позднейшими текстами исследователей, путешественников и литераторов - и в связи с Херсонесом, и в связи с иными крымскими древностями (скажем, в Керчи и Феодосии) - и в конечном итоге выполнил свою функцию: с 1805 г. посредством высочайших указов начало формироваться законодательство по охране исторического наследия. Процесс этот оказался долгим и тернистым, однако спусковым механизмом для него послужила тревога ученых именно за крымские древности [22. С. 213], тревога, которая из чисто научного дискурса оказалась быстро воспринята областью литературы начала XIX в. В.В. Орехов 202 Впрочем, эпоха романтизма повела научный и литературный тексты о Крыме разными путями. Если наука совершенствовала методологию поиска, интерпретации и сохранения античных артефактов, то литература стремилась к воссозданию античности в мифологических образах. Изящную словесность начинали интересовать уже не сами древности, а рождаемые ими мифологические ассоциации. Изменение литературного вектора очень четко подмечено А. С. Пушкиным в известном «Отрывке из письма к Д.», напечатанном в «Северных цветах на 1826 год», а с 1830 г. публиковавшемся как приложение к «Бахчисарайскому фонтану». Это был своеобразный отклик на книгу И.М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 годе». Как известно, Муравьев-Апостол путешествовал по Крыму одновременно с Пушкиным (осень 1820 г.) и посетил те же места, однако «литературный результат» поездки оказался качественно иным: Муравь-ев-Апостол создал произведение, ориентированное на фактогра-фичность и документальность, что говорило о радикально ином литературном восприятии Крыма, нежели у автора «Бахчисарайского фонтана». Констатация этого контраста декларировалась Пушкиным в письме к А. А. Дельвигу от середины декабря 1824 г. - первой половины декабря 1825 г.: «Но знаешь ли, что более всего поразило меня в этой книге? различие наших впечатлений» [32. С. 250]. Эти строки не были включены в опубликованный «Отрывок из письма к Д.» (фрагмент процитированного письма к А.А. Дельвигу), однако сам «Отрывок...» целиком рассчитан на то, чтобы подчеркнуть различие писательских впечатлений. Скрупулезному вниманию Муравьева-Апостола к археологическим памятникам противопоставлено подчеркнутое отсутствие «исторических интересов» у Пушкина: «Я тотчас отправился на так названную Митридатову гробницу (развалины какой-то башни); там сорвал цветок для памяти и на другой день потерял без всякого сожаления. Развалины Пан-тикапеи не сильнее подействовали на мое воображение» [33. С. 280]. После этого трудно ожидать от автора «Отрывка из письма к Д.», чтобы он, подобно Муравьеву-Апостолу, заинтересовался вопросом о строительстве «хуторов и казарм севастопольских» «из стен и башен Херсона» [4. С. 361]. Миф о разрушении Херсонеса 203 «Семантическим центром» «Отрывка из письма к Д.», как справедливо отмечает О.А. Проскурин [34. С. 371], стал эпизод, посвященный «баснословным развалинам храма Дианы» на мысе Фиолент близ Георгиевского монастыря. Именно это место заставляет лирического героя «Отрывка из письма к Д.» «думать стихами»: К чему холодные сомненья? Я верю: здесь был грозный храм, Где крови жаждущим богам Дымились жертвоприношенья [33. С. 281]. Упоминание о «холодных сомненьях» обычно вписывалось литературоведением в контекст всё той же полемики Пушкина с книгой Муравьева-Апостола, где оспаривается версия о расположении храма Артемиды в Крыму. Однако А.Ю. Балакин убедительно доказывает, что с большей вероятностью фразу о «холодных сомненьях» следует отнести к известному одесскому знатоку древностей И.П. Море де Бларамбергу, с которым Пушкин общался в Одессе и который также не готов был согласиться с локализацией бывшего храма Артемиды в районе Фиолента [35. С. 27-29]. Это, в свою очередь, расширяет значение «Отрывка из письма к Д.», поскольку заставляет видеть в нем не столько прямой отклик на конкретный текст - книгу Муравьева-Апостола, сколько декларацию литературной позиции в отношении научно-исторического текста как такового. И это лишний раз подтверждает, что пушкинская фраза из «Отрывка» «Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических» [33. С. 281] должна читаться как манифестация принципа, определяющего литературную тенденцию. Так или иначе, но именно пушкинский взгляд на Тавриду определит на многие годы вперед традицию литературных отражений Крыма [36], «литературная реальность оказывалась важнее, чем историческая данность» [37. С. 33]. Метафорически выражаясь, литераторы, посещая полуостров, теперь смотрели на него глазами А.С. Пушкина, а не П.С. Палласа. Романтическое восприятие Крыма, безусловно, корректировалось «реальными личными впечатлениями» литераторов [38. С. 258], но в совей основе оно было «пушкинским». Так, в 1834 г. Крым посещает И.П. Бороздна. По точному замечанию М.В. Строганова, это «па- В.В. Орехов 204 ломничество приобретает вид поэтической экскурсии» [36. С. 83] по следам Пушкина, впечатления от которой отразились в «Поэтических очерках Украины, Одессы и Крыма» (1837) [39. С. 126-137]. «Поэтические очерки...» Бороздны выполнены в форме поэтических дружеских посланий, в соответствии с читательским запросом той поры, когда в авторе хотели видеть «не учителя и руководителя, а умного и знающего, без педантизма, собеседника, предоставлявшего новую пищу для чувств и размышлений» [40. С. 87]. В то же время «Поэтические очерки» близки к жанру описательной поэмы [36. С. 81], что предполагает отражение подлинных объектов и впечатлений. Но в том и дело, что подлинные впечатления автора диктовались пушкинской традицией. И потому, посетив Херсонес, Бороздна обозревает древние руины: Одни лишь груды камней ныне Разбросаны по всей равнине, Где славный город процветал И чужеземцев привлекал! [41. С. 119]. Однако это рождает у поэта ассоциации с легендарной эпохой князя Владимира, а вовсе не размышления о современной судьбе руин. Далее Бороздна посещает заброшенный монастырь св. Климента в Инкермане близ Севастополя, но вместо разъяснения причин, приведших к запустению древней обители, записывает четверостишье, по существу, формулирующее в стихотворной форме мысль Пушкина «Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических»: Такой вопрос решить бы мог Всеведущий археолог; Тернистая ж задача эта - Не дело странника-поэта! [41. С. 120]. Итак, русская изящная словесность постепенно «забывала» пал-ласовский миф о разрушении Херсонеса строителями Севастополя. Но это не означало полного исчезновения мифа. Во-первых, тема продолжала бытовать в научной литературе и публицистике (вспомним хотя бы известную статью И.А. Стемпковского в «Отечественных записках» о крымских древностях [42]). Во-вторых, этот миф оказался востребован зарубежной словесностью. Миф о разрушении Херсонеса 205 Так, в 1800 г. Крым посетил английский путешественник Эдвард Кларк. Свои путевые записки, ставшие «одним из самых цитируемых описаний Крыма на рубеже XVIII-XIX вв.» [43. С. 470], он превратил в откровенно антироссийский памфлет, где важное место занял миф о разрушении Херсонеса и в котором рассказывалось, как русские в погоне за строительным камнем взорвали даже фундаменты укреплений [8. С. 2], что следует признать откровенной «гиперболой» [22. С. 110-111]. Еще один пример. Французский геолог Ксавье Омер де Гелль в 1843-1845 гг. опубликовал в Париже трехтомный труд, составленный на основании своих путешествий по России, - «Степи Каспийского моря, Кавказ, Крым и южная Россия». Собственно научным был лишь третий том, тогда как первые два имели значительную литературную (в предисловии сказано - «живописную») «часть», созданную в сотрудничестве с поэтессой Аделью Омер де Г елль. Читаем о Херсонесе: «Сегодня от былого величия сохранились лишь груды камней без имен и характера и, странная вещь: народ, довершивший уничтожение того, что пощадили варварские нашествия и владычество мусульман, - это тот самый народ, который в Херсоне в 988 году посредством крещения князя Владимира приобщился к христианству. Когда русские оказались в Крыму, еще стояли значительные строения . Но московитский вандализм вынес скорый приговор этим драгоценным развалинам. Когда приняли решение строить Севастополь, карантин расположился на месте гераклейско-го города, и после этого были разрушены и вывезены камень по камню все сохранявшиеся еще остатки этих памятников» [44. Р. 378-379]. Ясно, что автор попросту не мог наблюдать событий конца XVIII в., поскольку приезжал в Крым в 1840 и 1841 гг. Мы имеем дело с пересказом палласовского мифа, «украшенным» рассуждениями о пресловутом «московитском варварстве». Мотивы, побудившие европейских авторов обратиться к мифу о разрушении севастопольцами Херсонеса, прозрачны. Э. Кларк вуалировал «показной заботой о судьбе крымских древностей желание вывезти на родину ценные артефакты» [43. С. 478]. К. Омер де Гелль пытался вписать свой труд в актуальный контекст русскофранцузского политического противостояния [45. С. 126-160], что гарантировало определенные карьерные выгоды [22. С. 237-252]. То В.В. Орехов 206 есть миф о разрушении Херсонеса легко служил личным и политическим целям. Итак, история функционирования палласовского мифа имела весьма причудливую траекторию: являясь производной научного дискурса, он был призван послужить сбережению археологических памятников Крыма; затем, с сохранением той же функции, он вошел на время в сферу русской литературы, но одновременно же он был заимствован зарубежными авторами, которые в ряде случаев произвольно перенаправили функцию мифа. Это лишний раз убеждает, что результаты мифологизации реальности могут быть объяснены и описаны, но вряд ли могут быть полностью контролируемы.
Ключевые слова
литература путешествий,
миф,
имагология,
крымский текст,
античностьАвторы
| Орехов Владимир Викторович | Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского | д-р филол. наук, профессор кафедры русской и зарубежной литературы факультета славянской филологии и журналистики Таврической академии (структурное подразделение) | v-orehov@mail.ru |
Всего: 1
Ссылки
Dubois de Montpereux F. Voyage autour du Caucase, chez les Tcherkesses et les Abkhases, en Colchide, en Georgie, en Armenie et en Crimee. Paris : Librairie de Gide, 1843. Vol. VI. 461 p.
Паллас П.С. Наблюдения, сделанные во время путешествия по южным наместничествам Русского государства в 1793-1794 годах. М. : Наука, 1999. 246 с.
Карамзин Н.М. История Государства Российского : в 12 т. СПб. : Воен. тип. главного штаба, [1816]. Т. 1. 510 с.
Сентиментальные путешествия в Тавриду: П.И. Сумароков, И.М. Муравьев-Апостол. Великий Новгород ; Симферополь ; Н. Новгород : Растр, 2016. 507 с.
Lettres sur la Crimee, Odessa et la mer d'Azof. Moscou : Imprimerie de N.S. Vsevoljsky, 1810. 290 р.
Кёппен П.И. О древностях Южного берега Крыма и гор Таврических. СПб. : ИАН, 1837. 409 с.
Мансветов И.Д. Историческое описание древнего Херсонеса и открытых в нем памятников. М. : Севастопольск. отд. на Политехи. выставке, 1872. 97 с.
Бертье-Делагард А.Л. Древности южной России. Раскопки Херсонеса // Материалы по археологии России. СПб., 1893. № 12. С. 1-9.
Романчук А.И. Возвращение к старой теме, или Начальный период исследования Херсонеса // Античная древность и средние века. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2004. Вып. 35. С. 242-254.
Шаманаев А.В. О некоторых вопросах истории изучения Херсонеса // Античная древность и средние века. Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 2006. Вып. 37. С. 363-375.
Стржелецкий С.Ф. Клеры Херсонеса Таврического. Из истории древнего земледелия в Крыму // Херсонесский сборник. Симферополь : Крымиздат, 1961. Вып. 6. С. 5-247.
Тункина И.В. Русская наука о классических древностях юга России (XVIII ' - середина XIX в.). СПб. Наука, 2002. 676 с.
Е<вгений Болховитинов>. О следах греческого города Херсона, доныне видимых в Крыму // Отечественные записки. 1822. Ч. IX. № XXII. С. 156.
Зедгенидзе А.А. «Ученые путешествия» конца XVIII - начала XIX в. и исследование Херсонеса Таврического // Знание. Понимание. Умение. 2014. Вып. 1. С. 205-213.
Броневский М. Описание Крыма (Tartariae descriptio) Мартына Броневского // Записки Одесского общества истории и древностей. Одесса, 1867. Т. 6. С. 333367.
Эвлия Челеби. Книга путешествия. Крым и сопредельные области. (Извлечения из сочинения турецкого путешественника XVII века). Симферополь : Доля, 2008. 272 с.
Давыдов Ю.В. Сенявин. М. : Молодая гвардия, 1972. 251 с.
Головачев В.Ф. История Севастополя как русского порта. СПб. : Издание Севастопольского отдела на Политехнической выставке, 1872. 260 с.
Монтандон Ш. Путеводитель путешественника по Крыму, украшенный картами, планами, видами и виньетами и предваренный введением о разных способах переезда из Одессы в Крым. Киев : Стилос, 2011. 414 с.
Дьяконова И.А. Екатерининский дворец // Исторические улицы и памятники Севастополя. Симферополь: Таврия, 1996. С. 11-12.
Гончаров В. Адмирал Сенявин. Биографический очерк с приложением записок адмирала Д.Н. Сенявина. М. ; Л. : Военно-морское издательство НКВМФ СССР, 1945. 142 с.
Орехов В.В. В лабиринте крымского мифа. Симферополь ; Нижний Новгород : Растр, 2017. 579 с.
Люсый А.П. Ошибочная медиализация. Еще одна заявка на «Крымский текст»? // Вопросы культурологии. 2011. № 3. С. 102-104.
Бобров С.С. Рассвет полночи. Херсонида : в 2 т. М. : Наука, 2008. Т. 2. 622 с.
Храпунов Н.И. Крымские древности глазами западноевропейских путешественников конца XVIII - начала XIX в. // Российская империя и Крым. Симферополь : Издательский дом КФУ, 2020. С. 241-258.
Державин Г.Р. Сочинения : [в 9 т.] / с объясн. примеч. Я. Грота. СПб. : В тип. Имп. акад. наук, 1864. Т. 1, ч. 1. 812 с.
Шаманаев А.В. Путешествия в Крым Екатерины II и Александра I и становление системы сохранения исторического наследия Северного Причерноморья // Известия Уральского федерального университета. Сер. 2 (Гуманитарные науки). 2014. № 3 (130). С. 79-89.
Сегюр Л.-Ф. Записки графа Сегюра о пребывании его в России в Царствование Екатерины II (1785-1789). СПб. : Тип-я В.Н. Майкова, 1865. 386 с.
Сумароков П.И. Путешествие по всему Крыму и Бессарабии в 1799 году. Симферополь : Бизнес-Информ, 2012. 208 с.
Сумароков П.И. Досуги крымского судьи, или Второе путешествие в Тавриду. СПб. : Императорская типография, 1803. Ч. I. 226 с.
Десятидневная поездка на Южный берег Крыма. Одесса : Тип. Т. Неймана и К, 1848. 70 с.
Пушкин А.С. Полн. собр. соч. : в 17 т. М. : Воскресенье, 1994-1997. Т. 13. 684 с.
Пушкин А.С. Собр. соч. : в 10 т. М. : ГИХЛ, 1959-1962. Т. 7. 462 с.
Проскурин О.А. «Отрывок из письма [к Д.]» А.С. Пушкина: адресат, функция, датировка // Литературный факт. 2019. № 12. С. 348-383.
Балакин А.Ю. А.С. Пушкин и книга И.М. Муравьева-Апостола «Путешествие по Тавриде в 1820 годе» // Русская литература. 2017. № 2. С. 19-30.
Строганов М.В. «Мифологические предания счастливее для меня воспоминаний исторических..» (И не только Пушкин) // Крымский текст в русской культуре : материалы междунар. науч. конф. СПб. : [Б. и.], 2008. С. 72-89.
Кошелев В.А. Таврическая мифология Пушкина: Литературно исторические очерки. Великий Новгород ; Симферополь ; Нижний Новгород : Растр, 2015. 303 с.
Орехова Л.А. «Бахчисарайский фонтан» А.С. Пушкина в литературе путешествий по Крыму: проблемы интерпретации // Вестник Псковского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2015. Вып. 1. С. 258-265.
Шеремет А.С. Творческий путь И.П. Бороздны: индивидуальность в контексте литературных традиций : дис.. канд. филол. наук. Симферополь, 2015. 234 с.
Киселев В.С. Типология литературных метатекстов // Вестник Томского государственного университета. Бюллетень оперативной научной информации. 2004. № 23 (Март). С. 78-107.
Бороздна И.П. Поэтические очерки Украины, Одессы и Крыма. Письма в стихах к графу В.П. З.му. М. : Тип-я С.И. Селивановского, 1837. 248 с.
Стемпковский И.А. Мысли относительно изыскания древностей в Новороссийском крае // Отечественные записки. 1827. Ч. 29. № 81. С. 40-72.
Храпунов Н.И. Крымские письма Эдварда-Даньела Кларка // Материалы по археологии, истории и этнографии Таврии. Симферополь : Антиква, 2019. Вып. XXIV. С. 470-510.
Hommaire de Hell X., [Hommaire de Hell А.] Les Steppes de la mer Caspienne, le Caucase, la Crimee et la Russie meridionale. Paris : Bertrand, 1843-1845. Vol. 2. 598 р.
Таньшина Н.П. Самодержавие и либерализм: эпоха Николая I и Луи-Филиппа Орлеанского. М. : Политическая энциклопедия, 2018. 333 с.
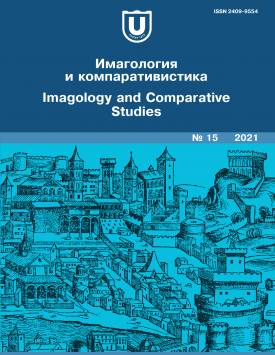

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью