На материалах произведений НМ. Ядринцева реконструируются образы «колониальной субалтерности», восстанавливаются наиболее значимые эпизоды коллективной биографии субъектов колонизационного процесса второй половины ХІХ- начала ХХ в., которые в имперском дискурсе позиционировались и в качестве объекта освоения. Доказывается, что «субалтерн», будучи носителем ограниченной субъектности, был лишён возможности артикулировать отношение к собственному подчинённому статусу, что становилось «зоной» ответственности «Человека власти и культуры».
“Subalterns” of Colonization in the Scholarly, Journalistic and Literary Heritage of Nikolai Yadrintsev.pdf В постколониальных исследованиях тема «внутренней колонизации» как части имперского опыта России обсуждается за пределами традиционных схем рефлексии отечественного колонизационного процесса, характерных для историографического дискурса второй половины XIX и большей части XX в. Своеобразие постколониальной исследовательской «оптики» определяется смещением акцентов от изучения практик хозяйственного освоения и административного управления подведомственными государству территориями к осмыслению основных компонентов колонизации: культурного и политического. В работах А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина, носящих полидисциплинарный характер сложилось определение внутренней колонизации как регулярных практик колониального управления и знания внутриполитических границ государства. При этом авторы «Субалтерны» колонизации 237 ведут речь об особом типе отношений между государством и подданными, в параметрах которого государство относится к подданным как к покоренным в ходе завоевания, а к собственной территории - как к захваченной и загадочной, требующей заселения и «окультуривания», направляемых из одного центра [1]. В этой связи составляющими элементами имперского доминирования, реализуемого через практики принуждения, были: культурная экспансия, гегемония власти, этническая ассимиляция в пределах государственных границ. Решение поставленных задач имперские власти осуществляли в интересах безопасности империи, поиска ресурсов обеспечения её устойчивости, что выводило на первый план задачи колониального принуждения. Согласно логике А. Эткинда [2] и М. Липовецкого [3. С. 809] в русской культуре XIX в. сформировался сюжет внутренней колонизации, который строился вокруг конфликта «Человека власти и культуры» и «Человека из народа», позиционируемого в нашем исследовании в качестве «колониального субалтерна». Понятие «субалтерн» (подчиненный) является производным продуктом постколониальной теории и относится к обездоленным, маргинализированным индивидам и группам с ограниченной субъектно-стью, что лишала эту категорию возможности быть услышанными. Определяя «субалтерна», М. Липовецкий характеризует его как «другого», по отношению к которому создаётся имперская идентичность [3. С. 812]. Концепция субалтерна, в основе которой лежит идея А. Грамши о гегемонии как варианте добровольного принятия отношений господства, предполагает, что доминирование «Человека власти и культуры» основывается не столько на приёмах насилия и геноцида, сколько на согласии управляемых [4]. Одной из определяющих интенций в исследовании проблемы стал вопрос, поставленный в работе Г. Спивак «Могут ли угнетённые говорить?», на который автор даёт однозначный ответ: «нет, за них это должен сделать кто-то другой» [5. С. 656]. Утверждение того факта, что Россия создается путём самоколонизации и самопожертвования, а российская идентичность вмещает в себя субъектность суверена и субалтерна, требует адекватной системы аргументации посредством перепрочтения и интерпретации сюжетов внутренней колонизации, в центре которых располагаются М.К. Чуркин 238 хорошо известные события сибирской истории: ссылка и каторга, переселенческое движение, инородческий вопрос, общественная жизнь окраины и т.д. В этой связи, обращение к литературному наследию Н.М. Ядринцева (статьям, стихотворениям, фельетонам) предоставляет возможность не только реконструировать образы «колониальной субалтерности», воссоздать значимые эпизоды коллективной биографии угнетённых или выстроить их по определённому ранжиру: коренное население, старожилы края, переселенцы из Европейской России, но и услышать голоса самих «субалтернов». Постколониальный ракурс исследования литературного творчества Н.М. Ядринцева, как представителя либерального сегмента российского общественно-политического дискурса, открывает перспективы выявления практик и форм сопротивления безголосых угнетённых, механизмов их двухстороннего притеснения, осуществляемого не только колонизаторами, но и традиционной патриархальной властью. «Колониальный субалтерн», как действующий субъект сюжетов «внутренней колонизации», выведен Н. М. Ядринцевым как жертва, сопротивляющаяся пассивно, вязко, бездеятельно. М. Липовецкий, определяя субалтерна, пишет следующее: «Субалтерн - это именно Другой, по отношению к которому создаётся имперская идентичность. Образы «взрослых детей», живущих не в истории, а в природе, интуитивно мудрых и экзотически чарующих «дикарей»... есть главная примета колониальной субалтерности» [3. С. 821]. Переходя к вопросу о конструировании образа «субалтерна» в текстах Н. М. Ядринцева, необходимо отметить, по крайней мере, два важных обстоятельства. 1. В литературном и публицистическом наследии Н.М. Ядринцева репрезентации колониальной субалтерности непосредственно связаны и соотносятся с его биографическим опытом, весьма травматическим. Исходным пунктом формирования представлений о «субалтер-нах» колонизации, определившим модели её рецепции и репрезентации в научно-публицистической деятельности областников, стал знаменитый процесс «сибирских сепаратистов» в 1865 г., по результатам которого наиболее активные, с точки зрения следствия, фигуранты (Г.Н. Потанин, Н.М. Ядринцев, С.С. Шашков, Н.С. Щукин) «Субалтерны» колонизации 239 оказались высланными под надзор полиции в северные губернии европейской части России. Принимая во внимание, что дело «сибирских сепаратистов» имеет достаточно полную и обширную историографию, отметим, что за гранью исследовательского интереса остаётся эмоциональная реакция «жертв», сложная система душевных переживаний, определивших их амбивалентный статус в восприятии данного события и выстраивании последующей стратегии поведения, запечатлённой в общественно-политической и научно-публицистической деятельности областников. Следует отметить, что «переживание» личной «травмы» участниками дела «сибирских сепаратистов», связанное с невольным перемещением в пограничное поле «Человек власти и культуры» / колониальный субалтерн, до некоторой степени преобразовалось в признание собственной вины и желание искупления, что так или иначе находило выражение в коммуникации и сотрудничестве с имперской властью. Г.Н. Потанин, «чистосердечно» признавший себя во время следствия сепаратистом, сожалел, что «своим поступком «набросил сепаратистский плащ» на всю компанию и «дал окраску» всему делу» [6. С. 209]. Очевидно, что методы расследования и рациональный подход власти к делу сепаратистов, относительно гуманные решения, принятые по результатам следствия, способствовали, с одной стороны, инкапсуляции «травмы» и переходу её в латентное состояние, с другой - создали благоприятную ситуацию для привлечения фигурантов дела к экспертной работе и включению их в общеимперский контент решения колонизационных задач. Всем доподлинно известен вклад вчерашних государственных преступников в организацию и проведение экспедиций по исследованию географии, топографии, экономики, этнографии восточных окраин, разработку программ по изучению быта переселенцев, старожилов и коренного населения края [7]. Переживание «травмы» всегда связано с желанием сохранения целостности личной идентичности, что способствует конструированию особого механизма психологической самозащиты - диссоциации как бессознательной стратегии недопущения травмирующего события в сознание. Так, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин, спустя годы, единодушно сходились на том, что это дело было раздуто, сту- М.К. Чуркин 240 денческие вечеринки сибиряков превращены в тайное общество, разговоры о возможном будущем отделении Сибири-колонии от России-метрополии, по аналогии с Северными Соединенными Штатами Америки, были представлены следствием как намерения; пропаганда сепаратизма была усмотрена даже в идее открытия сибирского университета [8. С. 64, примеч.]. Н.М. Ядринцев в своей автобиографии не отрицал, что они говорили об отделении Сибири и создании республики, но как об очень отдаленном будущем, желали своей родине «нового гласного суда, земства, больше гласности, поощрения промышленности, большей равноправности инородцам» [9. С. 156]. Осмысление и переживание собственного «травматического» опыта «предсубалтерности» происходило у представителей сибирского областничества дистанционно. Оказавшись далеко за пределами Сибири: Г.Н. Потанин - в Вологодской губернии, Н.М. Ядринцев, С. С. Шашков - в г. Шенкурске Архангельской губернии, ссыльные попали в более сложноустроенную коммуникативную среду, в которой они были вынуждены реализовывать свои убеждения с учётом сложившихся бытовых условий. Так, Н.М. Ядринцев, приехав в Архангельск без денег и тёплой одежды, получил разрешение задержаться в ожидании гонорара и в качестве компромисса составил записку о положении русской пенитенциарии в крае, которая была отправлена на высочайшее рассмотрение за подписью местного губернатора [10. С. 22]. В благодарность Ядринцев был отправлен в Шенкурск не по этапу, а в экипаже [10. С. 22]. Вообще, отрыв областников от Сибири предоставил им возможность глубже погрузиться именно в сибирскую колонизационную проблематику, что было связано и с обстоятельствами объективного свойства. Находясь в ссылке, Н.М. Ядринцев и Г.Н. Потанин активно сотрудничали с местными изданиями, в частности Волжско-Камской газетой, что не только наполняло жизнь ссыльных смыслом, но и предоставляло возможность обеспечивать себя. Важным следует признать и то, что местные издатели, во многом по цензурным соображениям, предпочитали публиковать периферийные (сибирские) сюжеты, не имевшие прямого отношения к проблемам собственного региона [10. С. 24]. Фактором, который также способствовал переформатированию личной «травмы», стало непривычное для активно коммуницирую-щих личностей состояние фрустрации, дополняемое чувством оди-«Субалтерны» колонизации 241 ночества. Н.М. Ядринцев сетовал, что там (в Шенкурске), нет людей одинаковой с ним породы: Шашков был сосредоточен в себе, Уша-ров пил и все больше опускался: «Я одинок, как и Вы, - писал он Потанину, - и космополитическая среда, и ее интересы, и разговоры не удовлетворяют меня. Мне нужны птицы одной породы, и за соседство с Вами я променял бы все прочие соседства» [11. С. 48]. Таким образом, можно предположить, что вынужденные статусные деформации, пережитые Ядринцевым, возникновение трудной жизненной ситуации стали сопутствующим условием более полных и цельных представлений о «травме», переживаемой субъектами колонизации: переселенцами из Европейской России, сибирскими старожилами, индигенными народами, что оказалось детально репрезентировано в их публицистическом наследии. 2. Дискурс «субалтерности», раскрываемый Ядринцевым через актуализацию тем ссылки и каторги в регионе, жизнеспособности сибирского общества, инородческой, старожильческой и переселенческой проблематики, представлен в его творческом наследии как альтернатива набирающим силу социал-дарвинистским теориям, в эпицентре которых располагались идеи о расовой неполноценности «неисторических» народов и неизбежности вымирания коренных и прочих групп населения, имевших подчинённый статус. Настаивая на колониальном характере имперской инкорпорации и продвигая тезис «Сибирь - колония», Н. М. Ядринцев оговаривал важность патерналистских действий в отношении «субалтернов», что способствовало бы преодолению их культурной отсталости и интегрированности в природу. Наиболее яркие образы колониальной субалтерности выведены Ядринцевым в работах «Русская община в тюрьме и в ссылке», «Крепостнические традиции в Сибири», «Инородцы Сибири и их вымирание», «Сибирские инородцы, их быт и современное положение», «Общественная жизнь Сибири» и т.д. Размышляя о живучести крепостнических традиций в Сибири, Н.М. Ядринцев формулирует тезис о готовности сибирского крестьянина к подчинению, что реализовывалось на практике в трансляции стандартов организации его общественной жизни в местах выхода: «... он оставался верен своим формам землевладения, своей общине, своей круговой поруке, своему миру, и чиновник, поняв склад его М.К. Чуркин 242 жизни... добродушно говорил: «Благоденствуешь бестия?.. Только ты помни, что ты дань должен своему благодетелю. И мужик нёс» [12. С. 75]. Одним из ключевых вопросов в связи с аграрной колонизации Сибири и сопредельных регионов Н.М. Ядринцев считал вопрос инородческий. Критикуя в своём определении «бюрократические цивилизаторские проекты» заселения степей, мешавших нормальному развитию кочевой культуры и прогрессу, исследователь поставил под сомнение эффективность имперских планов, в которых содружество «меча и плуга» позиционировалось как своеобразная народная санкция имперской экспансии. Один из своих фундаментальных трудов «Инородцы Сибири и их вымирание» Ядринцев начинает с важного предуведомления: «Реферат мой возбудил некоторые прения по вопросу о вымирании инородцев, причем были высказаны мнения, что низшие инородческие расы при столкновении с высшими обречены на вымирание и что причины этого вымирания лежат в упорстве и неспособности инородцев перейти к высшей культуре» [13]. В конечном итоге он приходит к выводу, что причины вымирания лежат далеко не в свойствах самой расы, но в чисто внешних обстоятельствах, неблагоприятно влияющих вообще на человеческую жизнь [13]. Специфическая группа «субалтернов» представлена в работе Н.М. Ядринцева «Русская община в тюрьме и ссылке» - сообщество «отверженных», по определению исследователя. Ядринцев детально «выводит» мир людей, подвергшихся повторной колонизации: тюремных обитателей, ссыльных бродяг, бывших «благородных», против своей воли потерявших статус «Человека власти и культуры». Рассуждая о значении тюрьмы и ссылки в колонизационном отношении, Н. М. Яд-ринцев чётко обозначил основные результаты повторной «субалтерни-зации» субъектов имперской пенитенциарии, особо подчеркнув усиление их подчинённого статуса: «водворялись под главным наблюдением сибирского генерал-губернатора»; «губернаторам предоставлялась полная свобода действий. в отношении ссыльных»; «выбор строгих исполнителей и предоставления им неограниченной власти»; «организация обязательных работ» [10. С. 574-575]. Отдельным сюжетом в работе Н.М. Ядринцева предстаёт практика интеграции освобождённых из тюрем преступников в сибирское общество через приписку к старожильческим селениям, что в полной «Субалтерны» колонизации 243 мере вписывалось в концепцию «внутренней колонизации»: только та земля является русской, по которой прошёл плуг её пахаря! Характеризуя ситуацию с обустройством ссыльных на старожильческих землях, Ядринцев замечает: «От них требовали только, чтобы они непременно занялись земледелием...» [10. С. 583]. Всё это позволяет говорить о том, что формирование сообществ «покорённых», «субалтер-нов» колонизации реализовывалось через практики унификации хозяйственных занятий и образа жизни подчинённых групп. Показательны в этом смысле размышления Н.М. Ядринцева о судьбе субалтерна в колонизации: «Тысячи поселенцев легли здесь костями под изнурительными работами, под жестокими наказаниями, в лихорадках, тифе, в цинге и под пятном “сибирской язвы”, но новые толпы, осужденные на смертность, заменяли их»; «повсеместный грабёж народа, пытки в застенках, бесчеловечные казни, зверские убийства и истязания. жалобы сибиряков на несправедливость властей дали повод называть их ябедниками.» [10. С. 571]. Подобно субалтерном чёрной Атлантики, отвечающим на угнетение музицированием, в обстоятельствах внутренней колонизации восточных окраин империи выработались автохтонные модели сопротивления субалтернов, широко репрезентируемые в текстах Н.М. Ядринцева: жалоба, бегство-переселение, бегство бродяжничество. Конструируя общие выводы, отметим следующее. Опираясь на понятийный словарь А. Грамши, в котором принадлежность к категории «субалтерн» адресуется угнетённым и маргинализированным группам, нельзя не признать, что и сам Ядринцев, как и многие его единомышленники, неоднократно оказывался в ситуации перемещения в маргинальное состояние (дело сепаратистов, конфликты с властями вокруг издательской деятельности и литературного творчества), имея биографический опыт колониальной субалтерности. В данном отношении репрезентации субалтерности в литературных и публицистических текстах Н.М. Ядринцева исходят одновременно и как от «Человека власти и культуры», и как от «колониального субалтерна», что даёт возможность говорить о ситуации двойного исключения согласно логике Г. Спивак, когда возникают две модели репрезентации: говорить от имени угнетённых или воображать их. Нам видится, что Н.М. Ядринце- М.К. Чуркин 244 ву, который взял на себя обязательства представлять интересы угнетённых, в значительной мере удалось избежать представлений о субалтер-нах колонизации как когерентных политических субъектах, без эссен-циализации их побуждений и желаний. Литературные и публицистические тексты Н.М. Ядринцева позволяют рельефно очертить сообщества «других» в качестве и объекта и средства решения задач колонизации как способа инкорпорации окраин в общеимперское пространство методами доминирования и подчинения.
Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России : сб. статей / под ред. А. Эткинда, Д. Уффельманна, И. Кукулина. М. : Новое литературное обозрение, 2012. 960 с.
Эткинд А. Внутренняя колонизация. Имперский опыт России. М. : Новое литературное обозрение, 2016. 448 с.
Липовецкий М. Советские и постсоветские трансформации сюжета внутренней колонизации // Там, внутри. Практики внутренней колонизации в культурной истории России. М. : Новое литературное обозрение, 2012. С. 809-845.
Грамши А. Избранные произведения. М. : Иностранная литература, 1959. Т. 3. С. 191-200.
Спивак Г.Ч. Могут ли угнетенные говорить? // Введение в гендерные исследования. Ч. II: Хрестоматия / под ред. С.В. Жеребкина. СПб. : Алетейя, 2001. С. 649-670.
Потанин Г.Н. Воспоминания // Литературное наследство Сибири. Новосибирск : Зап.-Сиб. кн. изд-во, 1983. Т. 6. C. 22-332.
Семёнов В.Ф. Очерк пятидесятилетней деятельности Западно-Сибирского отдела Государственного русского географического общества. Омск : Издание Зап.-Сиб. Отдела Государственного Русского Географического Общества, 1927. 359 + 160 с.
Лемке М. Николай Михайлович Ядринцев. Биографический очерк к десятилетию со дня кончины (1894-1904). СПб. : Изд. ред. газеты «Восточное обозрение», 1904. 219 с.
Ядринцев Н.М. К моей автобиографии // Русская мысль. 1904. Июнь. С. 152-171.
Ядринцев Н.М. Русская община в тюрьме и ссылке / сост., авт. предисл. и примеч. С.А. Иникова ; отв. ред. О.А. Платонов. М. : Институт русской цивилизации, 2015. 752 с.
Ядринцев Н.М. Письмо Г.Н. Потанину от 17 января 1873 г. // Письма Николая Михайловича Ядринцева к Г.Н. Потанину. Красноярск : Тип. Енис. Губ. Союза кооперативов, 1918. Вып. 1. С. 41-68.
Ядринцев Н.М. Крепостнические традиции в Сибири // Сборник избранных статей, стихотворений и фельетонов Н.М. Ядринцева. Красноярск : Тип. Енисейского губ. Союза кооперативов, 1919. С. 69-76.
Ядринцев Н.М. Инородцы Сибири и их вымирание. URL: http://az.lib.rU/j/jadrince_n_m/text_1883_inorodtzy_sibiry_oldorfo.shtml
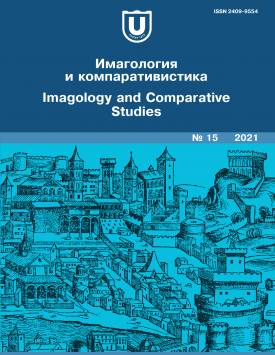

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью