Традиция Вальтера Скотта в творчестве И.С. Тургенева: «Сент-Ронанские воды» и «Клара Милич»
Рассматается проблема восприятия И.С. Тургеневым романа Вальтера Скотта «Сент-Ронанские воды» (1823). Подвергается компаративному анализу поздняя повесть русского писателя «Клара Милич» (1883), которая представляет собой новый этап собственно творческой рецепции неисторического романа «шотландского чародея». В качестве важного связующего материала в диалоге двух авторов рассматривается трагедия У. Шекспира «Гамлет», главные образы которой во многом организуют драматическую линию повести и романа.
The tradition of Walter Scott in the work of Ivan Turgenev: SaintRonan's Well and Clara Milic.pdf Спустя сорок лет после знакомства И. С. Тургенева с романом Вальтера Скотта «Сент-Ронанские воды» (1823) в оригинале писатель вновь обращается к нему уже в рамках собственного творчества. Английский роман и его автор появляются в повести 1883 г. «Клара Милич», но не в форме простого упоминания, а в качестве предмета серьезной художественной рефлексии. На факт творческого взаимодействия Тургенева с вальтерскоттовским материалом указывает образ его главной героини, генетически восходящий к Кларе Моубрей. При этом посредником в диалоге двух авторов во многом выступает У. Шекспир. «Сент-Ронанские воды» в повести Тургенева входят в круг чтения главного героя: незадолго до того как в жизни Аратова появилась Клара Милич, он «прочел роман Вальтера Скотта» [1. С. 79]. Здесь же автор замечает, что английский писатель был очень уважаем отцом героя, видевшего в нем «чуть ли не научного писателя» [1. С. 79]. Свежая память о «маленькой драме» Сент-Ронана заставляет Аратова ассоциировать мисс Моубрей с девушкой, еще ему не знакомой, но обладающей тем же звучным именем: Как ее имя? - спросил Аратов. Клара... Клара? - вторично перебил Аратов. - Не может быть! [1. С. 73]. 39 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева Очевидно, и сами внешние черты вальтерскоттовской героини проецируются им на Клару Милич, облик которой он строит пока только по скупому рассказу Купфера, хотя позже вспоминает, что прежде видел ее у княгини. Об этом говорит свидетельствует, например, вопрос Аратова к приятелю: У ней черные глаза? - промолвил ему вслед Аратов. Как уголь! - весело гаркнул Купфер и исчез [1. С. 74]. «Черные глаза» - это память о темных, «глубоко запавших» глазах Клары Моубрей, над которыми нависли «дуги черного агата» [2. С. 89]. Далее, увидев девушку на сцене, Аратов, вероятно, продолжает обнаруживать уже реальное сходство между ней и знакомым литературным образом. Тургенев действительно строит портрет молодой артистки в нестрогом соответствии с описанием Скотта - близости изображений способствуют также прямой нос и длинные черные волосы. Однако именно первые черты - темнота глаз в окружении черных бровей - служат доминантой обоих рисунков, при этом каждый из авторов подчеркивает присутствие в них неведомого трагизма. Обнаружить эту важную особенность, связующую внешний облик и психологию, Скотт и Тургенев позволяют персонажам с непритязательной характеристикой, что производит еще большее впечатление. Так, в английском романе пустая и желчная леди Пенелопа догадывается, что во впалых глазах Клары нашли отражение перенесенные ею горести, а в русской повести московский «седоволосый фат с лицом кокотки» в противоположность присущей ему глупости проницательно замечает: «Какие у нее трагические глаза!» [1. С. 75]. Скрытая трагедия души определяет характер двух Клар, а ее проявления и печальный исход позволяют обнаружиться общему источнику, на который во многом опирается авторский замысел, - образ шекспировской Офелии. Вальтер Скотт дает указание на этот источник прямо в тексте, дважды его называя: сначала в авторском сравнении, а затем в речи самой героини. Клара Моубрей тем, что «одевалась, вела себя и судила по-своему» [2. С. 107], разительно отличалась от остальных представительниц светского общества, расположившегося на Сент-Ронанских водах. Странность ее действий в глазах как обитателей отеля, так и всех посторонних вырастала до 40 Компаративистика / Comparative Studies предположения о легком сумасшествии. Вносимый ею контраст и порожденная им оценка сравниваются с безумным поведением невесты Гамлета - Скотт кратко пересказывает 5-ю сцену IV акта: ... ее наряды, манеры и мнения удивительно шли ей, они, как венок Офелии и обрывки ее странных песен, должны были по сути дела вызывать сострадание и грустные чувства, а не только забавлять окружающих [2. С. 107]. Последние слова, передающие общее настроение от этой сцены в трагедии, предельно соответствуют и атмосфере романного действия. Следуя за Шекспиром, английский писатель точно так же соединяет в образе Клары трагикомические черты, при этом сохраняя полярность и самостоятельность их положения - внутренне все имеет строго печальную окраску, а внешние проявления вызывают у окружающих противоположный эффект (смех). Возвращаясь к сцене с безумной Офелией, Скотт показывает, что Клара в отрицании не только сама ассоциирует себя с шекспировской героиней, но и хорошо понимает справедливость такого уподобления: Не хочу я быть и Офелией, хоть и повторю вслед за ней: «Доброй ночи, сударыни; доброй ночи вам, милые дамы!» Теперь же... нет, нет, я не скажу: «Подайте мне карету!», а только - «Коня, коня!» [2. С. 110]. Героиня Вальтера Скотта повторяет путь Офелии в его главных пунктах: крушение счастья в любви - потеря возлюбленного - безумие вследствие пережитого потрясения - смерть в сочетании печали и сумасшествия. Но если у Шекспира девушка проходит эти стадии в трагической стремительности, то Скотт разворачивает движение своей Клары в эпическую последовательность, сохраняя при этом драматизм звучания. Не случайно автор вкладывает здесь в уста героини-наездницы слова Ричарда III из одноименной хроники: они фиксируют как стремительность ее эмоционального перехода из одного состояния в другое, так и чрезвычайную решимость в самостоятельном определении своей горестной судьбы. Немаловажна в этой 41 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева фразе и метафора выбитого из седла человека, ищущего опоры, но встречающего лишь гибель. Тургенев прямых текстовых отсылок на Офелию практически не дает, но отдельные и существенные элементы ее образа переносит на свою героиню. Это проявлено не только в мотиве безумия, хотя и получающем здесь не столь прямое выражение, но и в общем оформлении трагической истории любви, которая значимо связует его Клару Милич с мисс Моубрей. Прежде всего, чрезвычайное сходство героинь Тургенева и Скотта обнаруживается в их дерзкой, волевой и независимой природе с определяющим в ней свойством - гордостью. Вальтер Скотт, описывая Клару, говорит о том, что она презирала тот светский мир, «с которым ей по временам приходилось сталкиваться». Он подчеркивает в своенравной девушке ее чуждость всему «водяному обществу», которую окружающие решительно не одобряли и трактовали не в ее пользу. Показательна в раскрытии ее характера сцена неожиданного столкновения со своим врагом. Во время этого мучительного разговора, испытывая внутри борьбу страха и ненависти, Клара гневно отвергает унизительные требования Этерингтона: Никогда, никогда! - ответила она с возрастающей горячностью. - Я могу лишь повторить свой отказ, но он будет обладать всей силой клятвы. Ваше положение для меня - ничто, ваше богатство я презираю [2. С. 334]. Тургенев делает гордую сущность своей героини еще более явной, передавая словами нескольких персонажей впечатление от ее независимого характера. Сначала Аратов слышит из уст Купфера: Горда она была - как сам сатана - и неприступна! Бедовая голова! Тверда, как камень! Веришь ли ты мне - уж на что я ее близко знал, а никогда на ее глазах слез не видел! [1. С. 89]. Затем из рассказов матери и сестры он получает полное представление, подтверждающее его первые ощущения («Натура страстная, своевольная сказывалась во всем» [1. С. 75]), о том, какой силой и самоуверенностью обладала эта девушка: 42 Компаративистика / Comparative Studies ... своевольная, вспыльчивая, самолюбивая, она не ладила особенно с отцом, которого презирала - и за пьянство и за бездарность. Она была вся - огонь, вся - страсть и вся - противоречие. [1. С. 98]. Примечателен в характеристике обеих героинь акцент на презрительное чувство, испытываемое ими к своим главным недругам и обидчикам. В случае с Этерингтоном красноречив эпизод с чулком, который Тургенев еще во время чтения выделил карандашом. Лорд не может стерпеть поведение Клары, которая «изощряется в способах показать мне, как мало она меня уважает и как ей неприятно мое присутствие» [2. С. 438]. В попытке «сломить ее гордыню» он добивается совершенно противоположного результата («обошлась со мной, как с паршивым псом» [2. С. 423-424]), который, в свою очередь, бьет по его самолюбию: «.она имеет дерзость бросать мне вызов и выражать презрение перед своим братом и на глазах всего общества» [2. С. 438]. Презрение подобной же силы «чувствовал и не прощал» [1. С. 98] в повести Тургенева отец Клары. Автор особо подчеркивает, что он не понимал своей дочери, не поощрял ее музыкальных способностей, которые «в ней оказались рано» [1. С. 98]. Следствием дисгармонии семейных отношений стало ее бегство из дома: «Не могу! не могу иначе!.. Сердце пополам, а не могу» [1. С. 99]. Важно и еще одно презрение - обоюдное, которое проявилось во время злосчастного свидания. Во-первых, спасовавший Аратов пренебрег искренностью Клары, увидев в «объяснении между совершенно незнакомыми людьми, на публичном бульваре» [1. С. 83] что-то ужасно предосудительное и невыгодное, прежде всего, для него. Уже после смерти девушки герой будет размышлять о своем поведении с ней и спрашивать себя: «Точно ли он оказал Кларе презрение?» [1. С. 91]. Во-вторых, сама Клара, поняв свое заблуждение («Я обманулась в вас, в вашем лице!») [1. С. 84], бросилась бежать, чтобы прервать это ставшее унизительным свидание, но прежде она «презрительно двинула рукою, словно отстраняя его прочь с дороги» [1. С. 84]. Именно этот брезгливый жест, предваряемый «резким хохотом», оскорбил Аратова, задел его гордость: «Он опять рассердился - и чуть не закричал вслед удалявшейся девушке: “Из вас может выйти хорошая актриса - но зачем вы вздумали надо мной-то комедию ломать?”» [1. С. 85]. 43 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева Гордая природа Клары заставляет ее покинуть постылый дом отца, в котором ей тесно, она чувствует, что ее пламенная душа здесь погибнет: «Клетка ваша мала... не по крыльям» [1. С. 99]. Тургенев показывает, что девушка решается на бегство, с одной стороны, в стремлении к счастью, а с другой - ею движет «врожденная страсть к театру» [1. С. 88]. Последнее свойство определяет характер ее недолгой жизни. Она бежит вместе «с актрисой, к которой привязалась» [1. С. 88], а Купфер говорит о ней: «создана для театра» [1. С. 73]. Шестнадцатилетняя девушка становится актеркой, начинает «играть и петь на провинциальных театрах» [1. С. 89]. Так в повести Тургенева воплощается тема театра, тесным образом связанная с Шекспиром, через него же она перешла и в роман Вальтера Скотта. Клара Моубрей, цитируя комедию «Как вам это понравится», ассоциирует всю человеческую жизнь и свою в частности с театральной сценой: «Знаете, ведь все мы - актеры, а мир всего-навсего -подмостки» [2. С. 132]. К этому выводу Тиррел с горечью добавляет: «А у пьесы, которую мы играем, печальный и тяжелый конец» [2. С. 132]. Это философское обобщение с четким пониманием индивидуальной драмы далее реализуется в развернутой метафоре. Как в «Гамлете», Скотт посреди трагедии жизненной разворачивает представление вымышленное, но схематически повторяющее драму реальности. В Сент-Ронане разыгрывается постановка живых картин, за основу которой берется «Сон в летнюю ночь»1. Центральный мотив этой пьесы-сказки связан с запретной любовью Гермии и Ли-зандра, которые, спасаясь от произвола Эгея, прячутся в лесу с намерением бежать из города для тайного венчания. История афинских героев параллельна коллизии Тиррела и Клары: точно так же счастливые влюбленные бегут от всех запретов с целью навсегда соединить свои судьбы. Но если Шекспир разрешает наметившуюся драму в гуманистическом ключе - чувства побеждают все условно- 1 Очень символично Скотт раздает своим героям роли в этой волшебной пьесе. Клара, например, оказывается безответно влюбленной Еленой, что подчеркивает испытываемые ею муки от сердечного чувства, а Этерингтон предпочел быть Основой с ослиной головой - его, по сюжету Шекспира, обманутая Титания принимает за прекрасное существо и влюбляется, - здесь очевидный намек на ложь и притворство лорда. 44 Компаративистика / Comparative Studies сти и преграды, то Скотт изначально движет свое действие в трагическом направлении. Тиррел и Клара подверглись обману1 от близкого человека, которому они слепо доверились. В результате свадебный обряд становится для влюбленных началом страданий, которые прекращаются (или скрываются, уходят вглубь - как в случае с Тиррелом) только с наступлением гибели главной героини. Пьеса внутри эпоса с подобными подтекстами исполняется и у Тургенева: в доме одной грузинской княгини разыгрывается небольшое представление, названное «литературно-музыкальным утром» [1. С. 73]. Интересно, как похоже писатель описывает устроительницу этого утра, хозяйку московского салона, принимавшую у себя «довольно смешанное общество» [1. С. 70], с образом Пенелопы Пенфезер - главой одной из партий Сент-Ронанской «республики», где собрана «смесь разнообразнейших характеров» [2. С. 10]. Княгиня предстает «любительницей музыки, литературы, покровительницей артистов и художников» [1. С. 70], но в ее доме все «носило печать чего-то недоброкачественного, поддельного, временного» [1. С. 70]. Точно таким же несоответствием характеризуется и леди Пенелопа у Вальтера Скотта: она собирает вокруг себя «художников, поэтов, философов, ученых, ораторов, заморских искателей приключений et hoc genus om ne» [2. С. 48], однако это покровительство талантам сосуществует с присущими ей глупостью и ветреностью («Добродушная, но в то же время капризная и вздорная») [2. С. 82]. Оба автора рисуют образ светской дамы с увядшей красотой и «эстетической жилкой», которая еще пытается поддержать блеск ушедшей славы и все чаще прибегает к «ухищрениям туалета» [2. С. 82]. При этом и Скотт, и Тургенев подчеркивают, что, в сущности, это были личности с чувствительной душой: мисс Пенелопа «охотно выказывала сердечность и щедрость» [2. С. 82], а грузинская княгиня была «очень добра, мягкосердечна и снисходительна» [1. С. 70]. Наконец, обе принимали участие в судьбе главной героини. 1 Писатель, безусловно, помнил, как по-своему прочитал эту часть вальтер-скоттовского романа А.С. Пушкин, отразив в «Метели» подмену жениха, но произошедшую не вследствие злого умысла, а по случайности и получившую все же счастливую развязку. 45 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева На устроенном «литературно-музыкальным утре» Клара Милич должна была явиться, по словам Купфера, «необыкновенной девушкой» с «первоклассным талантом» [1. С. 73]. Она исполнила романсы М.И. Глинки «Только узнал я тебя» и П.И. Чайковского «Нет, только тот, кто знал свиданья жажду» на стихотворения А. А. Дельвига и И.-В. Гете соответственно. Лирические тексты, звучание которых оживотворяется голосом девушки и усиливается звуками фортепьяно, предваряют драму Клары и ее последующее в подробностях узнавание Аратовым. Оба стихотворения посвящены любовному чувству, но их тональность различна. Если слова Дельвига рисуют сладостную гармонию, то у Гете на первый план выходит мотив страдания. Это противоречивое сочетание в исполнении Клары отвечает двойственности ее характера. Заключает своеобразную поэтическую исповедь, примиряя разность лирического напряжения, чтение письма Татьяны из «Евгения Онегина». Высказанные в нем порыв души и мерцающая надежда на счастье предвосхищают собственное письмо Клары к Аратову, а также их короткое свидание, которое для обоих станет роковым. На небольшом промежутке от представления в доме княжны и до объяснения Клары с Аратовым вся «история любви» строится по канве пушкинского романа - главы третья и четвертая. Точно так же, как Татьяна Ларина, Клара у Тургенева сама пытается определить свою судьбу, поддавшись искреннему и чистому побуждению чувства: она делает самостоятельный выбор после мимолетной встречи, первой пишет молодому человеку и вверяет себя его чести. Пушкинская героиня уверена насчет Онегина: «это он!» [3. С. 51] - подобным же образом не допускает сомнений и Клара: «Он должен решить мою участь» (выделено Тургеневым. - И.В.) [1. С. 101]. Назначенное ею rendez-vous и попытка объяснить свой поступок оказываются отражением лирического признания Татьяны в письме к Онегину: Вы, может быть, меня осудили, - продолжала она, не оборачивая головы. - Действительно, мой поступок очень странен... Но я много слышала о вас... да нет! Я... не по этой причине... Если б вы знали... Я так много хотела вам сказать, боже мой!.. Но как это сделать... Как это сделать! [1. С. 83]. 46 Компаративистика / Comparative Studies В этом сбивчивом и нерешительном откровении слышатся слова Татьяны Лариной с присущей им разностью интонации - вопроша-ние, пауза, восклицание, но звучат они таким же единым потоком. Сомнение, оправдание, жажда понимания и отзывчивости - все это оказывается отзвуком исповеди чувств пушкинской героини, хотя Тургенев не мотивирует прямо отношение Клары к Аратову именно любовью, но ставит на первый план поиск человеческого сочувствия, нежной чуткости души. Не меньшим сходством обладает и реакция Аратова с ответом Онегина. Точно так же, произнося своеобразное нравоучение («Так проповедовал Евгений» [3. С. 72]), он отвергает порыв чужих чувств в желании сохранить свою независимость и свободу, но авторская оценка различна. Если Пушкин говорит о поступке своего героя как о благородстве: «...обмануть он не хотел / Доверчивость души невинной» [3. С. 70], то Тургенев ясно показывает, как в Аратове поднимается задетое самолюбие. Его эгоизм чутко уловила Клара: «Вы только о себе заботились, о своем достоинстве, о своем покое!..» [1. С. 84]. Эти слова, разоблачающие малодушие Аратова, параллельны откровенному объяснению Татьяны в восьмой главе, где уже Онегин объясняется в чувствах - точно так же и Тургенев в финале повести приводит своего героя к роли безответно влюбленного. Движение Клары в своем поиске счастья за опытом Татьяны Лариной не является сознательным. Это никак, кроме публичного чтения, автором не маркируется, т. е. в самоощущении героини нет искусственной игры или намеренного подражания литературному образу. Но так же, как и Вальтер Скотт, Тургенев через прием театральности, воплощающий шекспировскую метафору «весь мир - театр», создает нарративный подтекст, усиливающий и масштабирующий человеческую драму. Не случайно английский романист в качестве эпиграфа к главе XX «Живые картины» (в оригинале: Theatricals - спектакль) берет слова Гамлета: «Пьеса - это именно то, что нужно!» (The play's the thing) [2. С. 269], намекая на разыгранную в трагедии «Мышеловку», которая была призвана изобличить преступление Клавдия. Вальтер Скотт и Тургенев, по примеру Шекспира, используют мотив сцены, с одной стороны, чтобы резче (с помощью контраста или параллели) и четче проявить основное 47 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева действие и главный в нем образ, а с другой - с целью выразить свое сочувствие к страдающей героине. Авторское отношение к Кларе Моубрей и Кларе Милич имеет совершенно очевидные ноты симпатии и сострадания. Вполне логично, что лейтмотивом в тургеневской повести становится фраза «Несчастная Клара! безумная Клара!», заимствованная из стихотворения В.И. Красова. Писатель вводит лирический текст вслед за романным, цитируя: Несчастная Клара! безумная Клара! Несчастная Клара Мобрай! [1. С. 79]. При этом он намеренно допускает неточности - дважды повторяет слово «несчастная», которого нет у Красова (в оригинале: «Ты, бедная Клара, безумная Клара, / Злосчастная Клара Моврай!») [4. С. 74]. В продолжение этой рефлексии Тургенев фамилию героини приводит не по русскому переводу 1828 г., выполненному с французского М. Воскресенским и использованному в стихотворении, но в собственном варианте с английского: Мобрай (Mowbray). «Поэт сороковых годов» воспел образ вальтерскоттовской героини в балладе «Клара Моврай» (1839), к которой сделал подзаголовок: «Баллада сия написана по прочтении Валтер-Скоттова романа “Сен-Ронанские воды”» [4. С. 74]. Сюжет стихотворения отсылает к главе IX «Свидание» - встреча Клары и Тиррела в лесу, а повторяемая Тургеневым строка заключают балладу в авторском сочувственном восклицании. Лирический текст Красова разворачивает картину душевного страдания девушки, поэт словно откликается на произнесенные ею в скорбном смирении слова: «Быть может, и вы, в свою очередь, скажете: “Бедная Клара!”» [2. С. 130]1. Тургенев перенимает это сочувственное отношение, делая вслед за Шекспиром акцент на несчастье и безумии. Тема безумия Клары у Вальтера Скотта проходит пунктиром. На душевное смятение и расстройство девушки скрыто или явно периодически указывается в разговорах различных персонажей («я думаю, что она немножко... самую малость... так сказать, тронута») [2. С. 105], в 1 См. в оригинале: «Perhaps you will say in your turn, Poor Clara» [5. P. 104]. 48 Компаративистика / Comparative Studies авторском комментарии («ее настроение действительно отличалось неустойчивостью и случайные порывы легкомыслия сменялись у нее долгими промежутками печали») [2. С. 107], а также и в признании самой героини («рассудок мой был одно время помрачен») [2. С. 128]. Легкое помешательство Клары, которое все обитатели Сент-Ронана считают очевидным, под влиянием новых горестей, неразделимо связанных с прошлым, к концу романа переходит в действительное сумасшествие. Гнев брата во время объяснения с ним и последующие испытания отчаянного бегства ложатся огромным потрясением на хрупкую душу Клары, не способную выдержать таких тягот. Она умирает, уже оторвавшись от реального мира, хотя даже в безумии ее преследует кошмар жизни: «Пойдемте, - торопливо сказала она, - пойдемте: мой брат преследует меня, он хочет нас обоих убить» [2. С. 535]. Так же, как и Офелия, Клара попадает в вереницу страданий, создающих вокруг нее образ жестокого и несправедливого мира. Для обеих героинь жизнь рисуется чередой испытаний, которые оказались им не по силам. Тяжелая ноша, свалившаяся на их плечи, подобна неожиданному бремени Гамлета, но если принц стремится разобраться в хитросплетениях судьбы, то ни Офелия, ни Клара даже не пытаются это сделать, потому что сама попытка вникнуть в бессмыслицу жизни не избавит от противоречий, а только усилит их, сделает еще более мучительными. Безумие становится следствием полного несоответствия между чистотой, искренностью души и грубой действительностью. Вернуться из забытья в реальность Кларе, как и Офелии, уже не суждено. Единственным выходом обеих героинь оказывается смерть, разрешающая для них трагическое устройство жизни. Скотт при этом потенциально повторяет за Шекспиром обстоятельства, при которых погибла Офелия, но не реализует их, решительно не допуская свою героиню до самоубийства. В отрывке, описывающем бегство Клары (которое еще во время чтения отметил Тургенев), английский писатель через худшие опасения ее брата рисует картину пропасти, на дне которой бурлит река. В представлении Джона Моубрея, его сестра в порыве отчаяния могла броситься в этот обрыв, чтобы окончить свои страдания. В этой логике становится до конца понятен смысл слов, произнесенных Кларой в мучительном разговоре с Этерингтоном: «вы ищете брачного союза с несчастной, единственное желание которой - об-49 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева венчаться с могилой» [2. С. 334]. Сочетание венца и могилы несет значение не только известное из сюжета романа, но и то, что сложилось в диалоге с шекспировской традицией: в качестве невесты Гамлета брачный венец ожидал Офелию, но саван заменил венчальные одежды (ср. слова Гертруды: «Мечтала / Покрыть цветами брачную постель, / А не могилу») [6. С. 142]. Тургенев принимает шекспировскую концепцию трагического состояния мира, однако делает это в иных масштабах: по-вальтерскоттовски он сосредоточивает драму жизни в пределах обыкновенного, в аспекте ежедневного существования. Его Клара, уже с детства познавшая несправедливость жизни, сохранила присущую Офелии чистоту. Не случайно сестра Анна говорит о ней: «Кто дорос до того идеала честности, правдивости, чистоты, главное, чистоты, который, при всех ее недостатках, постоянно носился перед нею?» [1. С. 100]. Безумие Клары Милич, в котором она сама отчасти признается («Ах я, безумная!») [1. С. 84], происходит по тем же причинам, но природа его отлична. Офелия, а вместе с ней и героиня Скотта, теряет прямую связь с реальностью, в тургеневском же случае все обстоит иначе. Будучи страстно увлеченной театром Клара, отвергнутая, в горе и отчаянии принимает свою жизнь за театральные подмостки, переносит иллюзию сцены на реальность. Об этом красноречиво свидетельствуют обстоятельства ее гибели: «Взяла с собою стклянку яду в театр, перед первым актом выпила -и так и доиграла весь этот акт» [1. С. 109]. Аратов, уже знающий всю историю Клары, обвиняет девушку в притворстве: «...эта игра “с ядом внутри” показалась ему какой-то уродливой фразой, бравировкой» [1. С. 110], однако позже, когда иллюзию начинают создавать его собственные расстроенные нервы, он убеждается в своей несправедливости. Страсть к театру у Клары перешла в жизнь так же легко, как и галлюцинации Аратова оказались частью действительности - в обоих случаях эти две сущности стали неразделимы. Виновником трагической гибели Клары Милич является Аратов - именно такую связь выстраивает он сам, постепенно погружаясь в историю бедной девушки. Тургенев прямо следует здесь за Шекспиром, показывая, как полная сосредоточенность героя на себе невольным образом отталкивает любящее (или жаждущее любви) 50 Компаративистика / Comparative Studies сердце, не выдерживающее нанесенного оскорбления, что приводит к самоубийству (о том, что Офелия утопилась, становится известно из разговора двух могильщиков). Так же, как и Гамлет, Аратов, занятый собственной персоной, оказывает Кларе презрение, и этого самолюбивого жеста достаточно для того, чтобы отчаяние постепенно привело к трагедии. Осознавая тяжесть и несправедливость своего поступка, он мучительно ищет прощения. Груз вины приводит к сумасшествию, но именно в этом состоянии Аратов получает свободу. Его больное сознание моделирует ситуацию, в которой только и возможно освобождение: Клара пристально смотрела на него... но ее глаза, ее черты сохраняли прежнее задумчиво-строгое, почти недовольное выражение. С этим именно выражением на лице явилась она на эстраду в день литературного утра - прежде чем увидела Аратова. И так же, как в тот раз, она вдруг покраснела, лицо оживилось, вспыхнул взор - и радостная, торжествующая улыбка раскрыла ее губы... - Я прощен! - воскликнул Аратов. - Ты победила... Возьми же меня! Ведь я твой - и ты моя! [1. С. 113]. Герой Тургенева, таким образом, оставаясь в рамках шекспировских законов, действует в обратном направлении. Если Гамлет, узнав о смерти Офелии, возвращается от философских рассуждений к конкретным обстоятельствам, то Аратов, столь же легко подверженный рефлексии, все вернее движется к миру отвлеченному и условному. Совершенно по-своему решает вопрос вины Вальтер Скотт. Он не строит пути Тиррела к постижению своего преступления, его герой изначально сам берет на себя ответственность за произошедшее с Кларой несчастье (обман венчания и повреждение рассудка) и несет этот груз вплоть до нового и окончательного крушения: «Я был причиной постигшей ее беды, я первый уговорил ее сойти со стези долга, и я более чем кто бы то ни был обязан охранить ее от несчастья, от преступления» [2. С. 401]. Однако английский писатель сохраняет в своем романе действие трагической иронии Шекспира, неотвратимую драму случайности, 51 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева ярко проявляющуюся в главах XXXVII «Исчезновение» и XXXVIII «Катастрофа». Клара решилась на бегство из дома «после бурного и грозившего ей новыми бедами объяснения» с братом [2. С. 525], но его и остальных последствий можно было бы избежать, если бы перед этим состоялся другой откровенный разговор - между Тачвудом и Моубреем. Последний, обнаружив исчезновение сестры, обвиняет старика-негоцианта в излишней медлительности и неосмотрительности, и автор частично соглашается со словами героя: «самолюбивое желание действовать по-своему и придавать своей особе излишнюю значительность» [2. С. 528] помешали Тачвуду - единственному лицу, разгадавшему все нити интриги, привести дело к благополучной развязке. Но еще одной помехой послужило «бешеное нетерпение Моубрея» [2. С. 528]. Таким образом, цепь случайностей - Клара приняла экипаж Тачвуда за коляску Этерингтона, Моубрей отложил новое объяснение с сестрой до утра, Клара набрела на дом священника Каргила и встретилась с Ханной Эруин - становится источником трагического исхода. Примечательно, что в развязке своего романа Скотт отражает концовку «Гамлета». Автор вкладывает в последние слова уже не владеющей рассудком Клары описание обстоятельств, последовавших за вестью о гибели Офелии: «Но если он нас догонит, не надо с ним биться... Вы должны мне обещать... Слишком часто уж это бывало... Но в будущем вы станете благоразумнее» [2. С. 535]. Кларе представляется преследование брата, которое должно привести к его поединку с Тиррелом. В этом звучит намек на сражение Гамлета и Лаэрта, мстящего за смерть сестры и убийство отца. Мо-убрей действительно отвечает воздаянием виновному, убивая на дуэли Этерингтона, но этим он лишает Тиррела возможности самому отплатить обидчику и получить хоть какое-то удовлетворение чести и души: «"Вы принесли весть о смерти в дом, который посетила смерть. И мне теперь не для чего жить”, - ответил Тиррел» [2. С. 538]. Тургенев не принимает развязки Скотта и строит финал своей повести в большей близи к шекспировской трагедии. Писатель, исполнив смерть Клары в столь же трагическом ореоле, позволяет вслед за страданиями девушки закончиться и терзаниям главного героя. Он символично сравнивает их гибель также с обоюдной смер-52 Компаративистика / Comparative Studies тью других персонажей Шекспира - Ромео и Джульетты («Таким поцелуем, - думалось ему, - и Ромео и Джульетта не менялись!»; «В предсмертном бреду Аратов называл себя Ромео... после отравы» [1. С. 115, 117]). Получая в своей фантазии прощение от Клары, Аратов умирает с «блаженной улыбкой». При этом здесь реализуется шекспировская связь двух противоположных начал - свадьбы и похорон. Называя себя Ромео, умирающий Аратов в предсмертном бреду «говорил о заключенном, о совершенном браке» [1. С. 117]. Важным отголоском «Сент-Ронанских» вод в последних «мистических» днях тургеневского героя оказывается мотив призрака. В романе Вальтера Скотта в момент рокового перелома образ Клары получает устойчивое сравнение с призраком1: за бестелесное существо ее поочередно принимают Ханна Эруин, священник Каргил, служанка гостиницы и, наконец, сам Тиррел. Встречи с «призраком» Клары происходят в пределах одной, предпоследней, главы, эпиграфом к которой Скотт берет собственное стихотворение с соответствующей тематикой: Кто этот белый призрак, что блуждает Средь бурной ночи? Девы наших сел В такое время выходить не станут, Чтоб скорбь свою в рыданьях изливать [1. С. 525]. Призрачные черты в образе Клары внешне имеют вполне реальные основания: «снежно-белый цвет лица», его неподвижные черты, «промокшее платье и разметавшиеся длинные волосы». Облик девушки - это точная метафора состояния ее души, автор указывает: «Горе, стыд, смятение, страх - все это сразу обрушилось на несчастную Клару Моубрей» [1. С. 525]. Легковесность ее наружности словно подчеркивает уже отходящую в небытие жизнь и невесомое присутствие сознания. Тургенев использует вальтерскоттовское сравнение в собственной повести, но воплощает его в обратном направлении. Если едва 1 Впервые образ Клары с призраком связывает мисс Пенелопа, которая говорит Тиррелу: «...она похожа на существо из потустороннего мира и всегда напоминает мне Призрачную Даму из романа Мэтью Льюиса» [2. С. 88]. 53 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева живую Клару Моубрей готовы принять за призрака, то Аратов всеми силами хочет «призрака» считать реальным существом. В аспекте сопоставления примечательным оказывается явление девушек перед своими избранниками в финале произведений. Тиррел видит Клару отображенной в старинном зеркале его комнаты: Он поднял глаза и увидел фигуру Клары, державшей свечу (взятую ею в коридоре) в вытянутой руке. На мгновение он застыл, не спуская глаз с этого страшного призрака, и лишь потом решился повернуться к живому существу, отраженному в зеркале. Когда же он сделал это, неподвижные бледные черты Клары почти убедили его в том, что перед ним бесплотное видение... [1. С. 535]. Наблюдая за ней, он вполне готов поверить в ее призрачное появление, и лишь движение и голос Клары заставляют его очнуться. У Тургенева Аратов ждет появления умершей девушки и признает его чуть ли не за естественный факт, когда находит Клару якобы сидящей рядом с ним в его комнате: «На его кресле, в двух шагах от него, сидит женщина, вся в черном. Голова отклонена в сторону, как в стереоскопе... Это она! Это Клара! Но какое строгое, какое унылое лицо!» [1. С. 113]. Если Вальтер Скотт развеивает странное видение, то Тургенев сохраняет иллюзию до конца. При этом оба автора дают читателям логичные объяснения сверхъестественного явления, но делают это по-разному. Английский писатель, изначально не настаивая на правде подобной фантазии, всегда развенчивает возникающие в связи с ними заблуждения. Например, в первой половине романа Джон Моубрей вспоминает про пугавший сестру «слух, будто в верхнем саду бродит призрак» [2. С. 157], и тут же дает ему банальную разгадку: «.пошел выслеживать этот призрак и застал там пастуха в натянутой поверх одежды белой рубахе, который сбивал груши» [2. С. 158]. Подобным приемом разоблачения Скотт пользуется во многих своих романах, среди которых особенно примечателен «Пират», где сверхъестественные способности Норны Тройл, «ведьмы» из Фитфул-Хэда, методично получают логичные и обыкновенные объяснения. Тургенев точно так же дает видениям своего героя вполне прозаический комментарий. Например, стонущий голос Клары называется 54 Компаративистика / Comparative Studies «галлюцинацией слуха», женская фигура в «венке из красных роз» [1. С. 107] (явная отсылка к венку Офелии) оказывается его теткой Платошей «в ночном чепце с большим красным бантом» [1. С. 107], наконец, даже «прядь черных женских волос», вдруг очутившаяся «в его стиснутой правой руке» [1. С. 116], интерпретируется как предмет, случайно забытый сестрой Анной в дневнике Клары. Однако Тургенев действует не в столь однозначном стиле, что Вальтер Скотт: предъявляя действительное толкование загадочным вещам, он ставит его в равную позицию с заблуждениями героя. Хотя совершенно вальтерскоттовскую определенность в изображении и оценке человеческих иллюзий писатель дает, например, в более ранних, чем «Клара Милич», рассказах «Стук... Стук... Стук» (1871) и «Стучит!» (1874). Появление сверхъестественного элемента в повести Тургенев мотивирует в сходном с Шекспиром ключе - развернуть трагедию человека. Тень отца для Гамлета олицетворяет окончательное крушение веры в разумность и справедливость мира, которая пошатнулась у принца уже с момента его возвращения в Данию («Каким ничтожным, плоским и тупым / Мне кажется весь свет в своих стремленьях!» [6. С. 19]). Герой Шекспира с явлением призрака осознает свою тяжкую задачу - вправить вывихнутый сустав времени. Для Аратова вторжение ирреального - это процесс признания своей вины и одновременно обнаружение любви к Кларе, которую он не хотел допустить при жизни девушки. Тургенев, как и Шекспир, использует потусторонний образ не только как знак катастрофы (мира или отдельного человека), но и как надежду на спасение. Именно освобождение от мучительного сознания совершенной ошибки - легкомысленной и себялюбивой, а также обретение счастья любви символизируют галлюцинации Аратова, возникшие из-за расстроенных нервов и природной впечатлительности. Между Тиррелом и Аратовым в отдельных деталях существует заметное сходство, которое объясняется не только тем, что оба по праву претендуют на позицию Гамлета. Тургенев наделяет своего героя двумя чертами, явно отсылающими к вальтерскоттовскому образу. Во-первых, Аратов в повести описан человеком, который «начал заниматься живописью для фотографических целей» [1. С. 86]. Это занятие на период всей истории с Кларой стало для него 55 Волков И. О. Традиция Вальтера Скотта в творчестве И. С. Тургенева единственным увлечением, которое захватывало все его внимание. И фотография оказывается тесно связана с развернувшейся драмой. Сначала Анна показывает Аратову фотокарточку, на к
Скачать электронную версию публикации
Загружен, раз: 66
Ключевые слова
И.С. Тургенев, В. Скотт, «Сент-Ронанские воды», библиотека писателя, У. Шекспир, «Клара Милич»Авторы
| ФИО | Организация | Дополнительно | |
| Волков Иван Олегович | Томский государственный университет | канд. филол. наук, доцент кафедры русской и зарубежной литературы | wolkoviv@gmail.com |
Ссылки
Тургенев И. С. Клара Милич (После смерти) // Полное собрание сочинений и писем : в 30 т. Сочинения : в 12 т. М. : Наука, 1982. Т. 10. С. 67-117.
Скотт В. Сент-Ронанские воды // Собрание сочинений : в 20 т. М. ; Л. : ИХЛ, 1964. Т. 16. С. 5-544.
Пушкин А. С. Евгений Онегин // Полное собрание сочинений : в 10 т. Л. : Наука, 1978. Т. 5. С. 5-213.
Красов В.И. Сочинения. Архангельск : Сев.-Зап. кн. изд-во, 1982. 186 с.
Scott W. St. Ronan's Well. Paris, 1832. (Baudrys collection of ancient and modem british novels and romances) // ОГЛМТ. Ф. 1. Оп. 3. ОФ. 325 / 1908.
Шекспир У. Гамлет // Собрание сочинений : в 8 т. М. : Интербук, 1994. Т. 8. С. 5-162.
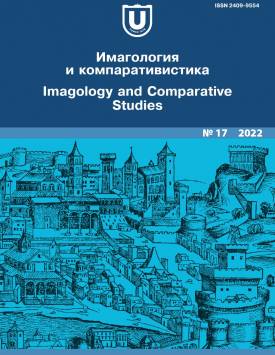
Традиция Вальтера Скотта в творчестве И.С. Тургенева: «Сент-Ронанские воды» и «Клара Милич» | Имагология и компаративистика. 2022. № 17. DOI: 10.17223/24099554/17/2
Скачать полнотекстовую версию
Загружен, раз: 883

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью