Впервые с позиций концептологического подхода проанализированы переводы романа Ф.М. Достоевского «Игрок» на венгерский язык, представленные Э. Сабо (1900) и Э.Г. Девечерине (1957). На материале трех эпизодов изучаются особенности концепта любовная страсть, устанавливается влияние выявленных переводческих трансформаций на сохранение сюжетных линий и полноту психологического портрета главного героя. Предпринимается попытка объяснить причины успешных переводческих решений и потерь с помощью категории национальной картины мира.
Fyodor Dostoevsky’s The Gambler in Hungarian Translations: The Interpretation of the Concept ‘Passion in Love’ (‘.pdf В наши дни во многих национальных культурах сформировалась традиция переводческой рецепции не только наследия Ф.М. Достоевского в целом, но и отдельных произведений писателя. Это справедливо и для Венгрии. История публикации переводов регулярно попадает в фокус внимания исследователей [1-3], при этом особенности самих переводов практически не привлекают внимания филологов. Изучаемый нами роман «Игрок» был переведен на венгерский язык не менее пяти раз: в 1887 г. вышла первая анонимная версия, в 1900 г. - версия Э. Сабо, в 1929 г. - Т. Мойа, затем - Д. Ковача, а в 1957 г. - Э.Г. Девечерине [3. P. 182], однако специальных работ о них пока нет. Методологическую основу исследования составил концептологический анализ текста, опирающийся на представление о взаимосвязи смыслового, словесного и поэтического уровней произведения [4]. Под художественным концептом мы понимаем концепт, существующий в национальной картине мира, семантика которого претерпела изменения, обусловленные особенностями авторского замысла в конкретном тексте. Одним из важнейших смыслообразующих элементов романа «Игрок» становится концепт страсть, о чем свидетельствуют факты истории создания произведения и особенности его поэтики [5]. В данной работе мы исследуем лексические репрезентанты концепта страсть («люблю», «ненавижу», «тянуло» и др.), их грамматическую и стилистическую аранжировку и воспроизведение выделенных особенностей в переводах. Таким образом, в анализируемых отрывках романа нас прежде всего интересуют способы трансляции особенностей речевого оформления эпизода как необходимый этап интерпретации изображаемого в нем события. В романе представлены четыре варианта страсти: любовная страсть, страсть к игре, к деньгам и гордыня, которые являются микроконцептами концепта страсть. Каждый из них проявляется в 81 Шатохина А.О., Банченко А.В. Роман Ф.М. Достоевского «Игрок» линиях разных персонажей, организуя сюжет и систему образов. В настоящей статье рассмотрены особенности воспроизведения концепта любовная страсть (ЛС) в образе повествователя в наиболее часто переиздаваемых переводах Э. Сабо и Э.Г. Девечерине (не менее 10 и 15 переизданий соответственно). В венгерской и русской картинах мира именная лексема концепта страсть (венг. szenvedely) имеет ряд общих смысловых компонентов. Венгерская и русская лексемы восходят к религиозному дискурсу и сохраняют в своей семантике связь со страданием и грехом («szen-vedni» - страдать, «szenny» - грязь) [6. C. 687]. Сопоставительный анализ русского и венгерского переводов Библии показывает, что в ряде контекстов лексемы страсть и szenvedely выступают эквивалентами (Рим. 1: 26-27, Rom. 1: 26-27, Рим. 7: 5-6, Rom. 7: 5-6, 1 Tim. 4: 3-6). В современном Достоевскому русском языке семантика данной лексемы преодолела рамки религиозного дискурса и приобрела широкий спектр светских значений с различными аксиологическими оттенками [7. C. 16-17; 8. C. 808]: она сополагается с любовью; понимается как источник удовольствия от некой деятельности; описывает свойства характера («увлеченность», «горячность»); означает порочное пристрастие, слабость; раздражающую привычку, манеру поведения. Кроме того, она может пониматься как источник страдания, соотноситься с грехом [9. С. 160-161]. Спектр значений лексемы szenvedely практически совпадает со значениями лексемы страсть [6. С. 687]. При этом трактовка страсти в православии и католицизме различна. Так, в православии страсть - это причина греха, ее необходимо преодолеть [10-13]. В католицизме страсть не обязательно связана с грехом: «Страсти морально благи, когда они способствуют доброму поступку, и дурны в противном случае» [14. С. 424]. В картине мира Достоевского семантика лексемы страсть совпадает с общекультурной [9. С. 162-163]. При этом основой многих его персонажей становится воплощение страсти во грехе и рефлексия согрешившего или ее отсутствие (о богословии греха у Достоевского см. [15]). В связи с выявленными противоречиями интересно проследить, как средства, объективирующие концепт, воспроизведены в венгерских переводах «Игрока». Семантическая структура концепта ЛС в романе включает следующие признаки: влечение / угасание влечения к лицу другого пола, физическое влечение, ненависть, (само)убийство, смерть, болезнь, мучительство, мучение, сильное желание, утрата контроля, удоволь-82 Компаративистика / Comparative Studies ствие, тоска, ревность, аппетит, отсутствие объективности, нежность, несчастье. Концепт ЛС реализуется в сюжете романа в историях Алексея Ивановича, Полины и генерала. Признаки, актуализированные в образе каждого героя, становятся чертами их психологических портретов (характерологическая функция концепта), позволяют достоверно изобразить любовь-ненависть Алексея Ивановича и Полины и любовь-зависимость генерала к Бланш. Сопоставление признаков концепта, актуализированных в этих образах, позволило разделить их на три группы: 1 ) общие для указанных героев (влечение к лицу другого пола, болезнь, искушение, ненависть, самоубийство); 2) вариативные (убийство и самоубийство в образе Алексея Ивановича и смерть в образе генерала); 3) индивидуальные (удовольствие, мучительство, мучение, сильное желание, утрата контроля, аппетит (чувство Алексея Ивановича к Полине), несчастье, искушение (характеристика чувства генерала к Бланш)). Соположение признаков, проявленных в образах главного и других героев романа, проявляет их черты. Отсутствие в художественном мире романа положительного примера отношений между мужчиной и женщиной становится одним из штрихов, передающих общее состояние мира, отринувшего истинные ценности (миромоделирующая функция), утратившего понятие идеала (об идеале у Достоевского см., например, [16]). Корректное воспроизведение в переводе средств, актуализирующих признаки концепта ЛС и системы связей между ними, важно для достоверного воссоздания характеров, типов любовных отношений и идеи произведения в целом. Наиболее полно в силу специфики формы повествования (записки) изображено чувство Алексея Ивановича к Полине. В его образе представлены почти все признаки концепта ЛС, актуализированные в романе (влечение / угасание влечения к лицу другого пола, физическое влечение, ненависть, (само)убийство, болезнь, мучение, сильное желание, утрата контроля, удовольствие, ревность, аппетит), значительное количество которых составляет признаки с отрицательной коннотацией. Кроме того, признаки с нейтральной или положительной коннотацией, взаимодействуя с другими, тоже обретают отрицательный заряд (сильное желание + убийство, удовольствие + убийство, удовольствие + мучение). То есть в романе изображается чувство мужчины к женщине, не соответствующее представлению о любви в православной культуре: это не чувство единения двоих, но безответное (как представляется повествователю) любовное (эротическое) чувство, сжигающая героя страсть. 83 Шатохина А.О., Банченко А.В. Роман Ф.М. Достоевского «Игрок» В завязке выделяется три характерных эпизода, повествующих о страсти главного героя к Полине. Остановимся на первом, где Алексей Иванович производит «анализ ощущений чувств» [17. С. 214] к девушке накануне своей первой игры. В большом абзаце отчетливо выделяются четыре тематических блока: 1) воспоминания о тоске по Полине во время недолгой разлуки; 2) признание в ненависти и желании убить ее; 3) осознание готовности броситься со Шлангенберга, если она прикажет; 4) вывод о том, что героиня с наслаждением использует повествователя как марионетку в своей игре [17. С. 214]. Чередование этих блоков становится постоянной характеристикой чувства, принятого Алексеем Ивановичем за любовь, но по сути являющегося разрушительной страстью. Первое подтверждение этому дано во втором тематическом блоке, намечающем черты этой страсти, которые получат систематическое воплощение в тексте: И еще раз теперь я задал себе вопрос: люблю ли я ее? И еще раз не сумел на него ответить, то есть, лучше сказать, я опять, в сотый раз, ответил себе, что я ее ненавижу. Да, она была мне ненавистна. Бывали минуты что я отдал бы полжизни, чтоб задушить ее! Клянусь, если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож, то я, мне кажется, схватился бы за него с наслаждением [17. С. 214].1 В данном эпизоде актуализируются такие признаки концепта ЛС, как влечение к лицу другого пола, ненависть, убийство и удовольствие. Вопрос «люблю ли я ее?» (признак влечение к лицу другого пола) подготавливает выпадающее из традиционного сценария признание. Репрезентанты признака ненависть открывают читателю суть отношения героя к возлюбленной, что уточняется во второй части отрывка. Лексема «ненависть» и ее производные становятся постоянной характеристикой чувства Алексея Ивановича и Полины друг к другу (восемь употреблений в романе) [17. С. 214, 219, 296, 298]. Неслучайно в исследованиях его называют «любовью-ненавистью» [20. C. 268269; 21. С. 457; 22. С. 301-302]. Лексема «задушить» впервые эксплицирует признак убийство, который станет постоянным свойством любовной страсти учителя, связывая его чувство с грехом. Выражение «медленно погрузить в ее грудь острый нож» актуализирует два при- 1 Здесь и далее перевод Э. Сабо цитируется по изданию 1925 г. [18], перевод Э.Г. Девечерине - по изданию 1980 г. [19]. 84 Компаративистика / Comparative Studies знака - убийство и, косвенно, удовольствие («медленно»). Семантика наслаждения убийством более явно проступит уже в следующей части предложения в виде одноименной лексемы. «Наслаждения» и «удовольствия», которым желал бы предаться герой, становятся важным средством прорисовки его характера: наслаждения для него - это броситься со ШлангенбергА [17. С. 214-215], терпеть унижения от Полины [17. Т. 5. С. 229], одержать верх над Де-Грие [17. С. 229], иметь власть [17. С. 231, 295] и деньги [17. С. 294]. Таким образом, признак удовольствие обладает особым значением в формировании смыслового пространства романа. Первым штрихом к систематической экспликации ценностного надлома героя становится удовольствие от убийства возлюбленной в анализируемом эпизоде. Рассмотрим, как этот фрагмент передан в переводах. В обеих версиях в вопросе Алексея Ивановича «люблю ли я ее?» глагол «любить» воспроизведен с помощью эквивалента «szeretni» (любить) с широким спектром значений, что соответствует оригиналу. Особенности чувства героя передаются автором с помощью однокоренных лексем «ненавижу» и «ненавистна». Здесь важен выбор эквивалента и сохранение повторяющегося корня. В анализируемых переводах использован глагол «gyulolni» (ненавидеть) и однокоренное прилагательное. Венгерский относится к агглютинативным языкам, поэтому воспроизведение синтаксиса оригинала во многих случаях потребует неординарных решений. Так, анализируемое выражение «я ее ненавижу», как любое распространенное личное предложение, может быть выражено одним словом за счет прикрепления к глагольной части постфиксов, обозначающих субъектА и объект действия. Именно этот наиболее распространенный вариант находим в переводе Девечерине - «gyulolom» (я ее ненавижу). Сабо использует другой вариант, предусмотренный языковой нормой: глагол + отдельно стоящее дополнение - «gyulolom ot» (я ненавижу его/ее). Оба решения соответствуют оригинальному тексту. В предложении «Да, она была мне ненавистна» привлекают внимание способы воспроизведения местоимения «мне», предложенные переводчиками. Сабо воспроизводит его с помощью местоимения «nekem» (мне, для меня), что соответствует дательному падежу в русском языке, однако не соответствует управлению отглагольного прилагательного (gydloletes, ненавистна) в венгерском. Девечерине сохраняет надлежащее управление «elottem» (передо мной, при мне). Здесь стоит отметить, что и в данном отрывке, и в переводе романа 85 Шатохина А.О., Банченко А.В. Роман Ф.М. Достоевского «Игрок» в целом Сабо нередко стремится следовать синтаксису Достоевского вопреки синтаксическим нормам естественного языка. При воспроизведении признака убийство в следующей части отрывка переводчики предлагают похожие решения. В обеих версиях фраза «отдал бы полжизни» воспроизведена с помощью выражения «fel-eletemet» (половину моей жизни, Сабо) / «fel eletemet» (половину моей жизни, Девечерине) и сослагательного наклонения, что соответствует подлиннику. Глагол «задушить» передан различными формами эквивалента «megfojtani» (душить, задушить). При этом в обоих переводах глагол имеет потенциальный суффикс «hat» (указание на возможность действия). Придаточное цели в версии Сабо воспроизведено дословно: «hogy ot megfojthassam» (чтобы ее задушить), однако в этом случае оно перегружено факультативным для венгерского языка местоимением (ot) и формой повелительного наклонения (-hassam). Грамматически иная, но семантически эквивалентная конструкция Де-вечерине «ha megfojthatom» (если (за)душу) с использованием союза «если» и формы настоящего времени оказывается удачнее, так как передает интенсивность действия и звучит лаконичнее. Выражение «если б возможно было медленно погрузить в ее грудь острый нож», в котором явно обозначен признак убийство и имплицитно - удовольствие («медленно»), вызвало некоторые разночтения. Фраза «если б возможно было» в переводе Сабо воспроизведена лишь при помощи суффикса потенциального значения в глаголе: «ha rogton kest marthattam volna a mellebe» (если бы я мог вонзить/погрузить нож в ее грудь). Девечерине употребляет необходимый в данном случае суффикс потенциального значения и сохраняет придаточное «если б возможно было» («ha lett volna ra mod» - если бы был способ / если бы явился случай), точнее передавая содержание оригинала. В выражении «медленно погрузить в ее грудь острый нож» Сабо выпускает эпитеты «медленно» и «острый», в результате взаимодействие признаков удовольствие и убийство, которое важно для полноценного воспроизведения эмоционального состояния героя и его оценки своего чувства к Полине, редуцируется. В версии Девечерине эпитеты сохранены, при этом лексема «грудь» заменена на «сердце». Выбор переводчицы обусловлен тем, что в венгерском существует устойчивое выражение «kest mart a szivebe» (вонзить нож в сердце). Вариант «mell» (грудь), предложенный Сабо, на первый взгляд точнее, однако именно «сердце» воспринимается носителями языка как сосредоточие жизни, вместилище чувств, поэтому вариант Сабо представляет от- 86 Компаративистика / Comparative Studies клонение от языковой нормы, а решение Девечерине полностью оправдано. Сочетание «с наслаждением» в версии Сабо передано с помощью лексемы «kej» (сладострастие, наслаждение), которая акцентирует эротический подтекст сцены и оттенок греховности. Такое решение отчасти компенсирует пропущенные в предыдущей части наречие и прилагательное. В переводе Девечерине использовано слово «gyonyor» (наслаждение, также может соотноситься с восхищением и любованием), которое оставляет эротическую семантику несколько затушеванной. На основании анализа первого эпизода можно заключить, что признаки влечение к лицу другого пола и ненависть переданы без потерь. Воспроизведение признаков убийство и наслаждение в версии Девечерине более сбалансированное (сохраняется эффект крещендо оригинала), в то время как у Сабо сначала наблюдается потеря признаков, а затем их концентрированная компенсация с акцентом на эротической составляющей. Сабо скрупулезно, порой буквально следует стилю Достоевского, нарушая при этом нормы родного языка. Девечерине больше адаптирует оригинал, оставаясь внимательной к нюансам слова Достоевского, но не нарушая норм принимающего языка. При этом ни в одном из двух переводов первого эпизода не допущено таких искажений, которые могли бы существенно повлиять на трактовку образа главного героя и нарушить логику сюжетных построений. Представление о страсти Алексея Ивановича к Полине как о чувстве, в котором перемешаны полярные эмоции, получит развитие в нескольких эпизодах завязки. Рассмотрим два из пятой главы. Знаете ли вы, что я когда-нибудь вас убью? Не потому убью, что разлюблю иль приревную, а - так, просто убью, потому что меня иногда тянет вас съесть [17. С. 231]. Повтор признака убийство указывает на то, что идея об убийстве Полины постоянно присутствует в сознании героя. В качестве новых штрихов выступают признаки угасание влечения к лицу другого пола, ревность, сильное желание, утрата контроля и аппетит. Комбинация признаков сильное желание и утрата контроля («меня иногда тянет»), выраженная безличной конструкцией, будет использована писателем еще раз в аналогичном контексте как средство, указывающее на то, что герой находится во власти своего чувства к Полине и не может 87 Шатохина А.О., Банченко А.В. Роман Ф.М. Достоевского «Игрок» ему противостоять. Признак утрата контроля реализуется в ряде фрагментов, характеризующих взаимоотношения главного героя с различными страстями: страстью к игре («во мне родилось какое-то странное ощущение» [17. С. 224]), страстью к деньгам («не мог уж отвести от нее (груды билетов и свертков золота. - А.Ш.) моих глаз» [17. С. 296]). Систематическое проявление этого признака в семантической структуре трех концептов указывает на то, что вся жизнь героя подчинена страстям, и он не способен их побороть. Обратимся к переводам этого фрагмента. Признак убийство, выраженный повторяющимся глаголом «убью», в обеих версиях воспроизведен с помощью эквивалента «megolni» (убивать, убить). Признак угасание влечения к лицу другого пола, вербализованный глаголом «разлюблю», передан Сабо с помощью лексемы «kiszeretni» (разлю-бить), которая является просторечной и не свойственна литературному языку XIX в. Данный глагол в венгерском употребляется редко (образуется по аналогии с глаголом «влюбиться»: ср. влюбиться -beleszeretni, где приставка bele- соответствует русской в-, и kiszeretni, где приставка ki- соответствует русской вы-). Девечерине выбирает наиболее естественный для венгерского языка глагол «kiabrandulni» (разочароваться), который контекстуально может передавать значение «разлюбить». Данный глагол соответствует буквально понятому русскому «разочароваться» (ср. abrand - мечта, греза, фантазия, иллюзия) в отличие от «разочароваться, обмануться в ожиданиях, разувериться» - csalodni [6. С. 18, 113, 376,]. Признак ревность («приревную») у Сабо воспроизведен с помощью глагола «feltekenykedni» (ревновать) в будущем времени, у Девечерине - с помощью существительного «feltekenysegbol» (из ревности). Оба варианта позволяют в полной мере передать смысл исходного высказывания, при этом Сабо вновь буквально следует синтаксису Достоевского. Безличная форма «меня иногда тянет» (комплекс признаков сильное желание и утрата контроля) в обоих случаях заменена личным предложением в активном залоге, в результате первый признак воспроизводится в обоих переводах без потерь, а второй -редуцируется. Для передачи подобной пассивной конструкции, когда человеком овладевает и движет желание, оба переводчика использовали выражение «я чувствую, что/будто хочу вас съесть» (пассивность героя призвано выразить наречие «непреодолимо» у Сабо и прилагательное «непреодолимое» у Девечерине). Интересно отметить, что Девечерине использует обычное для передачи подобной конструкции сочетание 88 Компаративистика / Comparative Studies
Зельдхейи-Деак Ж. Эндре Сабо - венгерский популяризатор русской литературы // Венгерско-русские литературные связи. М. : Наука, 1964. С. 126-173.
Гедеон Ш. Краткий обзор истории восприятия творчества Достоевского в Венгрии после 1945 г. // Педагогика искусства. 2016. № 4. С. 161-169.
Lengyel J. Dosztojevszkij-muvek es-irodalom magyarul // Szovjet Irodalom. 1981. № 12. P. 181-192.
Булгакова Н.О., Седельникова О.В. Концептосфера романа Ф.М. Достоевского «Бесы»: к определению базового концепта и его функции в поэтике романа // Вестник Томского государственного университета. Филология. 2018. № 54. С. 125-146.
Шатохина А.О., Седельникова О.В. Концептосфера романа Ф.М. Достоевского «Игрок»: К определению смыслообразующего концепта и его функций в поэтике произведения // Универсалии русской литературы. 8 : сб. ст. Воронеж : Издательский дом ВГУ, 2020. С. 234-248.
Венгерско-русский словарь : 40 000 слов / под ред. Л. Гальди. Москва ; Будапешт : Русский язык; Изд-во Академии наук Венгрии, 1987. 872 с.
Живов В.М. Язык и культура в России XVIII века. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. 590 с.
Лотман Ю.М. О соотношении поэтической лексики русского романтизма с церковнославянской традицией // Из истории русской культуры. М. : Школа «Языки русской культуры», 1996. Т. 4. С. 807-809.
Шатохина А.О. Роман Ф.М. Достоевского «Игрок» в английских переводах : дис.. канд. филол. наук. Томск, 2020. 414 с.
Преподобный Иоанн Кассиан римлянин. Борьба с восемью главнейшими страстями // Добротолюбие : в 5 т. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. Т. 2. С. 23-90.
Преподобный Нил Синайский. О восьми духах зла // Добротолюбие : в 5 т. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. Т. 2. С. 224-259.
Преподобный Ефрем Сирианин. О добродетелях и страстях // Добротолюбие : в 5 т. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. Т. 2. С. 357-359.
Преподобный Иоанн Лествичник. О добродетелях и страстях и борьбе с последними вообще // Добротолюбие : в 5 т. М. : Изд-во Сретенского монастыря, 2010. Т. 2. С. 485-501.
Катехизис католической церкви. М. : Культурный центр «Духовная библиотека», 2001. 673 с.
Касаткина Т.А. «Я великая, великая грешница»: Богословие греха в «Преступлении и наказании» и «Идиоте» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2020. № 1 (9). С. 16-30.
Захаров В.Н. «Православное воззрение»: идеи и идеал // Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений: Канонические тексты / под ред. проф. В.Н. Захарова. Петрозаводск : Изд-во ПетрГУ, 2007. Т. 7. С. 529-544.
Достоевский Ф.М. Полное собрание сочинений : в 30 т. Л. : Наука, 1972-1990.
Dosztojevszkij F.M. A játékos naplója. Fordította Szabó Endre. Budapest : Franklin-társulat, 1925. 218 с.
Dosztojevszkij F. A jatekos. Egy nevetseges ember alma. Forditotta Devecserine G.E. Utoszo Bakcsi G. Budapest : Kisregenyek. Europa Konyvkiado, 1980. 512 p.
Бахтин М.М. Проблемы поэтики Достоевского. СПб. : Азбука; Азбука-Аттикус, 2016. 416 с.
Тихомиров Б.Н. Герои Достоевского в подполье и за рулеткой // Достоевский Ф.М. Записки из подполья. Игрок. СПб. : Вита-Нова, 2011. С. 456-477.
Frank J. “The Gambler”: A Study in Ethnopsychology // The Hudson Review. 1993. Vol. 46, № 2. P. 301-322.
Цыб Е.А. Горячка // Словарь языка Достоевского. Идиоглоссарий. И-М. М. : Азбуковник, 2012. С. 178-179.
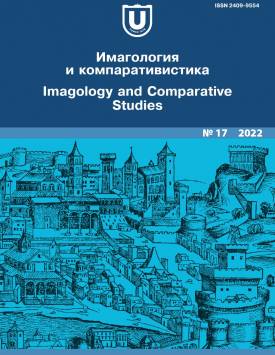

 Вы можете добавить статью
Вы можете добавить статью